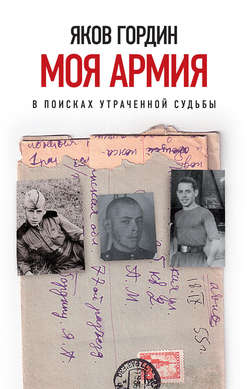Читать книгу Моя армия - Яков Гордин - Страница 1
Оглавление«Память, руководимая волею, память рассудочная и сведения, которые она дает о прошлом, ничего не сохраняют из реального прошлого».
Марсель Пруст[1].
Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова особая воля Провидения! …Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь Вам Богом, что везде буду впереди.
М. Ю. Лермонтов о поступлении в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, из письма к М. А. Лопухиной, октябрь 1832 года[2].
Я думал, что буду писать о себе. Оказалось, что намерение это неосуществимо. Тот юноша 18 лет, чьи письма я решил положить в основу своего мемуара, слишком мало похож на меня – восьмидесятилетнего. Развитие пошло по другому пути.
Я давно не перечитывал эти письма, а когда перечитывал, то не особенно вдумывался в их подспудный смысл, а удовлетворялся их сюжетной стороной. И не старался понять, что же хотел сказать – не своим адресатам, а самому себе – этот мальчик, обдумывавший, стоя на посту зимней ночью под ветром с Охотского моря у какого-нибудь полкового склада ГСМ или гарнизонной гауптвахты, «наполеоновские планы».
Только теперь, читая свои – и в то же время его – письма, я понял, какая странная вещь воспоминания о молодости. (В частности, воспоминания декабристов, с которыми я много имел дела.) Я понял, что это всегда сложное совмещение двух мировидений и невольная попытка подогнать то, дальнее, под свое нынешнее. Это еще и сведение счетов с тем, другим. Насколько точно был выбран курс, направление движения? С точки внешнего психологического сюжета – вполне органично. Иначе как понять постоянные заклинания реальности именами Ницше и Джека Лондона, которые пронизывают письма? (Что, конечно, имея в виду Ницше, не совсем тривиально для человека, окончившего школу через год после смерти Сталина.) Но насколько эта брутальность соответствовала моему – его – предназначению? Что должна была она компенсировать в моем – его – внутреннем устройстве? Теперь подозреваю, что это было некоторым насилием над собственной органикой. Но именно это стало судьбой.
У меня как у воспоминателя есть важное преимущество перед многими мемуаристами – я располагаю доброй сотней армейских писем, которые сохранили мои родители.
Соответствует ли содержание писем реальной армейской жизни тех лет? Не соответствует. Ну, скажем, не совсем соответствует. Я – он – опускал многое, неизбежно сопутствующее армейской специфике. Но я-то все это помню и, соответственно, буду письма комментировать.
Сразу хочу оговориться: в армии того времени не было ничего похожего на то, что потом назвали дедовщиной. Было много грубого и жестокого. Но – другого.
То, что я пишу, не история армии пятидесятых годов. Это история интеллигентного, вполне домашнего мальчика, который решил совместить книжный мир, в котором он жил и в который верил, с миром реальным в его предельном выражении. Таковым ему мыслилась армия. Это была полуосознанная попытка проверить на практике те жизненные принципы, которые так привлекали его в гипнотическом мире книг – Ницше, Джек Лондон, Габриэле д’Аннунцио, Штирнер… Великий принцип сочетания изощренного интеллекта и незаурядных физических возможностей – случай Мартина Идена. Трагическая судьба этого героя представлялась нелепым стечением обстоятельств, но и делала его еще привлекательнее.
Короче говоря, это история эксперимента, определившего мою – его – судьбу.
Но сперва небольшое отступление.
Вспомним блестящую формулу Тынянова: «Есть документы парадные, и они врут, как люди»[3].
Идеальный пример такого документа являет мой военный билет.
Если когда-нибудь кому-нибудь пришло бы в голову поинтересоваться моей биографией и он заглянул в мой военный билет, то в графе «Прохождение службы» прочитал бы:
«в/ч 01106 – нормировщик,
в/ч 11225 – нормировщик».
Этот гипотетический исследователь, знакомый с моими автобиографиями и сведениями обо мне в Интернете, встанет в тупик. Отыскав в том же Интернете данные о в/ч 01106, он обнаружит, что это был «отдельный учебный стрелковый полк», готовивший младших командиров для воинских частей Дальнего Востока и Сибири. Главным образом для пехоты, но, как мы увидим, не только. При чем же здесь, скажет озадаченный исследователь, нормировщик? И будет прав. Никаких нормировщиков в этом полку не было и в помине. И как быть с утверждениями его персонажа, что он был курсантом полковой школы, командиром отделения и помкомвзвода в роте саперов-мостостроителей? Персонаж сочинял свою армейскую биографию?
Дело было так. Демобилизовавшись и вернувшись в Ленинград, я отправился в свой военкомат получать военный билет. Звания офицера, который оформлял документы, я не помню, не помню даже – был это офицер или старшина-сверхсрочник. Помню, что мы были вдвоем в кабинете. Он посмотрел мои документы, спросил – как служилось? где служил? (Как я понимаю, в моей солдатской книжке были обозначены номера воинских частей, но не указаны места дислокации). При этом он, не торопясь, заполнял мой военный билет. Но когда я заглянул в соответствующую графу, то возмутился. Посмотрите, говорил я ему, в солдатской книжке сказано: стрелок-карабинер, стрелок-наводчик ручного пулемета, командир отделения… Нормировщиком я действительно был в в/ч 11225, но отнюдь не все время!
Он терпеливо все это выслушал и спросил: «Ты еще не наслужился?»
Я ответил, что, мол, вроде бы достаточно… «Так вот, – сказал он, – если я напишу тебе – пулеметчик или сапер, то тебя каждые три года будут дергать на сборы. Ты этого хочешь?»
То ли я ему понравился, то ли на него произвела впечатление география моей службы, но он почему-то решил оградить меня от посягательств своего учреждения.
Я не был в восторге от происходившего, но требовать, чтобы он оформлял новый военный билет, у меня духу не хватило. Я махнул рукой и ушел… И в самом деле – меня ни разу не требовали на сборы.
Письма, которые я – он – писал из армии родителям и фрагменты которых намерен представить читателю (оригиналы, надеюсь, будут храниться в моем фонде в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, куда я собираюсь предложить свой архив), письма эти, при всей их сюжетной неполноте, гораздо достовернее официальных документов…
Я точно помню момент, когда понял, что хочу служить в армии. Это было в 1952 году в Литве. Мне было 16 лет. Мой двоюродный дядя, известный вильнюсский врач, снял нам дачу под Вильнюсом в том же доме, где проводила лето его семья. Там были роскошные сосновые леса. Однажды, бродя по лесу, я стал свидетелем тактических учений стрелкового взвода. Несколько десятков крепких ребят в гимнастерках – в руках винтовки с примкнутыми трехгранными штыками – с бодрым криком «ура!» штурмовали небольшой безлесый холм. Потом они отдыхали, сидя и лежа на траве, веселые, разгоряченные… Вот это жизнь!
Я не любил школу, плохо учился по математике и физике, с трудом вытягивая тройки в четверти и в году. Мысль, что после школы надо будет сдавать экзамены в институт, снова учиться, учиться и учиться, все так же жить в нашей большой коммунальной квартире все той же заурядной жизнью, – приводила меня в глубокое уныние. У меня не было возможности стать матросом, как Мартин Иден, странствовать по тайге, как Арсеньев, чьи книги я тоже любил. Был вариант – стать зоологом, жить в лесу, охотиться. Но для этого опять-таки надо было сперва учиться, учиться и учиться…
Армия казалась единственной возможностью вырваться из этой банальной жизни, недостойной того, кто считал себя учеником Лондона и Ницше. Какой мир являет собой армия – тот давний юноша не имел ни малейшего представления, да и не задумывался об этом. Ясно было, что это мир испытаний, мужской мир…
Окончив школу – успешно провалив экзамен по тригонометрии и, соответственно, получив переэкзаменовку на осень, – я, не откладывая, пошел в военкомат. Однорукий майор-фронтовик (война кончилась всего девять лет назад) был чрезвычайно растроган моим энтузиазмом. Я попросил записать меня в артиллерию. Почему – не знаю.
Призыв, несмотря на переэкзаменовку, лишавшую меня возможности подавать документы в институт в обычное время, не был фатальным. Были институты с недобором, куда можно поступить, а потом перейти в другой. Имелись еще какие-то возможности, на которые есть намек в одном из писем, но у меня и в мыслях не было пытаться избежать мобилизации. Я хотел в армию. Очень хотел.
Я сдал тригонометрию в августе. Получил аттестат зрелости. Но не получил военкоматской повестки в первую волну сентябрьского призыва. И снова пошел в военкомат. Меня заверили, что моя очередь скоро наступит. Очевидно, я производил на моего майора несколько странное впечатление. Думаю, что это был единственный случай в его практике, когда парень, явно живущий благополучной жизнью, так рвался в армию.
Теперь наступает очередь писем.
Мы выехали из Ленинграда 14 октября 1954 года. А на следующий день я отправил домой первое письмо.
«Прежде всего я переквалифицировался в бойца бронетанковых войск. И буду теперь танкистом. Меня переквалифицировали еще в казарме. (То есть на сборном пункте в Ленинграде. – Я. Г.) Далее. Куда я еду? Должен предупредить, что сведения нижеследующие получены от сержанта танковых войск, стрелка-водителя Бутенко. Так что сомневаться не приходится. Он наш провожатый и ментор.
Мы едем на Дальний Восток. И не просто на Дальний Восток, а в Сов. Гавань. Сов. Гавань же, насколько я помню из географии, самый восточный пункт СССР. Стоит эта гавань на берегу Тихого океана. В двадцати километрах от границы. Как я еду? Очень мило. В теплушке. В эшелоне таких теплушек десятка три, а народу около двух тысяч. У нас просторно, тридцать три человека и наш сержант. Нары. В три ряда. Две буржуйки и два ящика угля. Одна большая дверь, которую приходится закрывать и открывать всем вагоном, и четыре маленьких окошечка в ладонь (мою).
Ехать будем 25 суток. Вот и все. Привет.
А мне как танкисту дадут большой кожаный шлем и пистолет. Это истина. Сержант сказал. Там уже зима. Лютая. И мне выдадут зимнюю форму. А поедем мы, рабы божии, через Волгу, Ангару, Енисей, Лену, Урал, мимо Амура, по берегу Байкала. Это вам не фунт изюма».
Это и следующее письма с дороги пронизаны восторженным возбуждением. Я понял, как мне повезло. Ведь я мог попасть куда-нибудь в Псковскую или Рязанскую область – большой интерес! – а судьба вела меня на край света, к Тихому океану! Я еще не знал, где мне предстоит побывать…
Нужны два примечания – самый восточный пункт СССР вообще-то не Совгавань, а мыс Дежнева на Чукотке. Знание географии подвело. Но и Совгавань – достаточно экзотическое место. И непонятно – о какой границе я писал. Нет там в двадцати километрах никакой границы. Это явно фантазии стрелка-водителя сержанта Бутенко.
Уже на сборном пункте в Ленинграде я оказался среди нескольких тысяч ребят, как говорится, не своего круга. Это были в основном рабочие парни, армии не боящиеся, но в нее и не стремившиеся. Большинство было с серьезного похмелья. Они обменивались воспоминаниями о своих последних любовных, так сказать, эпизодах. Все это было сдобрено хорошим органичным, хотя и несколько однообразным матом. И тут оказалось, что я, наизусть знавший «Портрет Дориана Грея», взявший с собой для чтения в дороге книгу-эссе Георга Брандеса «Гейне и Берне»[4], по сути своей вполне демократичен. Меня ничуть не коробило и не пугало это новое общество. В конце концов Мартин Иден, прежде чем начитался книг и стал интеллектуалом, провел молодость именно в такой среде.
Во втором письме, отправленном уже из Кирова, юный испытатель судьбы не без восторга описывает это новое для него общество и атмосферу путешествия.
«В эшелоне не двадцать вагонов, как я, введенный в заблуждение, ошибочно сориентировавшись, писал, а более сорока.
А через Амур поедем на пароме.
Едем шумно, гамно. Весь эшелон вопит различные песни, истошным воем пугая мирно возделывавших свои поля пейзан. Тащат все, что под руку попадется. Кормят два раза в день. (В эшелоне были вагон-кухня и вагон – склад провианта. – Я. Г.) Кашей пшенной и овсяной, с луком, мясными щами с преизрядным количеством перца. Зверская пища, но ничего, вкусно, сытно. Замерзаем помаленьку. День и ночь, как первобытные люди, поддерживаем огонь в буржуйках. А топим углем, большею частью заимствованным в проходящих мимо составах. Тащат новобранцы картошку с огородов, переворачивают ларьки на станциях. И т. д. Одним словом, трехтысячная татарская орда, только способ передвижения несколько модернизированный. Да и то не очень. Навряд ли в телятниках уютнее, чем в монгольских кибитках. Но в общем и целом неплохо. Прелесть новизны, масса свежего воздуха и многое другое!»
Относительно того, что творилось по ходу движения эшелона, автор письма не преувеличивал. Скорее наоборот. Когда наш эшелон останавливался на запасных путях какой-нибудь станции – все вокруг пустело. Милиция не показывалась.
Разумеется, не весь эшелон состоял из башибузуков. Но эта группа была чрезвычайно активна. Я помню клич, прозвучавший, когда мы переезжали Уральские горы: «Берегитесь, сибирские жиды! Ленинградские хулиганы едут!»
Мое восторженное настроение отнюдь не ослабевало.
«Когда прибудем на место, то писать точный адрес будет запрещено. Как сообщил наш ментор, часть, в которую мы едем, с недавних пор засекречена – перевооружается новыми танками. Так вот. Стоять я буду у моря твердой ногой, или, точнее, у Тихого океана около Сов. Гавани. Мне дадут комбинезон, шлем, пистолет, как я уже сообщал… Играю в домино и карты. Очень весело. Между прочим, одна миска на двоих. Это не слишком эстетно. Ну, ничего. Я ведь не Дориан Грей. Уайльд и сам-то в тюрьме сидел. И ничего. Даже отлично. Еще и стишки пописывал. А я письма».
Это было поразительное путешествие. Помимо всего прочего надо помнить, что снабдить три тысячи человек не только постельным бельем, но и простыми матрасами было весьма затруднительно. Этого и не было. Мы спали на голых нарах, подстелив что у кого было. Я спал на своем демисезонном старом пальто, подложив под голову сверток из запасного белья. Но спалось – прекрасно.
Главным, конечно же, для меня была смена природных поясов. В домино и карты я играл мало. Большую часть времени проводил у открытой двери теплушки, сидя на краю и свесив ноги. Мы, собственно, проехали насквозь с запада на восток всю гигантскую страну. И наблюдать, как привычные среднерусские пейзажи сменяются приуральскими степями, Уральскими горами, тайгой, потом опять забайкальскими степями, – было гипнотически увлекательно.
Поскольку спать можно было в любое время, то, отоспавшись днем, я любил сидеть у двери ночью (разумеется, до поры, пока похолодание не заставило на ночь дверь закрывать). В полной тьме вдоль летящего состава тянулся шлейф паровозного дыма, пронизанный горящими искрами. От этого зрелища невозможно было оторваться.
В Восточной Сибири стали постепенно отцеплять по несколько вагонов. Не вся орда предназначалась Дальнему Востоку.
После большого перерыва я бросил на какой-то станции последнюю открытку с пути – 2 ноября 1954 года: «Недалеко от Хабаровска отцепили три вагона с танкистами. Поедем сначала на Комсомольск, а затем дальше. Куда, не знаю. А в остальном, прекрасные маркизы, все хорошо, все хорошо. Танкистам ура!»
Через три дня наши вагоны остановились на станции Ванинского порта – Совгавань-5. Это было поздно вечером. Наш стрелок-водитель Бутенко как-то незаметно исчез, не попрощавшись, а нас встретили офицеры с малиновыми пехотными погонами. Стало ясно, что ни комбинезона, ни шлема, ни пистолета мне не видать.
Нас построили в колонну, и, пройдя несколько километров, мы оказались в расположении пехотного полка.
Сравнительно недавно я наткнулся в Интернете на сведения об этой части. Живущий в Комсомольске-на-Амуре писатель А. Н. Сесёлкин выпустил книгу по истории Совгавани – с момента основания и до наших дней. Там нашлось несколько абзацев, посвященных «отдельному учебному стрелковому полку в/ч 01106» и его командиру гвардии полковнику Хотемкину.
Неизвестно, где формировался полк, но передислоцировали его в район Ванинского порта в марте 1954 года, то есть за полгода до моего там появления. Полк был брошен в тайгу и сам строил свой городок. К ноябрю того же года строительство еще не закончили. В частности, не была построена столовая. О том, что это для нас значило, – позже.
Итак, путешествие закончилось, и я оказался в пространстве, которое сыграло, с уверенностью могу сказать, определяющую роль в моей судьбе…
Встретили нас не очень гостеприимно. Поскольку была уже ночь и полковые службы не действовали, нас поместили на ночлег в недостроенную казарму. Разумеется, неотапливаемую. А это был ноябрь на севере Дальнего Востока. Ночь мы провели на полу.
Эта ночь была для меня первым сигналом. Та яркая вильнюсская картинка – солнечный сосновый лес и веселые бодрые ребята с винтовками, – которая прочно ассоциировалась у меня с армейской службой, стремительно тускнела…
Письмо от 7 ноября 1954 года: «Ехал я, ехал, отмахал 12 т км, и вот приехал. Выезжал артиллеристом, ехал танкистом, а приехал в стрелковый полк и стал пехотинцем. Попал в полковую школу или учебный батальон, и теперь не кто-нибудь, а курсант. Учиться не то 9, не то 11 месяцев. Начнем учиться до 1 декабря… Точный адрес писать не могу, к сожалению, запрещается. В общем, Дальний Восток такой дальний, что дальше уж некуда. Получу звание сержанта, отправят, возможно, еще дальше куда-нибудь на Сахалин или Курилы. Кормят хорошо – много. Здесь, видите ли, по какой-то причине в воздухе не хватает 17 % кислорода, ну, это и компенсируется полуторным пайком». Относительно нехватки кислорода – это, скорее всего, была местная легенда, а паек был полуторный, как нам объяснили, потому, что эти места входили в перечень «районов, вредных для проживания». У нас и получка была полуторная – не 30 рублей, а 45.
Насколько эта «вредность» была реальна – не берусь утверждать, но мы на первых порах ее почувствовали. 19 ноября я писал: «В Ленинграде, наверное, слякоть, а все-таки прекрасный город, черт возьми. А я, дурень, все ругал его климат. Здесь не то, и ветерок какой-то режущий, неприятный, и кислороду мало. Перемена климата очень резкая, это вначале дает себя чувствовать. Вялость какая-то и тяжелая голова. Почти у всех. Но постепенно проходит, принимаем надлежащий вид, привыкаем».
Не знаю, как для моих сослуживцев, а для меня отнюдь не перемена климата была главным. Главным и на первых порах сокрушительным был контраст между представлениями об армии и реальным армейским бытом.
Забавный, но характерный эпизод. Нам выдали постельные принадлежности – матрасы, простыни, одеяла. Все как положено. Кроме подушек. Подушек не было. Старшина вручил нам наволочки, велел отправиться в столярную мастерскую и набить их стружкой. Беда была в том, что в мастерской побывало уже множество обладателей пустых наволочек и стружек почти не осталось. Осталась в основном мелкая щепа. Ею мы и набили наши наволочки. Не скажу, что это было мягко и удобно, но постепенно щепки как-то улеглись, и спал я на этой подушке прекрасно.
Служба началась с мытья полов в огромной казарме, вмещавшей две роты – порядка трехсот человек. Это было не наказание, а необходимость. Мы вселялись в свежевыстроенную казарму, и надо было приводить ее в порядок. Кроме того, мы занимались отделкой клуба.
19. XI.1954. «Я уже переменил добрый десяток профессий. Сейчас выступаю в амплуа шпаклевщика. Приходится иметь дело с мелом в порошке. Приходишь в казарму, как в муке вывалянный. Мел в носу, в глазах, в глотке».
Все это усугублялось отвратительной погодой – низкое темное небо, сырой ветер с Татарского пролива.
Но самым тяжелым в эти первые недели было утреннее пробуждение. Не то чтобы сна не хватало – мы спали положенные восемь часов. Но просыпаться не хотелось, а тебя в шесть часов утра резко вырывала из сна громогласная команда дежурного по роте: «Рота! Подъем!» Ее подхватывали уже вставшие и одевшиеся сержанты: «Взвод! Подъем! Отделение! Подъем!» Через минуту взвод должен был стоять – в две шеренги – в центральном проходе казармы. За эту минуту надо было натянуть брюки, сапоги, правильно намотать портянки: намотаешь неправильно – сотрешь ноги на утренней пробежке. В первые недели – в нижней рубашке. Это называлось «форма 20». Затем команда: «Оправиться!» Уборные находились метрах в ста от нашего конца казармы, естественно, на улице. Грандиозные сооружения, рассчитанные на три сотни солдат…
Дальше начиналось главное – зарядка, основную часть которой составлял бег.
Я описывал его уже 18 декабря, будучи в совершенно ином состоянии, чем в первые недели.
«Зарядка – это бег километра на три по скверной, обледенелой проселочной дороге. Сие мероприятие проходит в весьма романтической обстановке – при свете звезд, среди блестящих глубоких снегов. Спуски, подъемы, лед. Бежим в шинелях, надетых на нижние рубашки. Сапоги скользят. Если бы бежал один, а не в строю, то, наверно, шлепнулся бы, однако бежишь. Падать нежелательно, об тебя споткнутся сзади бегущие, и получится свалка. Иногда выкидываешь такие дикие антраша в духе экзотических танцовщиц, и снова на ногах. Сначала эти бега меня не особенно вдохновляли, было трудновато, а теперь все в норме. Бежишь, на звезды любуешься. Здесь есть одна очень интересная звезда. Утренняя звезда, ночью ее нет. Обычно звезды синевато-белого, электрического цвета, а эта совершенно золотая, ясного светло-золотого цвета. Красиво».
Выражение «трудновато» не совсем соответствовало действительности. Первые недели этот утренний бег был сущим мучением. Это было не просто крайнее напряжение, но – перенапряжение сил, когда сердце, как говорится, выскакивало из груди, а дыхания с какого-то момента вообще не было… И, однако, постепенно все действительно приходило в норму. Организм приспосабливался. Правда, было одно обстоятельство, несколько облегчавшее это испытание. Время от времени звучала команда: «Взвод! Шагом марш!» И пару сотен метров мы шли шагом, восстанавливая дыхание. А затем снова: «Взвод! Бегом марш!»
9. I.1955. «Я, как всегда, процветаю. Здоров. Сегодня у нас был кросс на 1000 метров, проще говоря, на километр. Из четырех взводов (Состав роты. – Я. Г.) наш занял второе место. Бежали в шинелях, шапках. Для того чтобы получить ГТО 2-й (т. е. высшей) степени, нужно пробежать за 3 мин. 25 сек. Я, увы, на 2–3 секунды опоздал. Но надо учесть то, что 3.25 – это норма для трусов, тапочек, маек. Для шинелей, сапог и ушанок уложиться в этот срок сложно. Когда я бегал на ту же дистанцию в школе, я бежал дольше и устал куда больше, несравненно больше. Пятикилометровые ежедневные утренние бега неплохо делают свое дело. Домой я вернусь неплохим бегуном. Так что о здоровье моем не тревожьтесь… Да, вот что. Та таинственная утренняя звезда, о которой я вам писал, – не кто иная, как Венера. Я, помню, часто любовался на нее в Михайловском. Ее можно было видеть из окна нашего дома. Того, где живет Гейченко. Она каждый вечер всходила над лесом. Там она вечерняя, а здесь утренняя звезда. Вернее – планета».
Бегу неслучайно придавалось такое значение. В письме от 9 января 1955 года: «Нам постоянно твердят, что в условиях атомной войны ноги будут играть весьма важную роль». Что это значит – нам не объясняли.
Нас настойчиво готовили к войне. Судя по всему, командование – сверху донизу – верило в ее неизбежность.
1. I.1955. «У нас проводят специальный курс противоатомной защиты. Армию готовят именно к атомной войне, это не то что красной, пунцовой нитью проходит через все занятия… На днях я был на собрании комсомольского актива полка. Собрание шло в общей сложности часа 4–5. Доклад делал гвардии полковник Хотемкин, командир нашей части, зачитал приказ Малиновского (Командующего округом. – Я. Г.), общий смысл которого заключался в следующей цитате: „Беспощадно бороться с послаблениями и упрощенчеством в практике боевой и политической подготовки войск, памятуя, что нам необходимо учиться воевать в сложных и трудных условиях с коварным, умным и сильным противником“».
Гвардии полковник Хотемкин был фигурой весьма примечательной. Высокий, массивный, с отличной выправкой, он служил в армии с 1918 года, то есть с Гражданской войны. Во время Великой Отечественной, как нам рассказывали офицеры, командовал дивизией. Не стал генералом и получил в мирное время хотя и особый, но все же – полк, потому что не имел никакого специального военного образования. Практиком, профессионалом он, судя по всему, был крепким.
У него была любимая идея – пехотинец не должен ходить пешком. Пехотинец должен бегать. Отсюда и многокилометровый утренний бег, судя по моим письмам, постепенно увеличенный до пяти километров. И вообще мы и в самом деле ходили мало. Мы бегали в клуб, в кино по воскресеньям, бегали в нашу «столовую» под открытым небом, бегали в сопки к месту тактических занятий. Еженедельный поход в баню в поселок порта Ванино походил скорее на марш-бросок: сто – бегом, сто – пешком.
О полковнике ходили легенды. Говорили, что он, несмотря на свой вес и возраст, крутит «солнце» на турнике и стреляет с одной руки из трехлинейки. Насколько это соответствовало действительности – не знаю, но существование этих легенд говорило о необычности фигуры комполка.
Чуть отвлекаясь, надо сказать, что наша баня – это особый сюжет. Дело не в том, что там было холодно, горячей воды не хватало, времени на мытье нам давали мало – мыться надо было так же стремительно, как и производить все остальные действия. Не это главное. К бане – одноэтажному кирпичному строению – примыкало необозримое пространство, обтянутое колючей проволокой, которая шла непосредственно от угла бани. Один вход, которым мы и пользовались, был вне проволоки, а второй – в глубине банного помещения, наглухо закрытый, выходил в огороженное пространство. За проволокой ходили какие-то серые, сутулые – по теперешнему зрительному воспоминанию – люди в ватниках. Я тогда совершенно не задумывался, кто это такие. И гораздо позже сообразил, что баня эта была лагерная, а люди в ватниках – заключенные. Просто полковую баню построить не успели и водили нас в эту.
И вообще знаменитый Ванинский порт – эти страшные для сотен тысяч зэков морские ворота в мрачный мир Колымы – никак не ассоциировался у меня с террором, в частности с судьбами двух моих дядей, старших братьев отца… И великую песню политзэков «Я помню тот Ванинский порт…» я услышал только на следующий год, далеко от этих мест, в южном Забайкалье. Ее вдруг запел уголовник по прозвищу Голубчик, когда мы ехали куда-то по монгольской степи на студебекере, мощном американском грузовике, наследстве ленд-лиза военных лет…
Кстати, свежевыстроенный тогда городок, в котором жили наши офицеры с семьями, – он примыкал к расположению части, – существует до сих пор и называется поселок Хотемкино. Об этом говорится в той же книге Сесёлкина.
Рассказ о докладе комполка я закончил фразой: «Беспощадно бороться с послаблениями. Это вывешивается у нас повсюду. Разумеется, гайку теперь подвинтят круто. Что ж – солдаты».
Мы не знали, что дело тут не в суровости маршала Малиновского. В это время министром обороны стал призванный Хрущевым на вершины власти Жуков. И он подтягивал армию.
Казалось бы, завинчивать гайку туже, чем она была завинчена в в/ч 01106, было некуда. Отдельный стрелковый полк жил идеально по уставу. Офицеры и сержанты обращались к рядовым только на «вы». Распорядок дня, о котором речь дальше, выполнялся неукоснительно. Сержант был царь и бог. Любой приказ должен был выполняться и выполнялся «беспрекословно, точно и в срок». Все, начиная от белизны подворотничка и до геометрического совершенства застеленной койки, от блеска пуговиц до блеска сапог, от четкости отдавания чести до умения строевым шагом подойти к помкомвзвода перед вечерней поверкой и доложить: «Товарищ сержант! Боевое и вещевое в порядке!» – все должно было соответствовать идеалу.
Если ты в редкие свободные минуты сидел на табуретке в проходе между койками, а по центральному проходу прошел сержант – свой ли, чужой ли – и ты, не заметив его, не встал, а сержант заметил, то тебя ожидала команда «встать-сесть» этак раз пятьдесят.
Разумеется, существовала круговая порука – за промахи одного отвечал весь взвод. Средство было действенное.
Однако оказалось, что резерв для «завинчивания» и борьбы с послаблениями все же был. Реально он выразился в частых ночных тревогах, когда среди ночи в казарму вбегали командиры рот и гремела команда: «Рота! Подъем! Тревога!» Это были батальонные учения. Весь батальон – две казармы, четыре роты, порядка шестисот человек, с оружием и выкладкой, колонной по три, узость дорог и в тайге диктовала характер построения, – бежал в тайгу и там, разбившись на взводы, проводил тактические занятия. После возвращения в казарму досыпали, сколько оставалось времени, а в 6 часов: «Рота! Подъем! Взвод! Подъем!..» И день шел своим чередом…
Но все это было позже, а теперь надо ненадолго вернуться к первым неделям моего пребывания в этом новом мире.
Очевидно, контраст между ожидаемым и реальным вызвал у меня в первые дней десять что-то вроде депрессии. Иначе я не могу объяснить письмо, которое написал 12 ноября 1954 года и за которое потом извинялся. Да и теперь, через шестьдесят лет, перечитывая его, испытываю тяжелую неловкость. – «Здравствуйте, дорогие! Привет от вашего дальневосточного родственника. Как поживаете? Я здесь служу: бегаю, таскаю, копаю и т. д. Что и говорить, свалял ваш сын грандиознейшего дурака. Надо было, конечно, представить справку из вечерней школы и не рыпаться. Тогда, возможно, и не тронули бы меня. Ну да теперь поздно жалеть. Назвался груздем, полезай в кузов. Вот и лезу. Приходится иногда трудновато, ну да ничего. Довольно тоскливо здесь, по вам скучаю все-таки немного. Родственники как-никак. И живу больше в Ленинграде, чем здесь. Икается вам, должно быть, крепко. Вспоминается, например, такая картинка: Яков Гордин, ученик в отставке, встает утром часов в 12, не торопясь одевается (здесь на одевание и раздевание дается по одной минуте), повалявшись предварительно полчасика и больше. Хорошо завтракает и затем, надев коричневый пиджак, идет на прогулку. После чего отправляется в Эрмитаж или в Публичную библиотеку, где занимается, ну, скажем, историей живописи. (Между прочим, так оно и было. – Я. Г.) Вернувшись домой и пообедав, час-другой переводит бумагу и чернила, а там ужинает и ложится спать, почитав на сон грядущий любимое место из „Д. Грея“ о драгоценных камнях. Иногда, впрочем, перед сном он гулял по Невскому. И так до 14-го числа. Недурно. Контраст велик. И очень… Самое неприятное во всей этой истории – это то, что попал в пехоту. Здесь тяжелее всего».
Идиллическая картина летних месяцев между окончанием школы и призывом не совсем соответствует действительности. Это – мечтания. Помимо прочего я занимался тригонометрией, чтобы получить аттестат. Кроме того, много времени мы проводили втроем с друзьями – Борей Иовлевым, моим одноклассником, и Юрой Романовым, Бориным соседом.
У Юры были отдельная квартира и пианино, на котором он лихо играл. Разговоры были сугубо философические. С удивлением вспоминаю, что мы всерьез обсуждали «Что делать?» Чернышевского и, в частности, опыт Рахметова.
В апреле 1955 года Юра прислал мне стихотворение, посвященное этому замечательному лету. Оно называлось «Трое в лодке. По мотивам „Ариона“».
Было трое на челне:
Ницше, Цфасман, Пифагор –
Были счастливы вполне,
Не бывало драк и ссор…
Но поднялся страшный шторм,
Ветер мрачно завывал,
Не блюдя приличья норм,
Налетел девятый вал.
Развалился утлый челн,
И поплыли с этих пор
На «авось» по воле волн
Ницше, Цфасман, Пифагор…
Обо мне было сказано: «Ницше сгиб в пастях акул. За неделю или две…»
Цфасман – это, разумеется, музыкальный Юра, Пифагор – знаток математики Боря.
Боря поступил в медицинский институт, Юра, который был на год меня моложе, – в какое-то училище. «Я теперь металлист», – писал он мне. (Через несколько лет он таки попал в армию и отслужил в железнодорожных войсках.)
«В пастях акул» я не «сгиб», но первые недели мне было тошно, как и явствует из цитированного письма.
Письмо это было написано через неделю после прибытия в полк, но уже 8 декабря 1954 года я писал: «Не беспокойтесь – я снова на коне. Первые дни было довольно тоскливо, кроме того, я немного испортил в конце дороги желудок, и вот меня, пардон, прослабило двумя идиотскими письмами: 1-м и 2-м. Никогда себе не прощу, что позволил себе раскиснуть. (Фи, что за стиль – два слова „себе“ в одной фразе!) Не принимайте этот скулеж во внимание».
Тон писем постепенно стал спокойный и информативно-деловой.
В том же письме от 12 декабря: «Бабушка, милая, не беспокойся за своего внука, он здоров, как табун лошадей. И опасность замерзнуть ему не грозит. Он обмундирован, как положено солдату, а уж на учении в самый страшный холод жарко, как после бани. Приходится много и быстро двигаться, и не налегке, а с оружием, лопаткой, противогазом и т. д. Да и вообще никаких „жутких“ морозов здесь нет, я ведь живу на берегу океана. Ниже –30° не бывает… Очень мало теперь времени. Занимаемся строго по расписанию. Так называемого „личного времени“ в день остается час, и за этот час надо успеть и подворотничок постирать и подшить, и сапоги начистить, и пуговицы надраить, да мало ли что надо… Я вот пишу, а сержант играет на гармони „Клен кудрявый, клен кудрявый, лист резной…“ Резной-то он, может, и резной, а писать мешает».
1
Пруст М. В сторону Свана. В поисках за утраченным временем. Пер. А. А. Франковского. Л., 1934. С. 50.
2
Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 4. Л., 1981. С. 375.
3
Тынянов Ю. Как мы пишем / Как мы пишем. Л., 1930. С. 80
4
Брандес Г. Людвиг Берне и Генрих Гейне. СПб., 1899.