Знание и окраины империи. Казахские посредники и российское управление в степи, 1731–1917
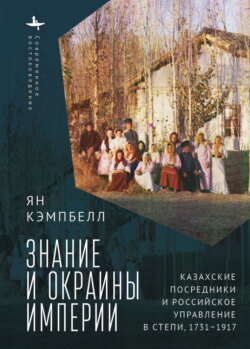
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Ян Кэмпбелл. Знание и окраины империи. Казахские посредники и российское управление в степи, 1731–1917
Благодарности
Введение
Власть, знания и российская экспансия
Казахские посредники в историческом контексте
Посредники, их деятельность и власть
Источники
Несколько слов о сравнительном методе
Краткий обзор глав
Глава 1. Благими намерениями близорукого государства. Знакомство с Центрально-Евразийской степью, 1731–1840
Агенты, источники, сети: как познать окраину империи
Прошлое
Настоящее: земля
Настоящее: люди
Глава 2. Информацинная революция и административная реформа, ок. 1845–1868 гг
Новые институты и новые отношения
Формирование Степной комиссии
Земля и люди: введение оседлости и цивилизации в степи
Местные институты и цели метрополии
«Истинный ислам» и конфессиональная политика
Временное положение 1868 года: конец или начало?
Глава 3. Имперская биография. Ибрай Алтынсарин (1841–1889) как этнограф и просветитель
Годы становления: язык и этнический партикуляризм
Этнография: выработка концепции «казахскости»
Обучение и воспитание: казахская идентичность для империи
Образование, среда и образ жизни
Парадоксы власти
Глава 4. Ключ к мировым сокровищницам «Русская наука», краеведение и цивилизационная миссия в Сибирской степи
Неудачные попытки сближения
Пространства сближения
Переселение и колонизация: новый этап
Отсталость: двустороннее формировании идеи
Каналы перемен
Земледелие и адаптация
Совершенствование скотоводства
Глава 5. Нормирование степи. Статистика и политика переселения при царизме, 1896–1917
Первые шаги: предпосылки экспедиции Ф. А. Щербины
Экспедиция Щербины: патернализм или технократия?
Трещины в броне
Новые цели, новые пути
Кризис системы норм и излишков: Семиречье, 1905–1909
Новые нормы для новой эпохи
Глава 6. Двойной провал. Эпистемология и кризис колониальной империи поселенцев
Эпистемологические основы переселения, или На минутку ложь стала правдой
Прогресс, гражданственность и «третьеиюньская» система
«Достойны… звания граждан великой России»: адаптация к переселению и бесправию
И пришло разрушение… Война и восстание
Заключение
Источники
Неопубликованные источники (архивные материалы)
Опубликованные источники
Библиография
Отрывок из книги
Понадобилось бы отдельное приложение к этой книге, вознамерься я перечислить всех, кому обязан ее появлением в итоге десятилетия трудов. Постараюсь назвать самых значимых из них. Если вас я здесь не упоминаю, знайте, что это сделано намеренно, по сугубо личным причинам.
Разные организации то и дело платили мне только за то, чтобы я сидел и читал, с надеждой, что в конце концов я что-нибудь напишу. В Мичиганском университете полный пакет финансирования от исторического факультета включал несколько стипендий по иностранным языкам и региональным исследованиям. Грант программы Fulbright-Hays DDRA[1] дал мне возможность провести исследования в России и Казахстане в 2008–2009 годах. Аспирантская стипендия в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета открыла мне просторы для нового общения и распахнула дверь в сокровищницу – библиотеку Вайднера. Администрация Калифорнийского университета в Дейвисе дала мне постдок, присовокупив к нему щедрый стартовый пакет, за счет чего я смог еще два раза поработать летом в российских архивах. Я одновременно благодарен за полученные возможности и сожалею о том, что нынешнее поколение аспирантов не имеет к ним такого же доступа.
.....
Подавляющее большинство казахов, наиболее сильно пострадавших от переселения, не были ни авторами, ни читателями журналов, в которых приводились эти аргументы. Но у них имелись свои способы выразить собственное мнение; наиболее ярко это проявилось во время Среднеазиатского восстания в 1916 году. Причинами восстания в равной степени послужили бездарно введенная военно-трудовая повинность казахов и других жителей Средней Азии (обычно не подпадавших под призыв на воинскую службу), изменение привычного образа жизни и ухудшение экономического положения кочевников, вызванное переселением. Первое показало, что попытки царского правительства взаимодействовать с казахскими посредниками провалились на всех уровнях; последнее стало результатом несостоятельности статистических данных, на которые так уверенно опиралось переселение. Подобно тому, как британское государство в Индии после мятежа укрепляло свои позиции, но при этом игнорировало некоторые структуры, к которым прежде имело непосредственное отношение, проводники царской политики в степи дистанцировались от полезных и важных способов ее познания с катастрофическими для этого последствиями [Bayly 1996: 348–350].
Восстания в Средней Азии подавлялись достаточно быстро, где бы они ни вспыхивали, и влекли за собой карательные кампании против кочевников. Трудно сказать, что бы произошло, если бы вскоре после восстания 1916 года в Петрограде не произошла Февральская революция; по некоторым признакам можно предположить, что меры должны были быть исключительно жесткими. Но революция случилась; восторженный отчет о февральских событиях и призыв к поддержке нового правительства, появившиеся в мартовском номере казахской газеты «Цазац», нашли отклик у многих интеллектуалов [Субханбердина 1998: 366–368]. Теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что режим, который после Гражданской войны будет установлен на территории будущей Казахской ССР, вряд ли окажется для интеллектуалов или простых казахов намного более благоприятным, чем предшествовавший[18]. Однако, как и во многих других регионах империи, к февралю 1917 года в Казахской степи царский режим настолько сильно оттолкнул от себя потенциальных союзников, что многие уже не захотели его защищать.
.....