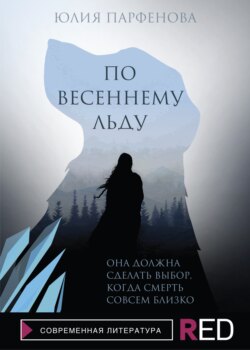Читать книгу По весеннему льду - Юлия Парфенова - Страница 1
ОглавлениеТома сидит с бабушкой около лампы. Бабушка читает вслух сказку, где одиночество мальчика-сироты превращается в радость, а вместо старого парка с грязными бутылками, вокруг расцветает волшебная страна с бесчисленными кустами роз. Нарисованные розы переплетаются со строчками, украшая книжные листы, а Тома, прижавшись к бабушке смотрит на картинки и мечтает. От старушки пахнет шерстяным платком и лекарствами, и немного жарко от яркого света стеклянной перевёрнутой груши с ослепительной нитью посередине. Лампа старая, с жестяным полукруглым верхом, выкрашенным оливковой краской. Для красоты на ней возложена аккуратная, связанная крючком белая накидка. Там, где у лампы сверху горит круглый блестящий шарик, в накидке имеется дырочка. Бабушка всё делает с умом.
Тома очень хочет спать, глаза просто слипаются, а мысли о «завтра» и очередном школьном дне, похожем на все предыдущие, как перечень предметов в дневнике, заставляют цепляться за строчки из книжки мёртвой хваткой. А может, заставляет цепляться что-то другое. Тревога растёт, становится страшно. Бабушкин голос меняется, делается то тихим и низким, то высоким и тонким. Тома смотрит на картинку, где луна, с тенью месяца на круглой щеке, грустно поливает светом пену цветущего сада, и вдруг понимает – рядом уже не бабушка. Свет лампы отражается от белой маски с тёмными неровными пятнами глазниц, губы, укутанные мягкими тёплыми морщинками, превратились в сомкнутую тёмную линию, и всё это неподвижно застыло в раме белого платка. Маленькая Тома боится пошевелиться, потому что, пошевелись она, и эта страшная гостья, заменившая бабушку, откроет глаза. Девочка пытается встать, но тут на пол падает вязальная спица, и звон этой спицы отзывается в груди страшной болью потери…
Задыхаясь, Тома проснулась. Пот заливал лицо, футболка на спине намокла. У соседей что-то невыносимо грохотало, разбивая утреннюю тишину на неровные уродливые осколки. Даже здесь, в своём доме за городом, не было покоя!
Она прислушалась и подумала, что весной всё громче. Громче орут птицы, громче играет музыка, громче хохочут подростки на улице; все звуки словно многократно усиливаются невидимым рупором. И этот страшный фоновый звон весны, это майское буйное крещендо как будто продолжало ужас её сна. Всё внутри разлаживалось, мысли начинали путаться, непонятная тревога усиливалась. Тома и так была натурой замкнутой и тревожно-мнительной, а весной и вовсе чувствовала себя не в своей тарелке. И всё время крутилось в голове: «Весной я болен…». Это немного утешало – не одна она такая, а в хорошей компании!
Тома села на кровати и выглянула в окно, отведя в сторону задёрнутые шторы. По соседскому участку бегал чёрный с подпалинами щенок, что-то у него было зажато в зубах. Она не могла разглядеть, что именно. Пустая банка из-под краски, что ли… Щенок периодически резко мотал головой, тряс банку и задевал ею о красивые литые перила соседского крыльца. Раздавался резкий лязгающий звук.
«Ясно…» – обречённо пробормотала Тома, а за дверью спальни недовольно коротенько и утробно гавкнул на своём матрасике сонный Баронет. Его тоже разбудили. Матвей уже спустился вниз, а Баронет, увидев, что хозяйка проснулась, торопливо подошёл и сунул тёплую лобастую голову ей под руки. Тома поцеловала пушистую белую макушку, потрепала любимцу мягкие уши и вздохнула. Странно побаливала голова, словно маленькие искры чертили завитушки под кожей. Тяжёлое чувство после кошмара начало таять как серпик месяца в светлеющем небе. За лесом шумели на шоссе машины, солнце уже залило ярким золотом стену соседнего дома. Утро начиналось.
Они перебрались за город недавно; небольшой посёлок располагался около леса, после леса начиналось поле, с длинной дорогой, которая поднимаясь и сбегая с холмов, вела к глубокому оврагу. Дом выбрали небольшой, но уютный, правда заросший высокой травой и ромашками двор нуждался в благоустройстве. Единственный член семьи, которого двор с ямами и пушистый, с терпким лекарственным ароматом ковёр ромашек вполне устраивал, был золотистый ретривер Баронет, любимец семьи и обладатель роскошной шерсти светло-палевого, почти белого окраса. Переезд состоялся уже несколько месяцев назад, но Тома до сих пор чувствовала острую радость от близости чудесного хвойного леса, вечеров около горящего камина, ночного дробного стука дождя о черепицу крыши, запаха мокрой травы из открытого окна…
В ванной тоже громыхнуло. Упал какой-то небольшой, но тяжёлый предмет, затем последовали приглушённые чертыхания – встал сын. И, по обыкновению, опаздывает на занятия. Снизу, из кухни, поднимался аромат свежесваренного кофе, это собирался на работу Матвей. Тома почувствовала угрызения совести – муж сам себе стряпает, а она валяется.
Она рывком поднялась, но осталась сидеть в кровати, потому что невесть откуда подкатила тошнотворная слабость. Тома пересилила себя, умылась, поглядывая в зеркало на бледное лицо с припухшими веками, спустилась вниз и взяла инициативу в свои руки. Матвей облегчённо уселся за стол и уткнулся в мобильник. Его затылок, казалось, рассматривал Тому с молчаливым неодобрением. Тома вздохнула.
– Мы видимся с тобой полчаса утром и час вечером, – горько констатировала она. – И ты предпочитаешь мне свой мобильник. Лёшка, кстати, с кем-то странным подружился. Мне кажется, это девочка, только я пока не спрашивала, кто. Слышала, как он тихонько по телефону с ней разговаривал. Они какие-то видео про мемориальные страницы в сети смотрят, Лёшка мне с умным видом про проспективную память вещал… Ну, тяга к темам смерти у подростков всегда, это понятно, но в такой вот заумной форме… не знаю даже… тревожно мне. Дизайн для страниц памяти… И, ты заметил, как он похудел? Дёрганый какой-то, поздно ложится очень, глаза на мокром месте… Он так на музыку реагирует?
Матвей посмотрел на Тому затуманенным взглядом; он занимался – конференции и встречи с иностранными коллегами требовали совершенствования коммуникативного английского. Английские фразовые глаголы явно побеждали её житейские излияния.
– Слушай, мать, тебе всегда тревожно! Ты же волнушка у меня, всегда говорю. Я целый день в клинике на авральном режиме, могу хоть утром и вечером почитать или посмотреть что-то интересное? Лешка взрослый парень, пятнадцать лет уже. Ничего с ним не случится. Себя вспомни в юности…
Тома вспомнила хипповскую длинноволосую юность, шатания с этюдником по городам и весям, сводившие с ума нехороших конформистов, предков-домоседов, и усмехнулась.
– Да, отливаются кошке мышкины слёзы. Мои бедные родители сполна хлебнули. Что же я для себя-то курортного режима желаю…
Матвей смягчился, отложил телефон, и сказал:
– Давай, и правда, попьём кофейку вместе. Я тут такое интересное видео смотрел, про коллективизацию… А что такое проспективная память?
– Это, ну вроде как память о будущем, о намерениях… Если речь идёт о страницах мемориальных, там можно заранее распорядиться своим контентом после смерти… Тем, что будет выкладываться.
– Жуть, – сказал Матвей. – А я-то наивный полагал, что хуже всего эти «синие киты». Или «синий кит». Ну, о чём все кричали…
– Не совсем жуть, – возразила Тома. И с умным видом добавила: – Всё сложнее.
Матвей рассмеялся, они уселись пить кофе, и следующие пятнадцать минут яростно обсуждали поросшие очень странным мхом времени кочки и ямы исторических событий, наблюдать которые своими глазами не имели возможности. Но, тревожили эти события их так, словно происходили сегодня. Может быть, им казалось, что ответы на те вопросы, которые ставит история, помогут понять, что происходит в нынешние «окаянные дни»?
Матвей, заведующий отделением детской гематологии неплохой государственной клиники, потихоньку левел, от происходящего вокруг странного полусна-полуяви, в котором сбились все прицелы. Бег к цели – бег тяжёлой работы, ответственности за больных, за подчинённых, за отделение – превращался в стояние на месте, как в сказке про Алису. Он бежал ещё быстрее, до боли в груди, до сердечных приступов, но по-прежнему был повязан странными законами, которые лишали больных детей необходимых лекарств, под знаменем борьбы за отечественного производителя, странными правилами распределения госфинансирования, несущими золотые потоки мимо нужд людей, лишь дразня их отблеском этого незримого богатства нефтяной державы, отношением к больным детям (да и взрослым) со стороны общества, которое пыталось отторгнуть их, не замечать, притвориться, что этого параллельного, замкнутого в себе самом, мира страданий просто нет.
На фоне политических мутных процессов и хитроумных потоков милитаристской пропаганды, которой заразился, казалось, весь мир, хотелось чего-то чистого и ясного, твёрдой основы, которая хотя бы немного даст ощущение социальной справедливости. Поэтому Матвей раскапывал, очищал этот странный, покрытый письменами множество раз, свиток исторической памяти, генерирующий ежегодно новые слои полуправды или откровенной лжи. Каждый день новости кормили свежими конфликтами и стычками между либералами и консерваторами, причём и те и другие легко меняли риторику в зависимости от конкретной задачи эмоционального воздействия на публику. Матвей знал одно – он будет делать всё от него зависящее, чтобы его «сад» процветал. И лучший из миров здесь был совершенно ни при чём. Просто он капитан своего маленького корабля и должен вести его сквозь все бури и штормы вперёд. У него есть отделение больницы и его семья. И он за них отвечает головой. Как бы пафосно это ни звучало.
Новая мифология росла мощными толстыми и ломкими стеблями, наполненными ядовитым, дурно пахнущим соком лжи. Целевой аудиторией книг и фильмов с ощутимым душком комикса, конечно, подразумевалась молодёжь, ведь люди, чьё детство пришлось на позднесоветское время, были избалованы фильмами старого кинематографа, где прекрасно уживались рядышком глубокие экранизации русской классики, гениальные картины Тарковского и вместе с этим обычные неплохие фильмы, очень аккуратно прошитые привычной идеологической нитью революционной романтики. Этому слою зрителей очень тяжело было впихнуть молодых сериальных актёров, играющих на уровне школьной самодеятельности, даже если в фильмы и сериалы, как масло в невкусную кашу, добавляли по штучке пожилых мастеров советского кино, которые вытягивали на себе беспомощные сцены и диалоги. Ещё тяжелее было впихнуть искажённый образ того времени, которое ещё помнили их родители, бабушки и дедушки.
Молодое поколение, в свою очередь, должно было выбрать какую сторону занять, ведь юности нужна борьба и вера в идею, но зачастую, утомлённые бесконечными политическими спорами в медийном пространстве, молодые люди полностью уходили от каких-либо социально-политических воззрений, и своей аполитичностью даже гордились.
Тома с годами стала убеждённым центристом, переболев горячкой агрессивного либерализма и не заразившись смертельным вирусом утопических идей, ведущих к ударному строительству рая на земле.
Знакомясь с материалами о сложнейшей советской эпохе, сотканной из целого змеиного клубка противоречий, она понимала, что история похожа на то самое дышло, которое можно поворачивать в разные стороны до бесконечности, удовлетворяя насущные запросы большой политики и общественного сознания. Что кровавые раны любой эпохи вечно, из тысячелетия в тысячелетие, присыпаются облегчающими боль памяти порошками достижений и побед, но не заживают от этого полностью. Понимала, что каждая человеческая судьба, попавшая в селевые потоки мощных революционных переворотов и сломов истории, достойна сострадания. А в стране со сложной и драматической историей, стране, где гражданские войны своим раскалённым ножом разрезали не только общество, но и отдельные семьи, взаимосвязь ненависти и любви, вины и прощения, становится той зыбкой почвой, в которой утопают все смельчаки, ступившие на исторические болотные тропы.
– Ты пойми, исторические процессы – жестокая вещь, – говорил ей Матвей, горячась всё больше. – Такую махину, такую огромную страну подняли! Мы имели общество с хотя бы идеей социальной справедливости, люди чувствовали себя защищёнными. А сейчас что? Жиреющий капитал, вконец осатаневшие олигархи и нищий народ? У меня на отделении есть мамочки, которые краски акварельные ребёнку купить не могут! Радуются, что волонтёры с ними рисуют. А ты рассказывала, что вам в художественной школе два раза в год бесплатно дорогущие коробки медовой акварели «Ленинград» выдавали. Прекрасной по качеству. Вот оно, твоё несчастное советское детство.
Тома вздыхала, какая-то неопределённая тяжелая печаль присутствовала во всех обсуждениях их родной истории.
– Матюша, извини, у меня всё просто. Я в принципе-то, согласна со теми, кто видит фактические заслуги советской власти; да, безграмотность ликвидировали в кратчайшие сроки, страну подняли, благодаря индустриализации, благодаря безумному энтузиазму народа, прежде всего. А такой энтузиазм на одном страхе не построишь, это мечта, это вера. Но! Для меня всё упирается в очень старый вопрос Фёдора Михайловича – можно ли здание справедливости, судьбы человеческой, построить на слезинке одного замученного ребёнка? Для меня ответ – «нет». Всё равно ничего не построить на фундаменте насилия. Даже если бы в лагерях безвинно пострадал только один человек. Даже если бы в позднесоветский период только одного диссидента кололи бы аминазином. Всё равно, мы были бы обречены. Так и случилось. Всё развалилось. Цель не оправдывает средства. Я не хочу жить в мире, где цель оправдывает средства. Уж не говоря об единой для всех идеологии. И, мне кажется, ты мыслишь историю как поле войны. Непрерывной. Знаешь, где-то у Лотмана было про особую логику войны в «Капитанской дочке». Люди действуют парадоксальным, непривычным образом. Исходя из этой логики. Но, ведь истины никто не знает… И невозможно всегда воевать. Пушкин и пытался донести до читателя, что своя правда есть у каждой воюющей стороны. Только уши каждой из сторон запечатаны ненавистью, которая не позволяет, не дает им услышать правду врага. Но, иногда, происходят странные вещи, и подаренный врагу заячий тулупчик, знаешь ли, спасает от смерти. Надо чаще просто про человечность вспоминать. А не про цели и средства.
Матвей тяжело вздохнул.
– Ты ещё не поняла, что большая политика, к сожалению, и есть война? Очень грязная штука. Но, ты права, истина всегда сложная. И складывается из разных правд. А если человек или даже целое общество считают себя её единственными носителями – это неправильно. Потому что тогда начинается процесс «причинения добра» всем окружающим. Несмотря на их отчаянное сопротивление.
– Вот именно… Несмотря на сопротивление. А всегда важна свобода выбора. – заметила Тома. – А вообще, тебе бежать пора. А мне с Бари гулять. Наверное, только в нашей стране за утренним кофе супруги могут до хрипоты спорить об истории и политике!
Матвей вскочил, заторопился, а Тома сказала тихо:
– Знаешь, какая-то тревога последнее время. Как будто что-то плохое рядом…
Матвей буркнул:
– Нам с тобой надо в спортзал ходить, забросили оба, тут не только тревога, куча болячек появится. Всё-таки, когда полтинник не за горами, надо не только нервничать, надо здоровьем заниматься!
Тома задумалась. Да, он прав, он целый день в клинике, постоянный стресс, маленькие пациенты, их родители, заботы о ремонте отделения. Ещё и курит, хотя, слава богам, заменил сигареты на трубку. Она постоянно за компом: либо пишет текст, либо читает. Откуда тут взяться здоровью и бодрости? Мужа природа одарила худощавой спортивной фигурой, а Тома вынуждена была наматывать километры с собакой, да изредка крутить педали тренажёра, чтобы не превратиться в пышку. К ней лишние килограммы прилипали радостно и легко, как маленькие дети к доброй родственнице.
– Я хоть с собакой гуляю, а тебя даже на улицу не выпихнуть, – запоздало парировала Тома, но негромко, вполголоса.
– Пап, ты подкинешь? – запыхавшийся Лёшка схватил кружку, быстро плеснул туда кофе и залпом, как лекарство, выпил. Несколько коричневых капель осталось на столе, составив интересную кляксу, похожую на трёхногого слоника.
– Да, конечно… – Матвей уже одевался.
Тома смотрела на обоих и думала, как же они похожи! Оба высокие, русоволосые, только у Матвея глаза серые, а у сына такие же странные, желудёвые, как у неё. И совершенно одинаковой улыбкой. Только муж был всегда оптимистично настроен и спокоен, лишь лёгкое дрожание рук выдавало порой усталось, а сын плохо переносил любые неудачи, частенько тосковал и впадал в длительные состояния мрачных раздумий. «Ну, это явно от меня», – как правило, думала Тома, вытаскивая своего ребёнка из очередного омута вселенской скорби по пустячному поводу.
Потом была привычная толкотня в коридоре. Не находился ролик для чистки одежды, Баронет, из-за которого этот валик был так необходим, мешался под ногами, и на него кричали; потом выяснилось, что сыну в школу нужна записка от родителей, и Тома лихорадочно настрочила своим бисерным с завитушками почерком о пропуске занятий из-за плохого самочувствия.
Наконец хлопнула дверь, и Тома осталась одна. Вернее, с Баронетом. Пёс умильно посмотрел ей в глаза и ткнулся влажным носом в руку.
– Да сейчас. Идём-идём, – пробормотала Тома. – Дай только кофейку глотну. Все бегают как психованные…
Она с сожалением посмотрела в пустую турку, с тёмным густым остатком на дне, вздохнула и достала банку с растворимым кофе. Вооружившись кружкой напитка, необходимого для дальнейшей жизнедеятельности, она села за стол, к ноутбуку. Быстро проверила почту, взглянула на колонку новостей, потом хотела перейти к работе, но что-то заставило её вернуться глазами к новостям.
«Рождённый по чужому паспорту!» – гласил заголовок. Потом следовал довольно сумбурный рассказ женщины, имя её было изменено, написавшей в редакцию известного издания письмо с ужасающими фактами о своей покойной подруге. Женщина утверждала, что подруга в далёкие девяностые фактически купила ребёнка юной девушки-студентки. Преступление помогла совершить мать студентки, работавшая в родильном доме санитаркой. Написавшая в редакцию объяснила, что при жизни подруги хранила её тайну, тем более, общались они крайне редко, а после её смерти начала испытывать сильные нравственные страдания. При этом связаться с родственниками мальчика напрямую она почему-то боялась. Редакция деловито сообщала, что оба отца, фактический и биологический ознакомлены с письмом. Далее, было напечатано интервью биологического отца мальчика, вполне успешного художника-живописца, который даже не подозревал о существовании сына.
Заканчивалась статья многообещающим – «Подробности встречи мальчика с биологическим отцом смотрите в июньском выпуске программы «Честный разговор!»
Тома поёжилась от упоминания о скандальном шоу (судя по всему, автор письма рассчитывала именно на подобное развитие событий) и словно провалилась в яму памяти, неожиданно, не успев ухватиться за осыпающиеся края реального времени. Она удивительно чётко вспомнила маленькую тесную квартиру родителей, где они с Матвеем жили после рождения сына. Вспомнила, как кормила вечером крошечного Лешку, а по телевизору показывали новости. Лицо молодой черноволосой женщины, лишённое какого-либо выражения… Словно во сне она медленно повернула голову к репортёру, посмотрела на него несколько секунд и отвернулась, не ответив на вопрос. Пожилой мужчина, который просит похитителей вернуть внука. Он трёт щёку, руки с крупными узловатыми венами трясутся. А потом кадры – блочная пятиэтажка, снег, и в снегу женское тело, лицом вниз. Чёрные волосы рассыпались, одна рука вывернута под неестественным углом. Сюжет уже закончился, а Тома так и сидела, прижав к себе заснувшего ребёнка. Там – у матери похитили сына около женской консультации, здесь – фактически продали в роддоме.
Она тогда рассказала Матвею про эту ужасную историю, и он посоветовал ей поменьше смотреть новости, а то молоко пропадёт. Потом она ещё долго ждала каких-то сообщений о похищении, ждала, может, родственникам вернут мальчика. Но больше ничего не услышала, а персонального компьютера в доме тогда ещё не водилось, и всемирная сеть ещё не манила их своими бесконечными возможностями.
Баронет тихонечко заскулил в коридоре, и Тома, очнувшись от воспоминаний, быстро собралась и пошла с собакой на прогулку. Их дом располагался в конце улицы, близко к лесу. Баронет радостно трусил вперёд, помахивая пушистой метёлкой хвоста и обнюхивая, по ходу движения, оставленные собратьями важные послания. Это напоминало собачий утренний просмотр соцсетей. Они подошли к строительным вагончикам, которые кучкой приютились за высоким деревянным забором. В будке около вагончика залаяла собака и тут же выскочила, весело виляя коротеньким хвостом.
– Привет, Волчок, привет, – пробормотала Тома.
Зимой, во время сильных морозов, жители посёлка подкармливали этого смешного рыженького с тёмными пятнами пса, который при приближении к нему скалил мелкие зубы, не переставая салютовать свёрнутым в бублик хвостом. Собаку, которой хозяин недавно открытого магазина стройтоваров выделил холодную будку с сеном, все жалели, а на пожилого седого рабочего-вахтёра, который за ней присматривал и выводил на прогулку, никто не обращал внимания. Дело привычное, сколько их, тоскующих по оставленным семьям сидит в вагончиках на стройках многомиллионного города?
На лай собаки дверь вагончика приоткрылась, и появилось приветливое круглое, с осторожной, как пугливое насекомое, улыбкой, лицо сторожа.
– Доброе утро! – усердно закивало лицо.
– Доброе утро, Алим! Не скучаешь без покупателей? Хороший день сегодня! – крикнула Тома.
Алим немедленно появился перед вагончиком целиком.
– Зачем, скучаешь? Покупатель нет, а работа есть! Тепло, главное тепло! У вас только-только, а у нас ещё, когда здесь снег был, миндаль уже цвёл! Ух, красиво! Облака! Розовые!
Лицо Алима, покрытое мелкими морщинками, которые усиливали общее впечатление восточной благожелательности, исходящее от всей его фигуры, погрустнело. Наверное, воспоминание о цветущих облаках миндальных деревьев плохо вязалось с грязным вагончиком и надрывающимся от лая Волчком.
Тома перекинулась ещё парой фраз со скучающим без общения сторожем и двинулась к лесу с тяжёлым чувством, размышляя о том, что справедливости и всеобщего благоденствия человечество, похоже, умеет добиваться только в текстах социальных утопий. Как красиво всё получается на бумаге… А в жизни – войны, революции, хаос. Где он этот Город Солнца, страна Утопия, мир Полудня?
Они вышли на лесную дорожку, и Тома погрузилась в гомон птиц и шум нежно-зелёных весенних деревьев. Лес всегда успокаивал её, дарил силы и помогал дистанцироваться от обычной, деловой, суетной жизни. Словно тонкая решётка из света и ветра опускалась где-то внутри, не пропуская ничего лишнего, сиюминутного. Но сегодня всё было не так. Свет резал глаза. И вдруг ей померещилось, что золотые, похожие на старинные монеты, круглые пятна света падают сверху прямо на неё. Она даже почувствовала удары по плечам и резко отпрянула. Тома поспешила к опушке, отпустила с поводка Баронета, и пёс побежал вынюхивать мышиные норки у подножия старых елей. Тома шла медленно, задумавшись. Что это с ней было? Над шумящими прозрачными верхушками деревьев с гудением пролетел небольшой самолёт: недалеко был маленький аэродром. Построенный во время войны, теперь он служил для развлечения отдыхающих – перелёты на легкомоторных самолётах над лесом, прыжки с парашютом и прочие адреналиновые штучки.
Тома вспомнила, как зимой, в февральской вечерней мгле эти самолёты с красными огнями, летящие очень низко, напоминали ей сказочных драконов со светящимися глазами. Кстати, а почему они летали зимой? Видимость же плохая…
Они прошли лесной тропинкой до другого конца посёлка, потом спустились к мосту через узенькую, но очень быструю речку. Тома постояла, глядя на воду; три гигантских замшелых валуна создавали посередине речушки завихрения, блики солнца вспыхивали в них ослепительными искрами. Около камней распустились островки речных жёлтых цветов, с наклонёнными вниз тяжёлыми чашечками соцветий, они напоминали плотики с людьми, переплывающими бурный поток.
Потом они вышли в поле, совершенно беззащитное в своей открытости небу. Здесь весенний ветер набрал силу и дурманил запахом проснувшейся земли и влажной молодой травы. Баронет стал нарезать круги, припадая носом к земле, где-то там в длинных извилистых ходах перемещались осторожные полевые мыши. На фоне молодой яркой травы пёс казался белоснежным.
По дороге им встретился Дик, худенькая пёстрая, как берёзовое поленце, собака местного охотника. Дик с Баронетом некоторое время радостно бегали друг за другом, при этом небольшой охотничий пёс норовил пожевать уши своего увесистого приятеля. Потом откуда-то издалека послышался протяжный свист, и Дик, постояв минутку в тяжёлых сомнениях, всё-таки убежал к хозяину.
Тома пошла вдоль кромки поля, справа начинался овраг, на дне которого шумела мелкая и тёмная, цвета крепкого чая, торфяная речка. Тома разрыла старые карты их местности и выяснила, что в девятнадцатом веке речка бежала около поселка с довольно унылым названием – Кульмиколово. Теперь Кульмиколово превратилось в Кульмоково, что звучало как-то посолидней, но всё равно довольно потешно.
Речка в этом месте была совсем узкой, но быстрое течение, странные водовороты, полусгнившие в воде стволы упавших деревьев – всё это рождало мысли о страшных омутах и всякой сказочной водяной нечисти.
Баронет отстал, а Тома увидела странный холм, на самом краю обрыва. Она гуляла здесь до этого пару раз, но не замечала этого возвышения. Подойдя ближе, Тома разглядела утопающий в земле остов какого-то строения, наверное, это был дом. Здесь, под тенью высоких елей было совсем мало травы, она с трудом пробивалась сквозь толстый слой слипшейся прошлогодней листвы. Круглые полусгнившие брёвна слегка выступали из этого лиловато-коричневого ковра, усыпанного белыми звёздочками ветреницы, образуя прямоугольник. Чуть в стороне Тома обнаружила яму, глубокую яму, поросшую изнутри маленькими берёзками и кустарником. На дне ямы сохранились остатки стен и каких-то досок, похожих на лестницу.
Пока Тома исследовала всё это, сзади подоспел Баронет и с ходу попытался залезть в яму. Тома прикрикнула, и пёс с трудом затормозил, земля под его передними лапами стала осыпаться, и упитанный любитель хлебных корочек чуть не съехал вниз, на тёмное, засыпанное сухими ветками дно.
Тома смотрела на место, где раньше жили люди – наверное, это была финская деревня, – и чувствовала себя словно около старой могилы. Вокруг пересвистывались птицы, разгорался солнечный день, всё было исполнено жизни. И это весеннее ликование странным образом смыкалось, сливалось с ощущением смерти и тления. Как будто здесь, около засыпанных сухими листьями остатков жилища остались незримые тени ушедших в небытие людей. Словно они не хотели или не могли покинуть свой уже несуществующий дом.
Баронет вёл себя странно, тянул обратно в поле, даже скулил. Тома поспешила из глубокой тени на солнце. Она чуть не наступила на какой-то чёрный комок и вскрикнула, поняв, что это мёртвая ворона, с откинутым в сторону крылом.
– Бари, фу! Кладбище какое-то, Господи… – пробормотала Тома, радуясь, что выбралась на ярко освещённое, нестрашное место. – Кто же там жил, надо почитать… Вот плохо мы знаем историю тех мест, где живём, Бари, а надо бы. Всё-таки время – это не поток, который всё смывает, оно и болотом может быть, и омутом.
Они пересекли поле, посидели в высокой траве, вернее, Тома сидела, а Баронет лежал, удобно устроив тяжёлую голову на её ногах. Рядом качались бесчисленные медовые головки одуванчиков, а Тома гладила эту чудесную, невероятно красивой формы собачью голову, с плавным переливом от лба к влажному чёрному носу, рассматривала длинные белые ресницы своего любимца и вспоминала, как они пришли на это поле в первый раз. Тогда был летний июньский вечер, закатное солнце удобно устроилось прямо на черепичных крышах посёлка, казавшихся с поля игрушечными. Дул ветер, такой, который бывает только в поле – свободный, несущий ароматы всех трав и цветов за километры пространства. Баронет, подняв голову носом кверху, жадно нюхал запах ветра. В городе такого не было. С тех пор именно поле стало для Томы любимым местом, только там она видела и чувствовала, как земля без всяких усилий сливается с небом.
Потом двинулись обратно, и весь путь домой Тому не покидали мысли о пропавшем много лет назад мальчике. Даже недавнее впечатление от развалин дома сливалось, накладывалось на эти мысли, добавляя им мрачности. То ли от усиливающегося ветра, то ли от усталости её слегка знобило.
Что же было с той несчастной, которая согласилась рожать по чужим документам? Тома вспомнила собственное послеродовое состояние, когда всё происходит как в горячечном сне, все ощущения и мысли сосредоточены только на ребёнке, и всё внутри настроено только на него. И куда она потом пропала, и как официальная мать ребёнка могла нести страшный груз лжи столько лет?
Боль совершенно незнакомых ей женщин резанула по сердцу, словно беда случилась с самой Томой. Была у неё в жизни детская смерть… кладбище, маленький гроб, украшенный фиолетовыми оборками, похожими на оболочки ядовитой медузы… И чувство, что с этим гробиком в землю опускают её саму. Хотя там лежал ребёнок, рождённый другой женщиной. На глазах закипели слёзы, она их сморгнула, шмыгнула носом и полезла в карман за бумажными салфетками. В кармане обнаружилось несколько собачьих печенюшек, ключ и пустой пакет из-под салфеток. Баронет понял, что дом вместе с вкусным завтраком близко и потянул. Тома вытерла рукой мокрые щёки и ускорила шаг. «Надо жить реальной жизнью, – строго сказала она себе. – Если я раскисну и буду так всё пропускать через себя, то сойду с ума. Матвей, вон, каждый день смертельно больных видит. И помогает. Как-то же он держится?»
В юности Томе помогала вера. С детства плавающая вольным стилем в упоительных волнах русской классики, она крестилась в шестнадцать, внезапно проникшись духом христианского благочестия. Поворотным моментом в принятии решения стали проповеди старца Зосимы, прорастающие внутри зелёными листочками робкой пасхальной радости и, конечно, образ юного послушника Алеши Карамазова.
Предчувствуя удивительные изменения будничной жизни, возможность тайного и удивительного мира, скрытого от домашней и школьной суеты, Тома летела в красивый храм, с синими куполами. Именно в этот храм ходила последние годы её бабушка, называя его округлым и уютным словом «церква». Зажав в пальцах, влажных от волнения, деньги, старательно накопленные из тех сумм, что отец давал на книги и пластинки, Тома зашла в тёмную маленькую церковку около большого храма. Она напоминала крошечный грибок, прилепившийся к огромному собрату.
Всё не заладилось с первых минут. Молодой священник с насмешливыми чёрными глазами, окинув быстрым взглядом старательно подобранную для торжественного случая длинную юбку и синий платок (ах, эта тень от ресниц на бледной щеке Лизы Калитиной!), процедил недоброжелательно:
– Это что за монахиня пожаловала?
Тома растерялась и испугалась. Торжественное настроение улетучилось почти мгновенно, и очень захотелось улизнуть на улицу.
– Иди уже сюда, – сухо распорядился священник. – Деньги туда сдай, матушке за кассой.
Тома заплатила трясущейся рукой, получила свечу и встала рядышком с двумя шепчущимися девушками её возраста. Они тоже пришли креститься. Их одежда с коротенькими юбочками и тоненькими шарфиками на голове не вызвала у мрачного иерея никаких подозрений в скрытой гордыне.
– Как храмы открыли, так и повалили… всякие… – бормотал черноглазый священник, поглядывая на Тому. – Модно!
Тома чувствовала, что близко слёзы. Она молча смотрела на иконостас и два центральных лика – Христа и Богоматери – потихоньку расплывались. Дальше всё было как в тумане. Она подчинялась указаниям черноглазого, говорила, что надо, делала, что скажут. Подняла подол юбки, когда надо было мазать чем-то благоухающим ноги. «Ещё миро изводить на таких», – пробормотал священник себе под нос. Неправильно перекрестилась и услышала, что слева направо крестятся только дети Сатаны. Но слух был уже притуплен, зрение тоже, и даже мысли словно заморозились. Её тревожная душа защищалась от стресса. Тома уже представляла, что священник совсем другой, не злой и раздражительный, а добрый и понимающий. И что какой-то невиданный свет запутался пушистыми лучами в узких окошках наверху, а она сейчас сможет плавно взмыть в воздух. Прямо к этому свету…
После этого она долго не ходила в церковь. Лишь во время экзаменов в Академию Художеств, снова зашла в домовый храм и немного постояла. А потом начала ходить на службы, но уже вместе с Матвеем. Приход был молодой, наполовину студенческий, и чувство общины, защищённости, юношеские мистические настроения, атмосферность пасхальных крестных ходов по узким коридорам ночного здания с готическими средневековыми потолками, а главное, почти физическое чувство близости неба – всё это наполняло жизнь Томы в то время особым высоким смыслом.
Тома вспоминала всё это и одновременно мыла Баронету лапы, насыпала в миску корм, вытряхивала из сумки таблетки от головной боли, ходила по дому, выполняя какие-то нехитрые дела. Всё это, находясь там, в прошлом.
Такое у неё было удивительное свойство – уходить в своё прошлое, как в глубокий илистый пруд, она пыталась нащупать дно, но только глубже погружалась в тёмные воды. Это было мучительно, и Тома боролась со странной особенностью собственной психики довольно долго, но в результате ничего не добилась.
Одна из её случайных приятельниц, не склонная к излишней деликатности и жёсткая дама, заметила, что Томе хорошо бы пройти курс терапии – «Твои флэшбэки до добра не доведут. Ты посмотри на себя! Ты же ярко выраженная «пограничница», у нормальных людей таких провалов в прошлое не бывает. А если и бывает, они не парятся, а быстро выкидывают из головы».
Тома тогда задумалась, но решила, что это важно – не забывать собственное прошлое, даже если ты с ним не согласен, даже если ты бы хотел его изменить. Может, это поможет решить проблемы в настоящем? Проблема заключалась в том, что некоторые комнаты прошлого открывать откровенно не хотелось. Слишком страшно было внутри них. Но они открывались сами, не повинуясь её желаниям. Достаточно было внезапно и безошибочно узнанных цвета, звука, запаха… Может, приятельница и была права. Матвей, прекрасно зная её способность забредать в лабиринты памяти, ускользая от дня сегодняшнего, всячески Тому за это корил, словно боялся, что она может остаться в одной из этих душных комнаток и навеки погрузится в разгадывание зашифрованных манускриптов собственной жизни.
Тома закончила домашние дела и села за стол. Открыла свой текст и стала перечитывать уже написанное. Быстро переделала пару неудачных абзацев, начала новый и опять задумалась.
Год назад она уволилась из школы, где проработала много лет. Несколько лет Тома вела уроки изо, потом, когда появился новый предмет – мировая художественная культура, стала вести и его. В юности она ходила заниматься живописью в рисовальные классы при Академии Художеств и один раз прошла все круги ада двухнедельной экзаменационной гонки, пытаясь воплотить свою мечту – стать художником-иллюстратором. Так, чтобы книги и живопись слились во что-то единое и прекрасное.
Величавое здание восемнадцатого века, где холодные даже в летнюю пору коридоры, отделённые от внешнего зноя толстыми каменными стенами, уносили взгляд к теням сложных готических потолков, снилось ей и по сей день. Тогда она недобрала баллов и ушла из храма искусства, парившего над Невой как золотой корабль с гордой Минервой на бушприте, под сень университетских стен, закончила худграф педагогического Университета. После окончания поплавала туда-сюда в качестве свободного художника, а потом, устав от нестабильного заработка, плавно перетекла на учительское место, кадров в её совершенно обычной районной школе всегда не хватало.
За все годы работы она не устала от детей, они как раз давали ей душевных сил больше, чем отнимали. Она невыносимо устала от самой школы. Сменился правильный ответственный директор, уступив место лощёной даме с равнодушным взглядом земноводного – изменились и нравы учителей. Выгоревшие профессионально до состояния головёшек, женщины возраста печального осеннего увядания, окрашивающего лица дам всеми оттенками красного, от нервически-розового до припадочно-бордового, позволяли себе по отношению к детям вещи совершенно невозможные. Часто случалось, что агрессивные вопли некоторых маститых педагогов со стажем доходили до таких смертельных децибел, что начинали нервно посмеиваться молодые коллеги в соседних классах. Тома слышала, видела, мучилась – и ничего не могла сделать. Было жаль и смертельно усталых учителей, и детей, оказавшихся у них в заложниках. Внутри рождалось невыносимое отторжение, и тоска, холодная вода корпоративной этики уже не помогала. Сама Тома, Тамара Станиславовна, или Стасечка, как её звали ученики, голос не повышала. Если ребёнок был не просто неприятным, а практически невыносимым, и она мало что могла сделать, Тома держалась с ним ровно и спокойно, иногда даже слишком ровно и спокойно, но все ученики боялись этого ледяного отчуждённого спокойствия. Оно сразу низводило общение с учителем на такой сухо-официальный, абсолютно отстранённый уровень, что действовало хуже любых криков. У ребят это называлось: «Стасечка строит».
Она простилась с любимым кабинетом, где своими руками помогала делать ремонт, где висели фотографии выпущенных ею классов, а подаренный родителями давних учеников маленький пёстрый фикус вырос в целое дерево. Там, около её стола, помещался объёмистый чайник и банка кофе – дети обожали пить кофе на переменках, рассказывая ей взахлёб свои важные новости, по её наблюдениям, от этого явно повышалась успеваемость. Уроки, поездки, выпускные – всё это было её жизнью много лет, а теперь тоже стало частью прошлого. И это было тяжело. Когда первого сентября она поняла, что идти никуда не надо, – накатила депрессия. Тоска не отпускала Тому до самого Нового года, а когда все радовались и пили шампанское, она задумала писать книгу. Как только эта мысль пришла ей в голову, Тома ожила. Писала она класса с девятого; для неё это было своеобразным способом беседы, восполнением общения, которого не всегда хватало. Тома была девочкой замкнутой, почти ни с кем не дружила, жила своими грёзами и беспрерывным чтением, до красных глаз, до головной боли. В школьные годы у неё был единственный близкий друг, они перестали общаться в семнадцать лет, и Тома запрещала себе думать и вспоминать о нём. Эта пещера памяти, кстати, довольно вместительная, была старательно засыпана огромными тяжёлыми камнями.
Неизбежная социальная обособленность интроверта, благодаря работе в школе была восполнена с лихвой, но любовь к литературным изысканиям не пропала, а после увольнения появилось время, чтобы писать.
Тома вспомнила запах своего класса, вспомнила самых любимых своих детей, многие, давно закончившие школу, продолжали с ней общаться. И вот именно эти воспоминания мобилизовали её к работе. Строчки росли плотными тёмными ветвями, теряя и вновь получая нужные слова, словно живой организм, питающийся маленькими чёрными знаками. Из крошечных буковок, складывались лица и звуки, память становилась реальностью, пусть вторичной, заключённой в тексте, но не менее важной, чем та, что переливалась гомоном птиц за окном.
Тома печатала, стараясь не обращать внимания на ноющие виски, не ощутила, как прошёл час, потом второй, не заметила, как за окном потухло солнце и ещё больше усилился ветер. Лишь когда по крыше дробно ударил майский ливень, она подняла от монитора глаза, удивилась и решила попить чайку. Виски уже не просто ныли, там работала настоящая строительная дрель. Вот тут и раздался звонок. Сотовый жужжал и шевелился на гладком столе, Тома поставила режим без звука и забыла об этом. Она посмотрела на номер, номер был совершенно незнакомый. Тома очень не любила незнакомых номеров, с её повышенной тревожностью любая неизвестность представлялась угрозой. А когда угроза превращалась в рекламу бесплатных акций спа-салонов, к только что пережитому беспокойству прибавлялось ещё и раздражение. Тома встала из-за стола, вышла в коридор, держа мобильник около уха, ответила и посмотрела на себя в зеркало. Уставшее лицо, прямые тёмные волосы до плеч с лёгкой проседью, нахмуренные тонкие брови, глаза в полумраке коридора кажутся тёмно-карими, хотя на свету они тёплого, желудёвого оттенка, а при определённом освещении становятся ярко-горчичными. Виридоновая зелёная плюс охра золотистая, если точнее, подумала Тома. Она часто видела предметы словно уже написанными, пойманными среди укрытий света и тени. Сказывалась многолетняя привычка. Тома продолжала писать натюрморты и пейзажи в свободное время, потому что желание ощутить запечатлённое время, цвет и свет, запах масла и разбавителя, упругую плотность чистого белого холста, мучило её временами как приступы жажды или голода.
Пауза затянулась, в сотовом молчали.
– Алло, – ещё раз напряжённо буркнула Тома. За окном громыхнуло, и лёгкие шторы за её спиной надулись от ветра пузырём. Голова болела по-прежнему, таблетка не помогла.
– Здравствуй, – голос был низкий мужской, но лишён какой-либо живой эмоции, словно тряпка, которую бесконечно стирали до состояния полной потери цвета и формы.
– Здравствуйте, – ещё больше занервничала Тома, одной рукой закрывая дверь на террасу.
– Тамара, ты меня не узнаёшь?
– Н-нет… – запнувшись, ответила Тома; опознать кого-либо по такому голосу, на её взгляд, было вообще невозможно.
– Это Павел. Паша Крестовский.
– Пашка! – ахнула Тома, от волнения она встала со стула и зачем-то пошла на кухню. Стало совсем темно, гроза набирала силу, словно дом находился не в пригороде Петербурга, а в зоне тропических тайфунов. Лес стал колыхаться, как трава, и кроны деревьев почти наполовину пригнулись к земле. С грохотом улетел к ограде лёгкий стул, стоявший на террасе. Карман памяти не просто открылся, звонок взрезал его, вспорол как бритва вора. Звонил тот самый, единственный школьный друг, о котором она совершенно не хотела вспоминать.
– Да, Тома. Это я. Ты можешь разговаривать?
– Я? – растерялась Тома. – Ну да, могу, конечно. Я дома работаю. У нас тут гроза такая…
От растерянности, которая вызвала дрожь и слабость в коленках, она хотела в красках живописать весь грозовой ужас, но осеклась. То ли испугалась, что глупо прозвучит, то ли воздуха не хватило.
– Пашка, ты в Питере вообще? У тебя что-то случилось? – спросила она, включая электрический чайник трясущейся рукой. Голубая подсветка закипающей воды всегда её успокаивала. Тома нашарила одной рукой банку с кофе, открыла и насыпала две ложки в чашку. Потом налила вскипевшую воду.
– Да. Я в Питере… Оно давно случилось, как выясняется. А сегодня… ты не слышала в новостях про мальчика, которого биологическая мать родила по чужим документам?
С резким щелчком синий огонёк погас, и вода перестала бурлить.
– Ну вот, свет вырубился. Опять провода порвались где-то, – грустно сказала Тома. – Я прочитала в новостях. Паш. Вспомнила ещё подобные случаи в девяностых, распереживалась. Тёмное время было. А почему ты спрашиваешь?
– Это мой сын, – сказал Павел, и Тома показалось, что он плачет. – Томка, это мой сын. Я думал, что это мой сын…
Рука, в которой Тамара держала чашку с кофе, вдруг онемела, и дымящийся напиток хлынул ей на колено.
От резкой острой боли в обожжённом колене Тома вскрикнула, чертыхнулась, вот откуда ноги растут у Лёшкиной невоспитанности, и с грохотом поставила чашку на стол. Перевела дыхание, посмотрела на мобильник, в котором говорили, костяшки пальцев побелели, так сильно она его сжала. Ещё раз вздохнула и поднесла телефон к уху.
– Тома, Тома, что там у тебя? Тома, Господи, что у тебя случилось? – монотонно повторял Пашка.
– Всё нормально, – сдавленно ответила Тома. – Я кофе себе на коленку пролила. Горячий.
– Пантенолом надо, – прошелестел невидимый собеседник.
– Павел! – Тома вдруг разозлилась. На всё сразу. На свой испуг, набухающую саднящим жжением коленку, головную боль и тошноту. И, разумеется, на самого Пашку. – Павел, ты где мой телефон раздобыл?
– Мне Толя дал. Смирнов. А что?
Ну конечно, Толя Смирнов. Кто же ещё. Толя знал все телефоны, все пароли и явки. Просто Шерлок Холмс какой-то. Толя прорывался к ней в соцсетях, но Тома упорно оставляла его в подписчиках, потому что напоминал ей Толя неизвестного науке скользкого гада. Даже не своей непривлекательной внешностью; из низкорослого, с непропорционально большой головой и низким лбом под ровной чёлкой мальчика, он превратился в низенького упитанного, лысого мужчину с большой головой. Гада он напоминал своей непомерной приспособляемостью к обстоятельствам, искательной улыбкой и способностью продвигаться по карьерной лестнице без каких-либо выдающихся талантов. Скользил, приподняв голову, медленно и целенаправленно.
Тома, с усилием заставила себя вернуться к тому, из-за чего пролила кофе. Мысли скакали в голове совершенно произвольно, трудно было взять себя в руки и сосредоточиться.
– Паша, объясни всё-таки, что случилось. Что значит, твой сын. Ты… женат? – едва произнеся это, она уже знала ответ.
– Был женат. Вера умерла. Четыре года назад.
– Прости… – Тома стояла около стеклянных дверей на террасу и смотрела, как струи ливня закручиваются от ветра. – Я не очень понимаю, что у вас… у тебя произошло.
– Может, нам встретиться? – голос Павла был неуверенным и настойчивым одновременно. Только он так умел. И Тома вдруг поняла, что ей это нравится сейчас, точно так же, как нравилось в детстве.
– Где? – спросила она довольно глупым голосом.
– Ну… давай в Сосновке, у пруда. Помнишь, мы гуляли там. Давно…
Тома, которая ожидала услышать название какого-нибудь ресторанчика или, на худой конец, забегаловки, даже растерялась. Встреча у пруда. В парке. Это что-то прямо из Тургенева, какие-то смутные девушки в утреннем тумане, росистые травы, белые скамейки на песчаных дорожках… или зелёные скамейки? Нет, зелёная скамейка – это уже Достоевский.
– Ну давай… – согласилась она растерянно. Благо, пруд прекрасно помнила. Небольшой такой, с опушёнными травой бережками. Во времена их детства там было довольно уединённое место, где бродили редкие собачники и ещё более редкие мамы с колясками. А что там сейчас, она даже не представляла.
– Тома… – Пашкин голос звучал так странно, что она испугалась. – Тома, давай встретимся в четверг. Завтра. В шесть. И… не говори ничего мужу.
Тома открыла было рот, чтобы задать массу одномоментно возникших вопросов, но звонок прервался.
– И что мне с этим делать теперь? – спросила она, глядя на свой мобильник. Конечно, можно было перезвонить бессовестному другу детства и сказать, что она не подписывалась на очередные конспиративные игры. Но Тома положила телефон на стол и перезванивать не стала. Она прогнулась, согласилась на встречу. Через столько лет. И это заняло у него всего несколько минут.
* * *
Пашка был её школьным лучшим другом. Они были похожи как близнецы. Не внешне, нет. Они были похожи по характеру, всеми своими странными реакциями на окружающий мир, дурацкими страхами и радостями, совершенно непонятными окружающим. В первом классе они сначала сидели вместе, а потом их рассадили. Чтобы не влияли друг на друга. Влияли друг на друга они, действительно, сильно. Их мысли и идеи с пугающим постоянством входили в резонанс, подобно злосчастной колонне гренадёров на Египетском мосту.
В результате происходило обрушение, а точнее, очередная хулиганская афера, и мало не казалось никому. В числе особо тяжких преступлений числились: разбитый бюст Ленина, стоявший в рекреации на первом этаже, и небольшой пожар в хозяйственной подсобке около раздевалки.
Гигантский полый бюст Ильича из гипса на ржавом железном каркасе имел сбоку, в стенке постамента, удобную дыру. Два второклассника туда прекрасно помещались. Пашка захотел проверить, сколько времени получится оставаться незамеченными в этом чудесном тайнике. На следующий день Тома принесла в школу бутылку воды и бутерброды – это был их запас пищи на бессрочный период. Уроки начальной школы проходили во вторую смену, а зимой вечерело рано. Дети уходили домой, а в школьных рекреациях ворчливые уборщицы нехотя тёрли старый линолеум дерюжными влажными тряпками, намотанными на деревянные швабры. Тома и Пашка дождались пока в нужной рекреации выключили свет и, сдавленно хихикая, залезли в самые недра вождя мирового пролетариата. Пакет с едой они тоже не забыли. Внутри вождя оказалось довольно тесно, темно, пыльно и валялись засохшие огрызки яблок. Томе всё это не понравилось, она хотела на волю, на улицу, где свежий морозный воздух. Существенным побудительным мотивом было и то, что там, на воле, её ждала бабушка. Пашка, чей дом просто упирался в школу, возвращался с уроков самостоятельно, а Тому встречали. И они, нечаянно, про это забыли. Пашка расстроился и стал ворчать. Эксперимент находился под угрозой срыва. И в этот момент они услышали цокающие шаги завуча Ирины Валентиновны. Завуч отличалась настолько крутым нравом, что у юных экспериментаторов перехватило от страха дыхание. Когда цоканье высоченных каблуков раздалось прямо около них, Тома в панике попыталась выбраться из укрытия. Пашка в ужасе попытался остановить её, схватив за подол форменного платья. Тома потеряла равновесие и упала на полпути к свободе.
Бюст накренился, где-то сбоку не своим голосом заорала от неожиданности Ирина Валентиновна, и только-только Тома высвободила ноги и отползла, вся гипсовая конструкция, с заключённым внутри Пашкой, упала на пол и развалилась. В памяти Томы ярко отпечаталась икающая завуч с выпученными глазами, и абсолютно белый, весь в гипсовой крошке Пашка, шевелящийся в обломках. Сколько потом было шума! Тома отделалась только эмоциональным шоком, а Пашка с головы до пят был покрыт разноцветными синяками. Родителей вызывали к директору, детей посадили под домашний арест – целую неделю они не выходили гулять, только шептались по телефону. Хотя за Пашкой следили и к телефону не подпускали. Пашка был в семье единственным ребёнком, у Томы имелся старший брат, но у него была своя компания друзей. Товарищей в классе оба не завели, потому что – зачем? Они были вполне довольны обществом друг друга.
Почти полгода сообщники вели себя смирно, летом разъехались по своим и тосковали в разлуке, но потом начался учебный год, и ликующая Тома рассказала Пашке про спиритические сеансы. Пашка загорелся моментально, он очень хотел вызвать дух Ломоносова и спросить, как он мог сидеть в обозе на рыбе, это же чертовски противно?
Местом для важного разговора выбрали комнатку с тряпками и швабрами, там было тихо и спокойно. Опять дождались, пока школа затихнет, а гардеробщица и уборщицы пойдут пить чай. Дверь в подсобку никто не запирал, что там красть? Добытчица Тома принесла в портфеле тарелку, Пашка свечки. Всё шло очень хорошо, тарелка завертелась, Тома, назначенная медиумом (в своих талантах такого рода Пашка неожиданно засомневался), ждала, когда отзовётся Михайло Васильевич, но тут неудачно пристроенная свечка подожгла ворох заскорузлых тряпок. Едкий чёрный дым моментально наполнил тесную каморку, а тряпки горели ярко и весело. Из школьного вестибюля раздался отчаянный крик: «Горим!» Раздался топот множества ног, и дверь распахнулась. До этого момента Пашка успел схватить железное ведро, по счастью наполненное грязной, ещё не вылитой после уборки водой, и залил пламя. Пожилой физрук, прибежавший вместе с уборщицей, выволок их за шиворот из вонючего дыма и отвёл на улицу – глотнуть свежего воздуха. Потом начались звонки родителям, и опять крики, угрозы отчисления и прочие страшности. Друзья долго томились в неволе, даже звонки с домашнего телефона мать Пашки строго контролировала. После этой истории дети затаились. Они решили, что будут очень осторожными и мудрыми. Штабом их страшно интересной и насыщенной дружеской деятельности стала Томина девчачья комнатка с куклами на полках. К Пашке домой Тому уже не пускали – боялись. Боялись тихой и застенчивой девочки в больших неудобных очках; она ведь могла плохо повлиять на Павлика, победителя всевозможных школьных олимпиад! Томины родители оказались более либерально настроены, перед школьным руководством не трепетали и считали, что дружба девочек с мальчиками очень полезна.
К средней школе, когда уроки стали начинаться, как и положено, утром, они научились шифроваться и разработали систему тайных знаков. Теперь полная конспиративность стала их основным принципом. В шестом классе Пашка вычитал в каком-то подозрительном журнале, что человек может почувствовать особые аномальные зоны, и даже встретить там инопланетян. Ближайшая зона с неприятным названием – Мга – была найдена незамедлительно, и пару недель они копили на школьных завтраках деньги для уфологической экспедиции. Но потом Пашка прочёл воспоминания Александра Дюма о путешествии по России и его страшно заинтересовало Ладожское озеро, с его странными завихрениями волн и непонятным гулом из глубин. Решено было ехать на берег Ладоги, туда, где из озера рождается Нева. Помимо всего прочего, там можно было полюбоваться на удивительную крепость Орешек, которая преграждала путь шведам прямо в самом истоке светлой невской ленты.
На выходных, сочинив легенду о дне рождения одноклассника, оба двинулись разными путями к маленькой и уютной станции с вкусным названием Кушелевка и сели в поезд. Дорога была весёлой, они жевали припасённые Томой тянучки и рассматривали картинки с гуманоидами. Вышли на станции Петрокрепость и увидели огромный паровоз! Оказалось, что это мемориальный паровоз, на лаково-блестящих чёрных боках которого было написано, что он первым после прорыва блокады Ленинграда доставил на Большую землю поезд. Ребята постояли около этой внушительной махины, потом залезли по лесенке повыше, и Тома вспомнила рассказы бабушки про блокаду. Она попыталась рассказать их Пашке, но он перебил, засуетился, закричал, что можно не успеть до темноты, и они побежали куда-то, ведомые самостоятельно собранным Пашкой прибором – что-то небольшое, с загорающейся лампочкой. Пашка уверял Тому, что прибор покажет инопланетный след. Тома заинтересовалась принципом действия, но Пашка путался, не мог объяснить, и она заподозрила, что прибор на самом деле является маленьким, обмотанным изолентой и обкрученным цветными проводками, фонариком с садящейся батарейкой. Свое предположение она вслух не высказала, что-то остановило. Очень уж у друга был растерянный вид. Пока они шли по широкой сельской дороге, Пашка рассказывал об узниках крепости, но Тома успела почитать дома про самых важных заключённых. Она плохо слушала и больше любовалась домиками с палисадниками, где остались последние ржаво-золотые остатки листвы, и голыми рябинами, на которых птицы клевали уже прихваченные первыми заморозками гроздья ягод.
Вид на древнюю крепость обоим очень понравился, древние стены с полукруглыми башнями темнели у них на глазах. Ребята успели полюбоваться последним вечерним розовато-золотым светом, превратившим крепость в какой-то удивительный замок посреди индиговых вод, а потом всё погасло, солнце ушло в плотную пелену тяжёлых облаков, и ладожский каменный форпост стал лиловато-серым миражом, призраком, в обрамлении беспокойных волн, с белыми гребешками.
Дети шли вдоль домов рыбацкого посёлка, разглядывая маленькие сарайчики для лодок с зелёными от мха крышами, лепившиеся к усыпанному валунами берегу, огромных чаек, которые изредка прохаживались между прибрежными островками водорослей и тростника. Птицы поразили Тому своим размером, ведь, когда они кружили над водой, словно ожившие белые гребешки пены, они казались совсем маленькими! До сих пор, при воспоминании об этих чайках, Тома не могла отделаться от ощущения, что птицы были не совсем птицами. Они так смотрели по сторонам, так тревожно и моляще кричали! Пашка шёпотом поведал ей тогда, что в чаек вселяются души погибших моряков. Тома возразила, что они на берегу реки, рядом, пусть гигантское, но озеро, и здесь, наверное, вселяются души рыбаков, а не моряков. Но Пашка упёрся, и она перестала возражать. Прямо на берегу был ещё один мемориал в память о строительстве моста для связи с Большой землей. Он напоминал корабль с высокой мачтой, плывущий прямо по волнам береговых холмов. Дети немножко посидели на его удобных бетонных ступенях, но быстро замерзли.
Каким-то незаметным образом стемнело, и они оказались совершенно одни на полоске светлого мокрого песка, между шумящими водами и тёмным лесом. Под осенним промозглым ветром длинные жёлтые травы с метёлками наверху шуршали как струя сыплющегося в гигантских песочных часах песка. Дело было в конце октября, очень быстро стало совершенно ничего не видно, и дорогу обратно к станции они забыли. Вроде шли обратно по своим следам, а пришли к какому-то пустому дому с разрушенной крышей. В довершение всех неприятностей начался сильный дождь, и совершенно растерянные, превратившиеся из уверенных в себе уфологов в мокрых и жалких крысят, они бежали по скользкой глинистой дороге, бежали наугад, лишь бы выйти к свету. Правда, Пашка держался на удивление уверенно, даже зажигал спички, пытаясь осветить свой удивительный уфологический компас, но спички гасли под дождём, а делать живой шалашик из рук Тома отказалась.
Им явно покровительствовал детский бог, потому что дождь затих внезапно, будто его выключили. И дорога изменилась; Тома ещё отметила её светлую гладкость, «лунная пыль» так она подумала; это завораживающее название она видела на обложке одной из книг, в шкафчике с фантастикой. Эта пыль или песок, он был очень мелкий, казался ненастоящим и слегка светился. Тома даже взглянула на небо, ища глазами луну, но небо оказалось чистым и нежно-фиолетовым. Никакой луны и даже звёзд. Подул лёгкий ветерок, запахло цветами и травой. Тома посмотрела на Пашку, а он глядел на неё.
Несколько минут они прошло шли, забыв, куда идут и зачем. А потом всё закончилось. Сначала потемнела земля под ногами, потом небо, а потом им в лицо опять зарядил мелкий моросящий дождь, с почти незаметной снежной пылью. И ребята ускорили шаг.
Прибежали они точнёхонько обратно к станции, несмотря на обилие поворотов и побочных троп, уводящих в страшную овражистую тьму. Уже на станции Тома попыталась начать разговор о лунной пыли, но друг смотрел в сторону и беседу не поддержал. Оба устали, замёрзли и промокли.
В электричке было светло, тепло и сухо – этого хватило, чтобы Пашка тут же заявил о своей гениальной топографической интуиции, а Тома радостно с ним согласилась. Правда уже через минуту Пашка обнаружил пропажу уникального прибора, который, наверное, вывалился на бегу из кармана, и замолчал в мрачном унынии до самого города. С ним случались такие странности, то он молчал часами, то вдруг злился, то хохотал невпопад. Но Тома всё это терпела. Она всегда с ним соглашалась, потому что иначе пропадало всё волшебство их общения. Тома чувствовала себя не в своей тарелке, когда он злился. Потому что дорожила им. Интереснее, чем с Пашкой, не было ни с кем. Ещё Пашка как-то очень легко говорил ей, чуть ли не с первого класса – я без тебя ничего не смогу. Это казалось Томе совершенно естественным, она тогда тоже не могла без него! Стоило ей посмотреть в глаза, прозрачные, цвета кофе или торфяной холодной воды – такая текла в речке около Томиной дачи, и всё в жизни казалось второстепенным, неважным, оставалось только то, о чём говорил Пашка.
Если в младших классах Тома ездила с родителями на море, и Пашка был ещё слишком мал, чтобы посылать ей корреспонденцию, то в средних всё изменилось. После пятого класса Томины родители, утомлённые бесконечной тоскливой летней перепиской дочери с томящимся в городской жаркой неволе Пашкой, который приносил им свои письма с рисунками ручкой и забирал Томины с вложенными акварельками, отправили её на одну смену в пионерлагерь. Отцу предложили путёвку в Политехническом институте, где он преподавал. Хотя сами родители были очень глубоко не уверены, что их замкнутое и стеснительное книжное чадо, взирающее на мир через круглые очки в пластмассовой коричневого цвета оправе (а выбора-то в те времена большого не было), будет счастливо в специфических условиях коллективного детского отдыха.
Детские воспоминания об этом лагерном месяце остались в памяти Томы смутным пятном печали, тоски по дому и первой абсолютно безответной детской влюблённости в молодого бородатого пионервожатого, как бог играющего на гитаре.
Ощущение, что всё будет не очень хорошо, возникло почти сразу же, когда округлые, похожие на пожилых тарахтящих жуков с множеством хронических заболеваний, автобусы с табличкой «Дети» остановились на грязноватой площадке около высокого забора с аркой прямо посреди сырого июньского зеленогорского леса. На арке было написано – «Лесная сказка». Почему-то это вполне себе милое название Томе сразу не понравилось. Очень уж портил «сказочное» настроение высокий забор. К слову сказать, уже в конце первой недели своего пребывания в лагере, она совершенно случайно прибилась к группе жаждущих свободы и острых ощущений сорванцов обоего пола и покинула территорию через удобную дыру в заборе, трогательно замаскированную кусками прислонённого к забору щита для волейбола, с проржавевшим напрочь железным кольцом. Между собой ребята так и говорили «лаз через кольцо». Гуляли беглецы недолго, узкая тропа вдоль забора граничила с оврагом, на дне которого чего только не валялось, резиновые покрышки, мусор, старый матрас… даже огромный бидон для непонятных целей, как для молока, только в пять раз больше. Тома таких раньше не видела. Пока ребята глазели на весь этот хлам, Тома тихонько вернулась обратно в лагерь и побрела к корпусам, на ходу срывая и засовывая в рот листики молодой кислицы, ковром устилавшей прошлогоднюю хвою под старыми елями. Рядом не было Пашки, а она не привыкла к приключениям без него. Это была самая настоящая ломка, только во взрослом возрасте Тома это осознала. Тогда она просто тосковала и хандрила, сама не зная почему.
Всё в лагере было словно настроено против неё. Утренняя зарядка в холодной сырости, когда солнце ещё не успело подняться, чтобы прогреть спортивную площадку с деревянными скамейками. Столовая, где около стола раздачи постоянно была лужа из липкой каши или пролитого компота. Туалет с белым кафелем, куда ночью выгоняли босиком бузотёров, болтающих и дерущихся в кроватях. Поднятие флага и маршировки по пыльному плацу, после которых песок набивался в дырочки сандалий, а ноги и руки долгое время не хотели нормально расслабленно шагать и махать. Всё это – в одиночестве, потому что две приятельницы, которыми Тома обзавелась, оказались не вполне надежными на поверку. Одна – помыкающая ею отличница, гимнастка и просто очень пробивная юная особа, другая – тихая дочка лагерного врача, с которой почему-то никто близко не сходился. Девочка как девочка, рыженькая, временами презрительно улыбающаяся обидчикам. Впрочем, дочка врача начала презрительно улыбаться и тоже перестала «водиться» с ней, когда выяснилась полная Томина неспособность нормально играть в пионербол. Отличница присутствовала рядом, но дружеского тепла не источала и частенько насмехалась над Томиной рассеянностью и неприспособленностью к бытовым проблемам. И тоже раздражалась от полного фиаско в отношениях Томы с пионерболом. Сама она била по мячу отлично, благо в лагерь ездила каждое лето со второго класса.
Тома панически боялась летящего в лицо мяча, не умела правильно сцеплять руки для сильной подачи и вообще, не испытывала к главной игре лагеря никакого интереса. Она была равнодушна к играм, сплачивающим коллектив, что передалось её сыну, который с недоумением читал страницы о страстях вокруг квиддича, осваивая книжный мир Хогвартса.
Всё наладилось только тогда, когда Тома нашла библиотеку и влюбилась в Александра Германовича, или попросту Сашу – вожатого их отряда с вдохновляющим названием «Крылатый», отчего родилась привычная шутка: «Отряд Крылатый опять в пролёте». Мальчики из отряда были для неё пустым местом – не выдерживали конкуренции с Пашкой. Маленькие, глупые. А вот вожатый незаметным образом затмил печальный образ покинутого друга.
Александр Германович был справедлив, но суров, и самым страшным наказанием являлось его молчаливое презрительное игнорирование в чём-то оступившихся членов отряда. Он божественно играл на гитаре, и все девчонки отряда млели, когда их вожатый, заводил по настоятельным просьбам слушателей не привычные пионерские песни, а искрящееся как бенгальский огонь мечтой и непонятной силой, «… Мы – охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин»[2] или про атлантов, которые держат небо на каменных руках. Все подпевали вразнобой, но очень старательно.
От строчки «… К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди»[3] у Томы что-то замирало внутри, она словно воочию видела древних атлантов, которые почему-то представлялись ей выходящими из невской воды по ночам на «брег песчаный и пустой», как пушкинские витязи. Хотя в реальности, во время прогулок по городу, серые гиганты над ступенями Нового Эрмитажа не казались ей такими уж волшебными.
И загадочная прекрасная синяя птица была так близко, когда пел Александр Германович. Тома чувствовала, что тоже может идти за ней по ледяной воде и через огонь. Только вот, где-то за словами песни таилась уверенность, что небесная птица неуловима, и это тоже рождало грусть и ощущение причастности к чему-то таинственному и совершенно не имеющему отношения к обыденной жизни, вечерним комарам и распорядку дня.
Библиотека и первое романтическое чувство почти полностью примирили Тому с режимом пионерского лагеря, она даже неожиданно приобрела своеобразный авторитет, рассказывая шёпотом во время тихого часа любимые длинные книги. Особой популярностью пользовался вольный пересказ романов Виктора Гюго и Александра Беляева. Про мытарства бедной Козетты, несчастную голову профессора Доуэля и печального красавца Ихтиандра девчонки слушали с одинаковым жадным вниманием. Ждали продолжения и даже пытались подкупать Тому ирисками, чтобы она рассказала, что же будет дальше, персонально дарителю, раньше всех остальных. Тома держалась железно, что вызывало ещё большее уважение девчачьего сообщества. Теперь отличница, которая толстых книжек откровенно боялась, подлизывалась к Томе, выпрашивая особый, «для лучшей подруги», режим рассказывания.
Так постепенно Тома освоилась, даже начала петь в хоре, что позволило ей проникнуть в закрытую для непосвященных группу «артисток», стихийно сложившуюся перед концертом на родительский день. Она сочувственно наблюдала за страданиями тоненькой с лихорадочным румянцем девочки, которая готовила номер на флейте и всё время плакала от нервного напряжения. Группа поддержки терпеливо утешала юную флейтистку, с полным пониманием относясь к её творческим мукам. Другая девочка разучивала гимнастический этюд с лентой. Во время тихого часа ярко-алая лента вилась и закручивалась в воздухе спиралью, завораживая всех своей праздничной яркостью и волшебной лёгкостью, а дежурные не ругали гимнастку за нарушение режима.
Сама Тома с удивлением обнаружила, что неплохо поёт, а песни, которые разучивали к концерту, не могли потрясти разве что сухой пень. Одна из них была особенно тревожная и возвышенная, про колокольный звон Бухенвальда. Начало песни «Люди мира на секунду встаньте!» Тома пела, замирая от предвкушения торжественной средней части, а на словах «сотни тысяч заживо сожжённых строятся, строятся в шеренги к ряду ряд» ей становилось так жутко и непереносимо страшно, что голос на секунду куда-то пропадал. Но в целом, музыка уносила от всего плохого и обыденного, а это было главное. Поэтому, когда приехали родители, Тома была вполне довольна, только острее стало чувство тоски по дому. Не обошлось, правда, без смешного конфуза. На торжественной линейке дети маршировали перед родителями, показывая приобретённые полезные навыки, и Томин отец долго не мог понять, почему старательная маршировка дочки производит на него столь странное впечатление (помимо очевидной позднесоветской досады на переизбыток всяческой военной муштры детей). Лишь через пару минут он догадался, в чём дело. Тома шла как верблюд, грустный царь пустыни, иноходью. Сосредоточенно, безупречно попадая в ритм. Правая нога вперёд, правая рука вперёд, левая нога вперёд, левая рука соответственно… Отец посмеялся, но говорить ей о своих наблюдениях не стал, уж очень Тома старалась влиться в чуждую среду, делала всё ответственно и на совесть. Рассказал позже, когда дочь уже была взрослой.
Тома плохо помнила все события того месяца без друга, что-то было ещё с игрой «Зарница», беганье под полуденным солнцем по пыльным дорогам и лесу с мошкой, была работа на полях, дискотека с самодельными пирожными – печенье, намазанное маслом и капелькой варенья, последний костёр с печёной на прутиках картошкой… Вот он хорошо запомнился песнями, ночной красотой ярких искорок, кружащихся у воды, и неожиданной для самой Томы печалью расставания с ребятами. На поющего вожатого она смотрела издали, мысленно прощаясь навсегда. И спустя годы из всей этой июльской смены память воскрешала лишь его имя. Имена детей из отряда, даже вредной подружки отличницы, стёрлись.
На родительском дне Тома передала домой длиннющее письмо Пашке. Про забор, костры, хор, концерт. Про удивительного Александра Германовича. А вскоре и сама вернулась домой, на любимую дачу.
И случилось ужасное – Пашка перестал с ней разговаривать. Вообще. На целых две недели. Никаких писем до самой осени, до школы. Тома переживала, плакала, узнавала у родителей, не заболел ли друг. Нет, не заболел. Да, видели. Здоровался, вежливо спрашивал, как Тома. И больше ничего? Больше ничего.
Осенью он попытался пройти мимо неё как мимо чужого человека. Но Тома прижала его к стенке и устроила допрос с пристрастием. Тут-то и выяснилось, что она не имела права веселиться и радоваться жизни без Пашки. Просто не имела права. Какой дурью она там занималась в этом лагере? Бегала и маршировала как ошалелая, когда он так страдал? И что это за пошлый певун с бородой и дурацким отчеством? Да он, Пашка, в два счета научится играть на гитаре. Если это ей так нравится. Пожалуйста. В два счёта. И, действительно, Пашка незамедлительно начал учиться. Ходил к однокласснику, тренировался на старенькой гитаре. Потом демонстрировал Томе каждый выученный аккорд.
Они помирились, но Тома понимала, что она не может больше подчиняться всем требованиям своего единственного друга. Она почувствовала собственную значимость и обрела собственные, неподконтрольные Пашке чувства. Да, Тома старалась это не выпячивать. Но всё чаще отказывалась от совместных с Пашкой авантюр, прогулок и походов в кино. Именно в этот период Тома начала много и усиленно рисовать, будто отчаянно создавала свои миры, только свои, куда нет хода никому, даже лучшему другу. Она делилась с Пашкой планами стать графиком, иллюстратором детских книг, он же своих планов на будущее ей почему-то не раскрывал.
Тома теснее сблизилась со старшим братом, который как раз служил в армии. Брат Костя Томиного друга всегда не очень жаловал. Но пока они с братом писали друг другу длинные письма, Тома опять же чувствовала, что освобождается из незримой эмоциональной клетки. При этом она продолжала встречаться с Павлом, правда, теперь рассказывала о своих мыслях и мечтах не всё подряд. Кроме всего прочего, Тома, несмотря на протесты родителей, сняла очки и подстригла волосы. После столь решительных действий она увидела в зеркале незнакомую привлекательную особу с красивыми глазами и пушистыми прядями волос, каскадом падающими на плечи. Эти изменения ещё больше укрепили Томин неумолимо растущий дух независимости. Она всё чаще спорила с другом, отстаивая свои позиции, хотя бы чуть-чуть, хотя бы в малом.
А к началу старших классов всё сломалось окончательно. Что-то изменилось, сначала неуловимо, затем совсем явно и необратимо. Если до этого они были близнецами – равноправными во всём, ну, почти во всём, то теперь Пашка стал запинаться, глядя в сторону, а порой, наоборот, не мог оторвать от Томы долгого взгляда. Временами он стал вести себя очень грубо и покровительственно, словно Тома, со всей её жизнью, планами и интересами была в его полной собственности. Он пытался менять её планы, вклиниваться в её знакомства, высмеивать её интересы. А однажды принёс ей огромный, совершенно перезрелый, сладко пахнущий тюльпан и сказал, что всё решил – они должны убежать. Вдвоём.
Тома поставила тюльпан в банку с водой и поняла – всё закончилось. Она дала ему понять, что сама принимает важные решения, и убегать никуда не собиралась и не собирается. Он угрожал, давил на жалость, даже плакал. Но Тома на животном уровне чувствовала – сейчас сдаваться нельзя. И Пашка отстал. Они, конечно, продолжали общаться и дружить, но было утеряно самое главное – их общий, тайный для всех мир. Тома не нуждалась во влюблённом Пашке, она нуждалась в близнеце, понять которого можно без слов, на уровне слепых и безошибочных инстинктов.
Когда же она решилась пойти в кино с другим мальчиком, кстати, весь сеанс сосущее чувство неопознанной мучительной тревоги не давало ей даже понять, что они смотрят, – вот тогда она решила порвать отношения полностью. Она с ужасом поняла, что непонятным образом он заставил её зависеть от их отношений, словно магнитом притягивал её мысли, не давал расслабиться и строить свою жизнь так, как этого хотелось ей. И это была не жалость, как она ошибочно предположила после истории с тюльпаном. Это было другое чувство, определить которое она не смогла. Словно Пашка вселялся в её голову, говорил её губами, двигал руками. Заменял её саму. И тогда Тома перестала отвечать на его звонки, не открывала дверь, когда он приходил и запретила общим знакомым упоминать его имя. Она никогда не была жёстким и решительным человеком, даже наоборот, ей часто мешала излишняя мягкость и уступчивость, но что-то пугало её в изменившемся Павле, пугало до такой степени, что она выдержала испытание разлукой до конца.
Тома некоторое время следила за Пашкиной судьбой, знала от общих знакомых, что он поступил в Университет, на биологический, потом слышала, что женился… Очень быстро женился, кажется на третьем курсе. А потом она перестала следить, потому что это было больно.
И вот, спустя столько лет, время вывернулось наизнанку и предоставило ей Пашку с совершенно чужим голосом.
* * *
Тома поняла, что рабочий день безнадёжно испорчен. Комп отключился, приступ памяти обессилил её, высосал все внутренние резервы энергии. Оставалось просто сесть в кресло и попытаться собрать в кучу рассыпавшееся сознание, которое разбивалось на бесформенные осколки от ноющей головной боли. На улице тем временем утих штормовой вихрь, и ровно усыпляюще шумел дождь. Тома встала, опять приоткрыла дверь на террасу, с наслаждением вдохнула запах мокрой земли, сливающийся с травяным ароматом. Природа успокаивала и учила. Всё, что связано с ощущением времени, вечности, проблем бытия и небытия, Тома брала из двух источников – книг и природы. Причём исключительно второй источник был абсолютно незамутнённым. Все виды религиозной мысли и духовных практик, которых Тома так или иначе коснулась, подводили её. На какой-то стадии, причём эта стадия могла наступить очень нескоро, Тома чувствовала обман. Именно чувствовала, звериным нерациональным чутьём. И даже небольшой обман становился той трещиной, которая вела к отъединению. О том, как она перестала ходить в храм, Тома предпочитала не вспоминать. То, что в статьях западных психологов называется религиозной травмой, ударило по ней очень тяжело. Сначала были семейные проблемы, которые чуть не развели их с Матвеем по разные стороны утоптанной за долгие годы семейной дороги. Тома видела, как муж страдает и отдаляется от неё после похорон маленькой пациентки, умершей от лейкоза. Именно эти ужасные похороны память услужливо подсовывала ей в самые неподходящие моменты. Тома была тогда уверена, что у мужа профессиональный кризис, чувствовала свою вину, ведь она не могла вытащить Матвея из депрессивного состояния. Слишком занята была Лёшкой. А потом Тома просто изменилась. Что-то погасло внутри, омертвело и перестало отзываться на любые отзвуки и отблески лучшего мира. Она видела ложь. Ложь во всём, во что так долго верила. Остались книги, живопись и природа. Они спасали, потому что иногда боль самостоятельного отлучения от веры была просто невыносимой. Даже открывая альбом с древнерусской живописью, Тома сразу вспоминала иконописный класс Духовной академии, где одновременно с работой проучилась несколько лет, запах левкаса, ярких пигментов, которые они растирали с яичным желтком, осторожное щекочущее прикосновение к руке специальной кисти для золочения сусальным золотом – «лапки». Невесомый лепесток золота надо было как луч света поймать лапкой, а потом на полименте полировать агатовым «зубком» до гладкого совершенного блеска. Тома помнила удивительное ощущение света от белого сияющего левкаса. Этот свет пробивался через охрение, делая прозрачными лики, которые она тщательно выписывала тонким колонком. И Тома потом явственно видела его даже в мокрых и хмурых кронах деревьев академического сада, по которому она возвращалась домой из лавры.
Сейчас природа открывала ей свои тайны исподволь, постепенно, иногда неявно. Но она никогда не лукавила, никогда не выдавала желаемое за действительное, никогда не играла с сознанием в запрещённые игры. В красивом весеннем лесу таились клещи, переносящие энцефалит и боррелиоз, в поле бегали очаровательные серебристо-кофейного цвета полёвки, с целым букетом смертельных для человека инфекций, могло упасть дерево, ударить молния и прочее. Человек тысячелетиями эволюции готовился бороться со всеми этими невзгодами. Но бороться с манипуляторами сознания и всяческой нечистью из собственного человеческого рода, эволюция почему-то не научила. Тут можно набираться опыта только путём проб и ошибок, тоскливо констатировала Тома. Только так. Уметь проскочить между медоточивыми обещаниями нетленной вечности, с разными соблазнительными вариантами божественного утешения, и откровенным нигилистическим материализмом, проскочить не в мещанское духовное безразличие, а на путь нормального, адекватного разгадывания тайны. Тайны живого, тайны мироздания, тайны собственной жизни, в конце концов. Да, ты будешь разгадывать эту тайну всю жизнь; да, не будет готовых ответов; да, ты, скорее всего, ничего не разгадаешь. Но твоя жизнь будет иметь настоящий смысл, не придуманный кем-то, а созданный тобой лично. Именно так она чувствовала сейчас. Но какая-то едва заметная саднящая боль не давала душе успокоиться.
Дождь стучал по черепице монотонно и глухо, Тома немного прибралась, приняла вторую таблетку, потом взяла в руки книгу и удобно устроилась в углу дивана. Работать в таком состоянии было невозможно, голова горела огнём, буквы на мониторе перемешались и мерцали. Баронет тут же запрыгнул на диван и улёгся рядом, с тяжёлым вздохом привалившись лохматой тёплой спиной к её ногам. Перехода из действительности в сон Тома даже не заметила.
Она брела по песчаным дюнам, а кожа её сгорала, как тонкий пергамент под лучами жестокого, слепящего солнца. Рот пересох, очень хотелось пить. Она подумала, что скоро умрёт, ведь её волосы не были прикрыты, голову и лицо ничто не защищало. Под ногами осыпался песок, каждый шаг давался с трудом. Справа она видела какие-то каменные стены, вроде монастырских. Ни одного человека не было заметно около этих стен. Но она спешила туда, потому что камни – это убежище, возможно прохлада, тень, а может быть, и вода.
Но, несмотря на то что она пыталась двигаться быстрее, стены не приближались. Только дрожащее марево окутывало их сверху, и удивительно ясно были видны мельчайшие детали – раскрошенные ступени, арка, железный лист, с прозрачным, вырезанным крестом, висящий на цепи… Это мираж, догадалась во сне Тома и застонала. Она не помнила, что спит, и смерть стала явной, близкой и неизбежной.
И уже на исходе мучительного обжигающего вдоха она увидела человеческую фигуру, у самых ступеней, в чуть более тёмной зоне, защищённой от всепроникающего света. Она заковыляла к этой фигуре, не чувствуя ног. Ещё немного, ещё… Перед ней сидел древний старик, в сером рубище. Голова его была прикрыта каким-то капюшоном, и Тома сразу подумала, что это монах. Она опустилась рядом, в блаженной тени, чувствуя неимоверное облегчение. Смерть отступила. Старик стал говорить что-то, мягким успокаивающим голосом, но Тома не понимала язык и по-прежнему не видела лица говорящего. Но скрытый смысл непонятных слов проступал в сознании, она вдруг заплакала, и слёзы принесли облегчение. Лицо было мокрым, таким неприятно мокрым…
Тома открыла глаза, и Баронет ещё раз, шумно дыша, облизал ей лицо. «Я плакала во сне, он слизывал слёзы», – подумала Тома и прижала большую ушастую голову к груди. Они лежали в обнимку, Тома перебирала пальцами мягкую шерсть, а пёс утробно ворчал от удовольствия, периодически приподнимая правую переднюю лапу и помахивая ею в воздухе. Так он просил продолжения блаженного ритуала чесания.
На улице от дождя остался только мокрый ветер, но солнце не появилось, низкое сизое небо почти прижималось брюхом к промытым макушкам берёз и елей. И появилось электричество.
Вечером, когда приехали муж с сыном, Тома немного успокоилась, но во время прогулки с Баронетом, в молочных сумерках, около одуряюще пахнущего сырого леса, она неотступно думала о звонке Павла. А перед сном тревога вернулась в полную силу. Тома ворочалась с боку на бок, вспоминала мельчайшие подробности их с Пашкой детского мира. Она и не подозревала, что помнит так много, да практически всё. Рядом мерно дышал во сне Матвей, по лестнице, за закрытой дверью прошлёпал босыми ногами Лешка, наверное, пошёл разжиться чем-нибудь вкусненьким на кухне.
Что могло заставить её старого друга позвонить ей, спустя столько лет? И почему он обратился именно к ней? С одной стороны, такое доверие очень лестно, но с другой… пугает. Ведь любое доверие – это ответственность. А вот готова ли она к лишней ответственности – большой вопрос. Тома ведь так блаженно расслабилась после увольнения из школы, где по факту особенностей профессии чувство ответственности и самоконтроля доводится до опасного максимума, и полное психологическое истощение не происходит лишь потому, что все шестерёнки души смазываются маслом любви к детям и преданности выбранному делу. А если не смазываются, то получается то, что получается. Кошмар наяву получается. Выгоревший, орущий, испытывающий почти физическую ненависть к детям педагог.
Тома заснула только под утро, и в череде ярких снов, посещающих её этой весной, появился ещё один. Приснилась осенняя дорога, сгущающаяся в шелестящем кустарнике темнота, и Пашка, освещающий путь маленьким карманным фонариком. Сначала Пашка был такой же, как в школьные годы, но, когда они вышли к странным пустым домам, на освещённую фонарями улицу, он вдруг превратился в нелюдя. Он был высок этот нелюдь, высок и красив, с гранёными осколками теней в волосах и прожигающим насквозь пристальным взглядом. Этим взглядом он пригвоздил её к месту, лишил возможности двигаться, она просто стояла как манекен, не в силах даже наклонить голову, хотя прилагала к этому титанические усилия. Пытаясь сделать шаг или хотя бы разлепить губы, она смотрела на него в ужасе, а он улыбался. Улыбаясь, он приблизился и щёлкнул пальцами. И тут Тома начала уменьшаться, стремительно как по волшебству. А он вырастал, становясь гигантом. И когда она стала размером с воробья, тот, кто был прежде её другом, просто взял её двумя пальцами за волосы и поднял. Его лицо чудовищно исказилось, рот растянулся в нечеловеческой ухмылке, глаза напоминали ледяные камни, они даже не блестели. Тома закричала, дыхание её остановилось, и сон закончился. Она долго тяжело дышала в темноте, стараясь прийти в себя, и заснула только под утро.
На следующий день не было солнца. То же сизое небо, ветер, и лишь временами секундные просветы, среди быстрых рваных облаков.
Пока Лёшка копался наверху Матвей открыл дверь на улицу, и ветер сразу взлохматил ему остатки когда-то густой шевелюры. Тома отметила, как поредели волосы мужа, залысины пробирались ото лба к макушке, оставляя лёгкое облако тонких волосинок. В этом было что-то от возвращения к младенческому образу, к почти лысой головке ребёнка с мягким пуховым венчиком. И с внезапной острой, как боль, нежностью, которая касается только самых любимых людей, Тома подумала: «Мы стареем…»
Матвей задержался на несколько секунд, как будто её нежность невидимым током перешла к нему, обернулся и поцеловал жену. Тома прижалась к нему, замерла, вдохнула запах, ставший за два с лишним десятка лет не то чтобы родным, а как бы своим собственным, запасным, необходимым для жизни запахом. Сзади, в коридоре Алексей одевался, роняя вещи на Баронета, который лез ему под ноги.
Когда они уехали, Тома начала нервничать. На самом деле, внутренняя дрожь не оставляла её с ночи, голова болела уже привычно и глухо, но утренняя суета помогла отвлечься. А теперь Тома осталась с волнением наедине. Она торопливо, без обычного удовольствия выгуляла Баронета, потом уселась за стол. Ей хотелось написать серию рассказов про историю своей семьи, сложное переплетение судеб в начале двадцатого века, невероятную человеческую кашу, где сталкивались и варились до однородной массы представители разных сословий, культурных слоёв, совершенно несовместимые в своей прошлой, иной жизни. Что представляло собой это варево, из которого новая страна лепила удивительного «гомо советикуса», рождала новое искусство и культуру, подчас потрясающую своими шедеврами, очень интересовало Тому. Она хотела понять, что давало некоторым устойчивость к «варке», вынося их на поверхность каши в виде корабликов непокорной воли, которые сложно было проглотить даже отлаженной системе государства. Неизвестно кем построенные лабиринты судьбы сводили в своих запутанных, иногда тупиковых коридорах тех, кто вовсе не хотел встречаться. И порой, эта немыслимая общая борьба против невидимого, прячущегося в центре каменных коридоров врага, сближала людей так, как никогда не сблизят безопасность и покой.
Тома вспомнила свой сон про бабушку, мать отца. Сон был так тяжёл, что она постаралась выкинуть его из головы и не обдумывать. Но что-то крылось в этом кошмаре настолько глубокое, настолько потаённое, что опять леденящее ощущение превращения живого и родного в мёртвое и страшное захлестнуло Тому с головой. Тем более какое-то смутное литературное воспоминание вызвало тяжёлую уверенность, что сон был недобрым.
С бабушкой она была близка, некоторое время они жили в одной комнате, хотя в период Томиного подросткового расщепления личности, частенько ругались. Обе были упрямы, но никогда не сдавали своих позиций без боя. Бабушка с раннего утра была занята, прихрамывала по квартире (что-то у неё случилось в детстве с ногой, Тома мало интересовалась подробностями), готовила вкусные обеды, убиралась, ходила за покупками. Тома обожала бабушкино окно, потому что на широком подоконнике помещался настоящий тропический сад. Свисали поверх широких мягких листьев огромные граммофончики глоксиний, гладкий шёлк их нежных тёмно-фиолетовых и малиновых соцветий маленькая Тома всегда хотела осторожно погладить пальцем, чтобы почувствовать несовпадение, зрительный обман – цветы производили впечатление бархатных, в мягких переливах красок, но оказывались упоительно атласно-гладкими при прикосновении. Каждую зиму бабушка срезала обвисшие мягкие листья и прятала горшки с цветами под шкаф, в тёмный уголок. А весной происходило чудо – из абсолютно сухого бугорка земли появлялись крошечные розоватые пушистые побеги, и цветок воскресал, чтобы снова радовать взор.
Рядом с глоксиниями помещался огромный горшок с домашней фуксией, которая напоминала миниатюрное дерево, а во время цветения украшалась причудливыми «балеринками» – так Тома называла розовые соцветия с тёмно-фиолетовыми юбочками. Тома любила пристроиться у бабушкиного окна и играть маленькими куклами-голышами, пристраивая их прямо около ствола цветка, рукой перемещая между веток и листьев. Это был целый мир, целый лес для её кукольного царства.
По вечерам, когда возвращались с работы родители, бабушка скрывалась в своей комнате, особой общительностью она не отличалась. Если внучка заглядывала к ней, то обычно заставала бабушку за вязанием. Именно тогда Тома любила пристроиться бабушке под бочок и подсунуть ей книгу. И бабушка откладывала своё вязанье, которое клубочком сворачивалось на тумбочке как шерстяной кот с косичками узоров, а потом медленно, не торопясь читала. Это был час волшебства, который Тома ждала весь день.
Судьба бабушки была с одной стороны обычной, а с другой – совершенно удивительной. Потому что с детства ей помогала какая-то странная, но очень целенаправленная сила, не желающая исчезновения болезненной, не очень красивой, но очень умной девочки с лица земли. Хотя по судьбе этой девочки прошлись с размахом не только жернова эпохи, но и многочисленные беды, не зависящие от слепого революционного бурана. Жизнь каждого человека и каждой семьи болтается между личными несчастьями и сюрпризами, которые преподносит время. А времена, как известно, не выбирают.
Умерла бабушка, когда Томе было семнадцать лет, она хорошо помнила отпевание в том самом белоснежном с голубыми куполами храме, укрытом старыми деревьями, у основания которых, под мощными стволами и пышными кронами раскинулось кладбище. Мрачноватый молодой священник, с раздражённо-утомлённым выражением лица механически проговаривал слова заупокойных молитв, хор тоже был уставший, две молоденькие девчонки-хористки громко перешёптывались во время каждения. Томе было тошно до смерти, запах ладана волнами туманил сознание, а от слёз плохо видели глаза. Лишённое красок лицо и белая рама платка – это и осталось в голове единственной чёткой картинкой. Вдвоём с братом они вышли на улицу, и сидели молча, глядя на высокие сосны, поскрипывающие под тяжестью снежного неба. Брат был теснее связан с бабушкой, так Томе всегда казалось. Именно его она брала на лето в далёкую деревню, куда маленькая Тома ездила всего пару раз. Теперь Томе было больно об этом думать, она вспоминала ссоры, резкие слова, которые порой говорила старушке, и не понимала, почему всё это происходило, если конец пути неизбежен, и можно просто больше жалеть своих близких, чтобы потом не вдыхать горький хвойный запах смерти с чувством тяжёлой непоправимой вины. Ночью после похорон Тома не спала, подушка была уже мокрой от слёз, а в соседней спальне вздыхал отец. Тома слышала, как он выходил на балкон курить. Она вдруг подумала, что никогда не интересовалась глубоко жизнью бабушки. Знала только, что отца она растила в одиночку, работала на двух работах, чтобы сын поступил в институт. Потом помогала его семье, заботилась о внуках. Замуж не выходила, а с Томиным дедушкой (которого Тома так никогда и не увидела) рассталась сразу после войны. Вроде как у того нашлась потерянная на оккупированных территориях семья, и выбор был сделан не в пользу бабушки.
Отца бабушка воспитала добрым и немного безвольным, но множество Томиных самых тёплых детских воспоминаний было связано именно с ним. Отец всегда придумывал что-то весёлое, они часто вместе гуляли, и Тома обожала вести с ним задушевные беседы. Бабушка сыном гордилась и любила его, даже немного болезненно, как это часто бывает у одиноких матерей.
Тома вспомнила вдруг, будто её укололи в самое сердце длинной ледяной иглой, как старушка приходила к ней в детский сад и помогала, если у неё приключались неприятности.
Натурой закрытой и недоверчивой Тома была уже с раннего детства. Сад вызывал у неё тошнотворный страх с первого дня. Она до сих пор помнила имя лишь одной милой и доброй воспитательницы, которая один раз отвела её домой, когда за ней не прибежала вовремя бабушка. Родители тогда задержались на работе. Остальное слилось в серый ком привычной и тоскливой печали. От детского невроза с Томой частенько происходили всякие несуразные происшествия. То она роняла сачок в аквариум с грустными рыбками, то не могла разобраться в несложных играх или слепить из спичечных коробков поделку – грузовик. У всех детей коробки склеивались как положено – Томины бунтовали. Пальцы не слушались и Тома с ужасом ожидала неминуемого презрительного взгляда другой, люто нелюбимой воспитательницы, с белыми от пергидроля волосами и очень яркой красной помадой на полных губах. Весь первый год младшей группы глубоко в Томином сознании шевелилось подозрение, что на досуге этим ужасным красным ртом воспитательница ест где-нибудь в тёмном углу неловких детей.
Когда Тома обливалась компотом или у неё совершенно промокали ноги на прогулке, а сменной одежды не было, бабушка приходила за ней, бормотала что-то ласковое и успокоительное, помогала переодеться. А Тома, сражённая очередной бедой, стояла как манекен, протягивая ноги и руки, казавшиеся ей двумя мягкими макаронинами. В такие минуты она умела быстро убежать в воображаемый мир, с тёплым летом и драгоценными бабочками, медленно и томно раскрывающими крылья на круглых жёлтых цветах.
И теперь бабушка вернулась в этом страшном сне, хотя раньше снилась доброй и улыбчивой, а Тома совсем не помнила о её смерти до момента пробуждения. Чтобы отвлечься от мыслей о ночном кошмаре, она вынула коробку со старыми фотографиями. Фотографии детей хранились в ярких альбомах, а с некоторых пор, благодаря всеобщей цифровизации оставались в облачном мире виртуальной памяти компьютера, даже не перемещаясь на бумагу. Но старые чёрно-белые фото лежали в мешочках и потрёпанных тёмных альбомах, их редко доставали на свет божий и разглядывали. Тома покопалась и нашла несколько глянцевых, с заломами фотографий, где на диване позировали её родители, она с братом и бабушка. Брату на фотографии было лет семь, Томе, соответственно, около двух. Мама была с модной в то время химической завивкой, папа в очках с тёмной, толстой роговой оправой, а Тома с братом в неказистой детской одёжке советского времени, хлопчатобумажные колготки (как они тянулись на коленках, отвисая вниз унылыми пузыриками!), у брата короткие штаны и рубашка, у неё – платьице с узорами, ручной вязки. Вязала бабушка, в условиях тотального дефицита умевшая делать это как добрый паук, с неимоверной скоростью. И у брата, и у Томы коротко подстриженные волосы, прямые чёлки. Тома смеётся, так что глаз почти не видно – счастливые щёлки, и держит маленькой ладонью руку бабушки. Фотография поставила всё на свои места, тревога улеглась, ощущение беды отступило.
В четыре часа Тома вымыла голову, уложила волосы феном и немного накрасилась. Краситься она не очень любила. И не очень умела, даже старшеклассницы делали это быстрее и лучше. Нормальный, полноценный макияж неприятно напоминал Томе театральный грим, маску. Лицо под ним становилось официально ухоженным и совершенно чужим. Однако на работе эта маска порой помогала – под ней можно было спрятать настоящие эмоции. Сейчас это пригодится. Тома внимательно посмотрела на себя в зеркало и вздохнула. Относительно недавно она перестала маскировать краской седину, и в тёмно-каштановых прядях появились серебряные штрихи. Сначала это пугало, годы словно вырвались из подполья и конспирации – заявили о себе в полный голос. Но по мере неуклонного наступления серебристых волос на тёмные, Тома почти физически чувствовала облегчение, словно ей не надо было врать. Но женщина, которая смотрела на неё из зеркала, уже не имела отношения к тем воспоминаниям, что связывали её с Павлом. Так почему же она так напряжена, и уходит из дома словно на эшафот? Странное недомогание притупилось, но не прошло полностью, хотелось свернуться калачиком под одеялом и спать. Только спать. Спать, спать и спать. Баронет, лежащий на своей подстилке грустно и с упрёком взглянул на неё. Уходишь, мол, бросаешь меня одного.
– Я по делам, Баринька, скоро вернусь, – пробормотала Тома, испытывая острое желание никуда не ехать. Она даже села в коридоре перед дверью, сгорбившись, словно ей предстояла не обычная поездка в город, а дальний тяжёлый путь.
Баронет решил, что всё обошлось, и улёгся на её ногах, блаженно вздохнув. Тома окончательно расстроилась, пробормотала что-то о бессовестных людях и решительно вышла из дома. Баронет тоненько просительно тявкнул за дверью, потом замолк.
По дороге Тома старалась ни о чём не думать и просто плыть по течению. В конце концов, она Пашке ничем не обязана, просто дружили малышнёй. Не более того. Разве она сможет разрулить проблемы взрослого, совершенно уже чужого человека. С какой-то страшной, запутанной семейной историей. Как чужой ребёнок оказался в их семье? Как такое вообще возможно… Хотя случилось это всё в девяностые, а годы те были тёмные, стихийные. Тома стала вспоминать то время, самый хвостик миллениума, совпавший в её стране с окрашенной кока-кольными яркими цветами свободой и бесконтрольным бандитизмом. И именно сейчас, когда сонное безысходное затишье взорвалось бурлящими протестными митингами, именно сейчас эта далёкая история опять всплыла в её личной, частной, обособленной от большого мира жизни.
Тома реагировала на происходящее живее и болезненнее Матвея, который умел отстраняться от сиюминутного, пока не было возможности оценить происходящее с некоторого расстояния, времени или раздумья. Он предпочитал погружаться в работу, возделывать, так сказать, свой сад.
Тома очень хотела научиться такому же подходу, чтобы лишний раз не пороть горячки в оценках и суждениях по поводу назревающих перемен, плохих или хороших, Бог весть. Но ей не хватало терпения и выдержки. Всё, лживое и перевёртывающее факты наизнанку, она воспринимала как личное оскорбление, а занимались производством подобного информационного оружия как провластные структуры, так и пёстрая неоднородная оппозиция. И там, и там цель оправдывала средства, и это было глубоко противно Томиной душе.
Когда они продали ради жизни на природе городскую квартиру, сосед, постоянно транслировавший недовольство окружающей российской действительностью, но при этом совершенно не обделённый материальными благами, горько заметил:
– В богатенькое гетто с охраной переезжаете?
Тома тогда не нашлась, что возразить, хотя переезжали они в скромный посёлок для среднего класса, никаких дворцов с лепниной и гектаров угодий там не наблюдалось, небольшие участки с симпатичными домиками. Да, общество превратилось в слоёный пирог, где люди с одинаковым уровнем образования, но разными с точки зрения возможностей личного бизнеса профессиями, самым печальным образом разделились по уровню жизни. В разных слоях зачастую оказывались даже дети из одной семьи, если кто-то из них был бюджетником, а кто-то создал своё дело. Поэтому вышедший из привычных реалий сравнительно однородного и безопасного существования постсоветский человек, попал на поле тлеющей гражданской войны раннего капиталистического беспредела, где бедность и богатство непосредственно влияли почти на все сферы жизни, а границы между ними делались всё резче. Даже в их посёлке всё было очень странно – брошенные, недостроенные дома зарастали высокой лебедой и зловещими зонтиками борщевика, рядом высились громады четырёхэтажных дворцов с огромными участками, а сами они занимали небольшой дом, еле-еле справляясь с финансовой нагрузкой по его обслуживанию и содержанию. Но в любом случае, эта картина устраивала Тому гораздо больше, чем однородность вип-поселений, с огромными особняками, со своим закрытым мирком, отделённым от народа в бытовом, социальном и правовом отношении. Острова победивших денег в стране, где париями стала основная часть населения, напоминали гигантские, но очень тяжёлые золотые плоты, в открытом океане, где постоянно усиливается ветер. Общество превратилось в грозовой перевал, где небо постоянно кипело темнотой и хаосом, а люди томились неясным ощущением беды.
Она помнила, как на городские улицы вышли пёстрые толпы, с надувными жёлтыми уточками и кедами, которые развешивали даже на фонарях. Что-то в этом было из детства… Как у наших у ворот, чудо дерево растёт… Не цветочки на нём, не листочки на нём… А чулки, да башмаки, словно яблоки… С больным горлом Тома пересидела тот стихийный бунт дома. Она с грустью смотрела на лица людей, ловила их настроение, их слова, которые резким шумом врывались в комнату из прямых трансляций. Бесчисленные молодые, юные, даже почти детские лица поразили её. Она с болезненной горечью смотрела на кадры, где мальчишка-старшеклассник, худой, плохо одетый, с красным на холодном ветру лицом кричал, захлёбываясь: «Мы здесь – власть! Сами вы, гады, держитесь!» Ему внимало озябшее в лёгкой одежде сиреневых кустов Марсово поле, на короткое время ставшее гайд-парком. Кого оно только не держало на своей широкой терпеливой спине: подмостки царских летних театров, солдат, которые вколачивали в пыль чеканный шаг, толпы гуляющих, даже северных ездовых собак, катающих на санках желающих, и такое было. Но детей, залезающих на фонари, и такое количество мирных водоплавающих всех форм и размеров, внезапно ставших символом неравенства, оно ещё не видело, и, наверное, сильно удивлялось.
И этот протест, расцвеченный разнообразными игрушками, что добавляло в него какое-то странное мультяшное ощущение гротеска, был явно не последним. Расколотое противоречиями общество было похоже на перезрелый гранат, лопнувший прямо на ветке дерева. Тома видела такой в южной стране и долго смотрела на это осеннее уродливое чудо.
Вечный и поэтому сакральный призрак всеобщего благоденствия, который, как мираж в пустыне, всегда кажется близким и легко достижимым, а потом превращается в очередное смертельное и бесцельное скитание по пескам, наверное, нужен душе человека, размышляла Тома. Странно не мечтать о потерянном рае, даже убедившись, что построить его силами воодушевлённых человеческих масс, невозможно. Котлован остался незавершённым, но в него падают и падают бегущие люди, и крикнуть: «Беда, барин, буран!» некому, лошадки давно везут пустую кибитку.
Тома ехала по полупустому в этот час пригородному шоссе и смотрела на гигантские билборды с цифрой один, оставшиеся с майских праздников. Среди них неожиданно мелькнуло лубочно сделанное изображение Ксении Петербургской, с какой-то молитвенной надписью. Повесили его совсем недавно. Тома хмыкнула и рассердилась одновременно. Идеологические политтехнологии на высоте. Праздники и святые – чем ещё утешить население? Невыносимо стала болеть шея, настроение окончательно испортилось. И в довершение кольнула-вспомнилась фигура старика-монаха из недавнего сна.
Да почему этой весной она без конца думает о снах? И немедленно мысли потекли в направлении литературных ассоциаций. У Чехова монах хоть говорил понятно, излагал внятно, что и как. А у неё? Только почему она не могла разобрать его слов? Ведь они были так важны, для понимания чего-то крайне важного именно для неё. И от чего было такое радостное ощущение неимоверного облегчения? Тома усмехнулась, ну вот, опять докатилась до жажды мистических озарений. И запретила себе думать о снах. Действительно, сколько можно? Ну хотя бы временно, трусливо шепнуло подсознание.
Она приехала в город, нашла удобный въезд в парк, припарковала машину, заглушила её и задумалась. Правильно ли она поступает? Она сидела не шевелясь, глядя на зелёную шумящую стену берёзовой аллеи, время ещё оставалось, можно было просто сбежать. Этот выход показался Томе настолько правильным и соблазнительным, что она даже зажмурилась. А потом резко открыла глаза, вышла и быстрым шагом двинулась к пруду, который уже поблёскивал светлым зеркалом за деревьями. Кстати, почти ничего в парке не изменилось за прошедшие годы, разве что появились новые красивые фонари, да кустарник около пруда был аккуратно подрезан. По-прежнему, здесь было немного людей, особенно сейчас в будний день. Пара молодых женщин с колясками в отдалении и всё. Томе показалось, что дорожки парка необычайно чистые и светлые, каждой песчинкой мелкого песка отражают весеннее небо. И это вызвало неясное, томительное в своей неопределённости воспоминание, откуда-то издалека, совсем издалека. Тома задумалась, и вдруг увидела Пашку.
Он сидел на ближайшей к ней скамейке. С первого взгляда Тома поняла, что это раздавленный человек. Ничего давнего, детского в этом лице не было. Собственно, не было и иных вещей. Пустое, отражающее небо, закрытое окно. Что там, за чисто вымытым стеклом – непонятно. Ноги у Томы стали очень тяжёлыми и ватными одновременно. Она медленно подошла и окликнула:
– Привет, Пашка!
Он так вздрогнул, что Тома непроизвольно отклонилась. Лицо его было абсолютно, стопроцентно счастливым. Таким может быть лицо человека, добившегося осуществления давней мечты. Глаза светились не радостью, а каким-то маниакальным, безумным счастьем. И ещё они были совсем другого цвета, не прозрачные как в детстве, а непроницаемые, густо-коричневые, почти чёрные. И что-то читалось в них, незнакомое, непонятное. Удовлетворение? Гордость собой?
– Привет, Томка!
Так они и стояли, улыбаясь, глядя друг на друга. Потом вместе сели на скамейку, Тома хотела что-то спросить, но посмотрела на друга детства и осеклась. Открытое радостное выражение словно стекало с лица Павла, оставляя напряжённую застывшую маску. «Он обрадовался в первый момент, а потом вернулся мысленно к своим бедам», – поняла Тома. Она не знала, как начать, как подступиться, как вернуть обратно открытую доверчивую радость, которая делала Пашку – Пашкой. Но он заговорил первый.
– Я решил к тебе обратиться. Решил, что ты поможешь. Не знаю, почему к тебе. Вроде и друзья есть, семейные, институтские. Но не могу я с ними… обсуждать. У меня сын. Сергей. Ну, то есть мы его Сергеем звали. На самом деле… – Павел сделал паузу и перевёл дыхание. – На самом деле, Глеб. Как выяснилось. И не я его отец. Родной отец, биологический, уже написал ему в соцсети. Представляешь? Тогда его днём с огнём не отыскать было, а теперь рвётся обнять, так сказать, обретённого сына. Серёга боится встречаться. Пока по крайней мере. А я… Я не знаю, что делать. Я просто раздавлен. После смерти Веры, всё, что меня держало, – это Серый. Ради него жил. И теперь… Я очень любил Веру. Очень. – Павел быстро взглянул на Тому и сразу отвёл глаза. – Теперь… Я не знаю, как объяснить. Мне не посмотреть ей в лицо. Не спросить. А ведь она знала… Тома, она знала! Она это сделала!
– Что сделала? – с щекочущим тошнотворным замиранием внутри спросила Тома.
– Мы долго не могли иметь детей. Потом вот, Серый… – На этом месте Павел опять сбился. – То есть, беременности не было. Она лежала в больнице, сказала, что на сохранении. На самом деле, с какими-то болячками. Два раза. Отделение было при роддоме. Там и нашла эту санитарку. Время такое было, девяностые, бардак полный. И продать, и купить всё что угодно можно было. Вот она и… купила. Имитировала беременность, уверяла, что живота нет, это так бывает, редко, но бывает, особенно если плод маленький. Вроде как ездила к врачам, сдавала анализы. Даже потолстела! И потом сказала, что рожать пора, легла туда якобы, чтобы исключить риск преждевременных родов. В результате я уже смутно помню, что-то говорила про реанимацию, что не пустят меня, что не надо встречать… И привезла Серого. Мне сразу показалось, что он очень на меня похож… Так и стали жить, документы на сына она сама ездила оформлять. Только сейчас всё раскрылось, знала Верина подруга, она и рассказала. Через столько лет! Не понимаю, почему она мне не написала? Почему в газету? У той санитарки дочь, хорошая была девочка, училась в художественном училище, но в секту подалась, собралась уезжать куда-то в Тмутаракань, на Урал, жить в поселении, питаться энергией солнца. Где-то она там и сгинула потом. Ребёнка хотела взять с собой. Отец, тоже парень молодой, студент, тоже вроде художник, даже не знал о её беременности. Она скрывала. Верующая была. Знала мать. И эта мать продала Вере мальчика после дочкиных родов. Не знаю, как она убедила дочь отдать ребёнка. Передала его жене, специально для этого встречались. Девочка рожала под Вериным именем. Жена передала свой паспорт. Как они не заметили разницы во внешности, я до сих пор не понимаю… Той девочке было девятнадцать, а Вере уже двадцать семь. Как это всё вообще получилось провернуть, как она смогла быть такой спокойной, хладнокровной!
Тома молчала подавленно, что говорить, она не знала, выражать своё сочувствие не решалась. Павел был в состоянии острого стресса. Тома вспомнила университетские лекции по общей психологии: переживая несчастье, мужчины обычно становятся молчаливее, замыкаются. Женщины зачастую, наоборот, рассказывают о горе всем подругам, незнакомцам на улице, даже встречающим их дома кошкам и собакам. Так легче, в проговаривании уходит часть боли. Хотя много раз Тома наблюдала тоскливо-неразговорчивое переживание горя у женщин и болтливое страдание мужчин. Мужчины тоже обладают развитым навыком выливать ушат неприятностей на близких друзей.
Значит, Пашка действует по условно женскому принципу. Либо… Либо она для него, как это ни парадоксально, самый близкий друг. Он, что, за эти годы другого не завёл? Ведь она сама успела влюбиться и выйти замуж. При этом они с Матвеем настоящие друзья. Что бывает редко. Может быть, даже надо меньше быть друзьями, потому что тогда, в тёмные эпохи семейной истории тебе меньше будут доверять и жаловаться. Тома опять внезапно, до дурноты ощутила запах цветов и разрытой мокрой земли. И увидела детский гроб, маленькое спокойное фарфоровое лицо с голубоватыми веками. Опять прошлое схватило её зубами как агрессивная дворняжка, которая молча догоняет жертву, впивается острыми зубками в лодыжку, и только потом громко лает.
Тома смотрела на своего друга, который был для неё когда-то так важен. Так необходим. Он воплощал в жизнь то, что она никогда не решилась бы сделать одна, без союзника. Но он требовал полной зависимости. Он был для неё товарищем, а она нет. Она была талисманом. И как любой талисман имела право только дарить владельцу вдохновение и чувство безопасности. Теперь Павел сильно изменился. Он нуждался не в талисмане, а в спасителе.
Тома думала, а что было бы, если бы, они бы… И многочисленные «бы» выстроились в её сознании каким-то глухим забором, мешающим находиться здесь и сейчас. Пашка воспринял её молчание по-своему.
– Я понимаю, что это всё нельзя рассказывать… – пробормотал он. – Это в конечном счёте наше очень личное. Вернее, моё теперь. И Сергея. То есть Глеба. Серый хочет найти родителей. Вера умерла, а мы теперь будем разбираться. Распутывать клубок.
– Ну, я думаю, за то, что она умерла, её уж точно ругать не надо, – тихо заметила Тома. – Чего ты боишься? Что биологический отец окажется важнее тебя? Это очень маловероятно. Ведь ты был уверен, что… – Она запнулась, потому что не знала, каким из имён правильно назвать мальчика.
– Глеб, – быстро сказал Павел и поморщился как от зубной боли. – Хотя он хочет быть Сергеем. Но тот… отец, он его Глебом зовёт.
– Значит, будет – Глеб-Сергей, вроде как двойное имя на западный манер, – улыбнулась Тома. Это немного разрядило обстановку. Пашка опять расслабился, заулыбался, даже оглянулся вокруг, словно только в этот момент заметил, как красив весенний парк.
«Боже мой, как он зависит от моих слов, – ужаснулась Тома. – Это ненормально, это странно. Вообще очень странно то, что между нами происходит. Мы что, пришиты друг к другу какой-то ниткой? Много лет она волочилась между нами, а теперь вдруг натянулась и сделалась ужасающе короткой. Грязная, испачканная временем и обстоятельствами нитка. Раньше он хотел, чтобы я ходила за ним на коротком поводке, теперь готов уступать во всем сам. Я этого не хочу».
– Я пойду… – нерешительно то ли сказал, то ли спросил Павел.
– Ты живёшь один? – рубанула с плеча Тома.
– Мы вдвоём. С Сергеем. Но я … Тома я не справляюсь. Мне врачи ставят под вопросом рекуррентную шизофрению. Может быть, это просто биполярное расстройство. Знаешь, это даже модно сейчас.
Видимо, у Томы был очень растерянный вид, потому что Павел вдруг изобразил рэп-чтение и выдал что-то про любовь и «биполярочку». Улыбнулся, глядя на её удивлённое лицо и пояснил:
– Это у меня Серый слушает. А что, талантливо ведь. Я на лекарствах живу, Тома. Сейчас начинается обострение, я чувствую. И знаешь… много лет я боялся, что Серому передастся, ну… заболевание. Диагноз. А теперь, теперь я не психую хоть из-за этого. Меня всегда дико удивляло, почему так спокойна Вера. Она мнительная была, волновалась из-за пустяков. А тут – как скала. Теперь я понимаю… Я боюсь, что Серый не будет ко мне приходить. Он целыми днями посылает запросы про своего отца. Я смотрел в его ноуте историю поисков. Просил меня съездить в роддом, где родился… Я не смог. Отказался. И на фоне всего этого пошло резкое обострение состояния. Появились галлюцинации.
– Галлюцинации? – вздрогнула Тома, ладони у неё взмокли, она почему-то вся покрылась испариной, даже тонкий шарфик на шее намок. Она хотела спросить, какие галлюцинации, но побоялась. Губы у неё словно слиплись, даже разомкнуть их стало сложно. Павел вздохнул, посмотрел в сторону, потом на воду, потом опять на неё.
– Я тебя слышу, Томка. Слышу тебя везде. Ты со мной разговариваешь. А последний раз ты меня спасла. Я не узнал себя в зеркале. Там был даже не человек моего возраста. Не говоря о внешности. И я разбил зеркало. Взял осколок. Треугольный. Хотел всё закончить. А ты сказала – не смей. Сказала, что я гений, просто никто не знает. Ты сказала, что не бросишь меня. Я ведь сразу понял, что всё правда, иначе как бы я твой голос узнал?
Тома вернулась домой только вечером, причём то время, которое прошло после встречи с Павлом, она помнила нечётко, словно бродила по району, где прошло её детство в состоянии лунатизма. Нет, с одной стороны она хорошо помнила, как после встречи в парке пошла в сторону своей школы. Она не была здесь уже лет десять. Дворы около дома её детства показались ей старыми фотографиями, на которых неизвестный и жестокий владелец ставил кружки с кофе, записывал номера телефонов, просто водил ногтём, оставляя царапины и белые полосы. Да, к своим сорока пяти она уже хорошо знала в лицо этого безжалостного к дорогим тебе вещам безликого вандала – Время. Но смириться с потерями всегда было трудно. Деревья разрослись, закрывая привычные виды, на месте сквера с деревьями, больше, конечно, похожего на пустырь, но такого родного – она ведь всегда глядела на него из окна своей комнаты и даже увлечённо рисовала самое кривое и чахлое деревце клёна, – на его месте теперь въелся в землю выпуклыми корнями подъездов многоэтажный громоздкий дом.
Школа утонула в зарослях кустарников, она не помнила их названия, только калина узнаваемо растопыривала трёхпалые ладошки листьев. Как Тома любила положить осенью в рот горьковатую холодную, блестящую малиновым глянцем ягоду и сморщиться! Пашка всегда морщился вместе с ней и смеялся. Тома пошла по дорожке, которая вела их в детстве к продуктовому магазину за стаканчиком пломбира; они сообща наскрёбывали нужные сорок четыре копейки, а потом, не торопясь, с вафельными стаканчиками, наполненными блаженством, брели в книжный, на соседнем проспекте.
Тома прошлась по заросшим дорожкам около облупившихся домов, смотрела на заполнивших детские площадки громких смуглых детишек, съёмные квартиры в дешёвых пятиэтажках стали излюбленным жильём приехавших на заработки трудовых мигрантов. Матери детишек представляли собой весьма специфическое для мегаполиса зрелище, кто-то накинул длинную куртку на цветастый халат, из-под которого торчали кроссовки, кто-то стоял в носках и пляжных шлёпанцах, несмотря на прохладный весенний вечер. Однако настроение у женщин было хорошее, они громко смеялись, и эхо гортанных голосов мячиком отскакивало от домов, отражавших стёклами окошек прозрачную угасающую синеву неба.
Тома постояла во дворе своего детства, смотрела на окна их квартиры – с маленькими комнатами и длинным коридором. По коридору любил носиться, тормозя со скрипом когтей на поворотах, трёхцветный кот Леопольд. Он умер так давно, что Тома смутно помнила его облик, только на фотографиях узнавала флегматичную мордочку с неровным пятном на лбу. В этой квартире она росла, радовалась новогодним пахучим ёлкам, играла с братом, переживала все свои детские беды и радости, пришла к порогу юности, раскрывшейся как звёздное небо, которое она рассматривала, сидя на подоконнике своей комнаты. И теперь эта священная территория, которая так часто снится ей, словно утерянный рай, занята совершенно чужими людьми. Погибшая империя, даже руин и тех не осталось.
У Томы внутри было ощущение огромной выжженной дыры, по краям которой лохмотьями свисало её недавнее спокойствие, радость от зрелой весны и нового дома. И ей казалось, что всё происходившее после разговора тоже ей приснилось, она бродила не по реальным улицам, а в успокаивающих печаль светлых сновидениях.
Она не помнила, как ехала по шоссе, лес по обеим сторонам дороги сливался в тёмную ленту, подсвеченную цепью фонарей. Дорога окончательно стёрла реальность прошедшего вечера, все воспоминания, намотавшись на километры, стали туманными и ненастоящими.
На крыльце белыми свечками горели лампы, её ждали. Соскучившийся Баронет выпрыгнул из освещённого прямоугольника двери и залаял, в пасти он держал обгрызенный пляжный тапок, который вручал хозяйке после каждой отлучки, как особый знак нежности и любви. Уже в коридоре Томин нос заполнили вкусные запахи, Матвей приехал с работы пораньше и решил сделать ризотто с грибами, по своему фирменному рецепту. Из Лёшкиной комнаты раздавалось печальное бренчание гитары, звучало что-то из «Сплина», потом медлительные грустные ноты Цоевского «Апреля».
«Господи, какое счастье быть дома», – подумала Тома, и, стащив кроссовки, ощутила такое облегчение, словно вместе с обувью сняла с себя все печали. Она потёрлась щекой о спину Матвея, колдовавшего у плиты, потом они ели и вместе смотрели старый душевный фильм. Голова по-прежнему болела, обрывки разговора с Павлом тревожили её, толклись в сознании осколками, картинками с выражением его глаз, отдельными словами.
После фильма Тома пошла гулять с Баронетом, уставший Матвей ушёл наверх, в спальню. На улице было ещё совсем светло, белые ночи разгорались, готовясь к июньскому торжеству. Тома брела привычной дорогой, мимо леса, изредка встречая знакомых собачников со своими питомцами. Вернулась затихшая было днём тревога, к ней прибавился сильный озноб. Весенний воздух казался сырым и очень холодным.
Она представляла Пашку, который в полном одиночестве лежит у себя в квартире, глядя на светлый квадрат окна. А, может, не квадрат, а узкую белую щель, между шторами. Или шторы у него совсем задёрнуты, и он просто смотрит на стену. И не выключает свет. Ведь когда донимает болезнь, человек не может выключать свет, темнота съедает заживо последние остатки душевного самообладания, это Тома знала точно. Она сама ужасно боялась темноты с детства. Темнота ассоциировалась со смертью. Маленькая Тома проводила пару летних месяцев с родителями матери, и прекрасная летняя жизнь, наполненная по горлышко запахом травы, цветами, ягодами, шумом старых сосен, растущих на участке, вся эта летняя сказка чётко делилась на день и ночь.
Этот разлом света и тьмы произошёл, когда Томе было лет семь, а может, даже чуть меньше. День был прекрасен, ночь – мучительна. Маленькая Тома спала в одной комнате со своей второй бабушкой, их кровати стояли совсем близко. Каждую ночь Тома боялась. Страшно было невыносимо, Тома не могла заснуть, она была занята важным делом – слушала, как дышит бабушка. Дышит – значит жива. Девочка задерживала собственное дыхание, чтобы не шуметь, но сердце не слушалось и оглушительно стучало, не в груди, а почему-то в ушах. Иногда Тома старушку будила, не доверяя тихому посапыванию с её кровати. А вдруг, это последнее посапывание? Мягкосердечная, всегда чуть суетливая вторая бабушка тревожно спрашивала, что у неё болит, а когда выясняла в чём дело, долго ворчала, прежде чем снова заснуть: «Глупостями какими занимаешься, я не умру, пока ты не вырастешь, а когда вырастешь, может, доктора придумают таблетку какую волшебную». Про «таблетку» и «вырастешь» говорили и родители. Правда, с большим оптимизмом и гораздо более уверенным тоном. Это позволяло заподозрить, что проблема с волшебной таблеткой тянется уже довольно долго, без видимого результата. На все эти умозаключения семилетней Томе ума вполне хватало. Почему взрослые считают детей глупыми простачками, неспособными к последовательному анализу поступающей информации?
Кстати, приснившаяся бабушка со стороны отца, была куда более сурова и прямолинейна. Если она не хотела отвечать на вопрос, то просто молчала. Или резала правду-матку. Про смерть она сказала просто: «Все умирают. И это не самое страшное, бывает хуже». И в этом было что-то целительное, успокаивающее. Тома даже не переспрашивала, что именно бывает хуже смерти, но кожей ощущала, что опыта страхов и несчастья у отцовской матери предостаточно, а значит, она знает, как с ними бороться. И когда-нибудь ей тоже объяснит.
Тома прекрасно понимала, что помочь человеку с психиатрическими диагнозами она не сможет. Тут доктора нужны. А то, что он её видит везде, так это мозг шутки шутит. Он на ней сфокусировался и получилась сверхценная идея – Тома-спасительница. А её голос он вообразил. А когда услышал, то внушил себе, что именно этот голос он и слышит. Мелькнула в числе прочих и гаденькая мысль, про то, что ей повезло не влюбиться в друга детства. Вот влюбилась бы и что? И как? Тут очередной осколок принёс ей пристальный взгляд тёмных глаз. Господи, зачем она вообще к нему поехала…
Перед сном, она пристроила ноутбук так, чтобы не светить в лицо спящему мужу, и погрузилась в статьи о психиатрических заболеваниях. Медфильмы, где доктор, находящийся за кадром участливым и неприметно провокационным голосом задавал вопросы больным, ввели Тому в состояние мутной бессонницы. Больные проникновенно и серьёзно рассказывали о своих галлюцинациях, голосах, приказывающих совершать странное. Одна женщина очень интеллигентным и милым голосом описывала свою безотрадную историю: «Понимаете, я знала, что инопланетяне уже захватили землю, все спустились в метро и там прятались. А меня они не тронули, из-за особого запаха, он им нравится. И, знаете, ведь я рождена необычно – отцом, через рот. Да-да, они это устроили…» Слушать это было совсем не смешно, слушать это было страшно. Куда она собралась влезть? В область, ещё недостаточно изученную медициной, ведь, что такое сознание человека, и какие шутки может с ним играть его собственный мозг, не очень хорошо представляют даже специалисты.
И где её хвалёная твёрдость в повседневной жизни? Куда она пропадает? Почему она была в состоянии владеть вниманием класса, разруливать сложные ситуации, быть спокойной в эпицентре родительских скандалов и не может справиться с собственным сознанием? Невозможно так остро реагировать на информацию, ведь информация стала захлёстывать людей как мутные волны штормового моря. Волна сбивает тебя с ног и несёт, переворачивая, как щепку, не давая возможности сделать вдох. Тебя обдирает о прибрежный песок, в рот попадает всякий мусор, и в самом худшем случае – ты погибаешь. В лучшем – побитый и исцарапанный бредёшь зализывать раны.
Тома убрала ноутбук и лежала на спине, сканируя темноту широко открытыми глазами. Сна не было. Тома с тоскливым страхом представила длинную бесконечную ночь, но тут сбоку вздохнул Матвей, обнял её, тихонько поцеловал, рука его была горячей и настойчивой. Обычно Тома сразу давала увлечь себя в чудесный процесс, не требующий рефлексии и размышлений. Но сейчас ей было слишком плохо. Казалось, что болит всё, включая мучающую её память. Обожженная коленка напоминала о той секунде, когда Тома услышала голос из прошлого. Как будто ожог остался не только на ноге, но и на душе. Тома мягко отстранилась, и Матвей, вздохнув, отвернулся. Она заснула только к пяти часам утра.
Несколько следующих дней слились в тошнотворное состояние непрерывной тревоги. Тома механически делала свои дела, гуляла с Баронетом, даже печатала текст, как зомби, не очень вникая в то, что пишет. Она видела свои руки, понимала, что ходит. А потом вдруг просыпалась на диване и видела, что на улице темнеет.
Приезжали домашние, ели ужин, который она готовила, очевидно, во сне. По крайней мере, сама она не помнила процесса. Ночь приносила темноту и бессонницу. Они сливались, превращаясь в мучительное душное облако. Тома перестала ложиться в постель, просто уходила вниз, садилась в кресло, закутавшись в плед, и сидела так до утра. В этих промежуточных между сном и явью состояниях она видела сны, хотя могла поклясться, что не спит. Последний сон хорошо ей запомнился. Будто бы она приехала в город, где всё сумрачно, как перед грозой. Нашла среди серых новостроек дом. Дом Павла. Она помнила его с детства, подъезд, лестницу, синюю дверь. И вот ступеньки, дверь, она стоит и смотрит на звонок. Вспоминает сцену с Раскольниковым перед дверью процентщицы. Вот сейчас. Сейчас она услышит шаркающие шаги. И вместо друга детства дверь приоткроет кто-то в маске морщинистой ведьмы. Вдруг на верхней площадке раздаётся шорох, и слышен придавленный ладонью чих. Или всхлип.
Тома понимает, что там кто-то прячется, но не испытывает испуга. Гораздо страшнее тихое невидимое пространство за синей дверью. Она опять тянет руку к звонку и слышит сверху очень странный шелестящий тихий голос:
– Зачем ты ищешь его? Никого нет, ну и ладно. Уезжай, уезжай скорее. Ты – сильная. Закрой слух, слова бывают ядом.
Тома смотрит наверх, почему-то ей трудно смотреть наверх. На широком подоконнике у грязного окна сидит девушка. За её спиной, воркуя, толкутся на карнизе голуби. Тома машинально отмечает длинное, странного покроя платье, нелепую соломенную шляпку, со сморщенным райским яблочком на боку, торчащий из-под замызганного грязью подола зелёный ботинок. Один. Вторая нога босая и беззащитная на холодном бетоне лестницы. Тома присматривается и видит, что грязь не только на подоле, один рукав платья измазан. Явно синей краской. Но не одежда, даже не отсутствие ботинка поражают Тому. Незнакомка обладает редкостной красотой и каким-то особым обаянием безмятежной юности. Свет буквальным образом меркнет, соприкасаясь с её сияющей белой кожей. Огромные загадочно-лилового оттенка глаза, длинные до пояса волосы искрятся и переливаются, пряди разных цветов, от тёмно-рыжих до белокурых, тонкие руки, лицо, фигура – всё поражает небывалым, окончательным и бесповоротным совершенством. Нет ни одного изъяна, ничего, что нарушало бы общее ощущение завершённой и торжествующей гармонии. Кроме голоса. Голос существует сам по себе, никак не вяжется с внешностью ослепительной владелицы, он призрачен, страшен. Таким голосом могла бы говорить мёртвая панночка-утопленница, покинув в дьявольский час свой водный дом. И ещё. Что-то в девушке очень знакомо Томе, что-то похожее на давнее воспоминание, дежавю, мучительные попытки воскресить прошлое…
Девушка смотрит на Тому пристально, с жалостью. Опять шепчет:
– Беги отсюда. Да, поскорее…
Пока Тома удивляется, ей не только смотреть, но и говорить во сне тоже сложно, русалка в шляпке лёгким движением спархивает с окна, и её последние слова шуршат сухими листиками, которые несёт осенний ветер:
– Посадишь беду на загорбок, век таскать придётся. Вся ты в бабку свою. Такая же упрямая, сердобольная да бестолковая. А бабка с бедой не расставалась. Ни на один день.
Тома, отказываясь верить в услышанное, приходит в себя. Комната освещена лёгким золотистым светом, он поднимается пеленой далеко за полем и укрывает ещё спящие дома теплом. Она сидит укутанная в плед, а странная особа, напоминающая светловолосый вариант Элизы Дулиттл в исполнении Одри Хепберн, исчезла. Просто исчезла, тихо и бесшумно, вместе со сном. Только отзвук голубиного воркования ещё сохраняется в памяти Томы долю секунды. Тома, пошатываясь, идёт к двери. День начался.
Матвей забил тревогу на исходе мучительной недели, обнаружив её пятничным утром в состоянии полной прострации. Он не на шутку испугался. Пытался шутить, принёс ей кофе и заставил померить температуру. Температура была низенькая, субфебрильная, но это его не обрадовало.
– Лежи! – приказал Матвей и ушёл гулять с собакой.
Тома с трудом села, потрясла головой, как будто это могло помочь. Не помогло. «Надо съездить к Павлу», – эта мысль не давала ей покоя. Более того, ей казалось, что поездка к Павлу изменит её состояние. Ей станет легче. Почему – Тома и сама не могла объяснить.
Она шаркала по кухне, когда на крыльце затопали, распахнулась дверь, и ввалился встревоженный Баронет, таща за собой хозяина. Тома посмотрела на них и невольно залюбовалась. Пес и хозяин очень подходили друг другу – аристократическая внешность крупного золотистого ретривера отлично смотрелась рядом с высоким стройным Матвеем, а добрая, будто постоянно улыбающаяся, морда собаки исключительно удачно дополняла добродушное, спокойное лицо мужа.
– Ты зачем встала? – возмутился Матвей с порога. – Тебе же сказали – спать! Ушастый гулять даже не захотел толком, к тебе рвётся, проверить! Мамкин хвост…
– Мамкин хво-о-ст, – пропела Тома, трепля пса и лихорадочно соображая, как бы ей объяснить свой отъезд.
И, ничего не придумав, сказала просяще:
– Матюша, мне нужно съездить…
Матвей молча снял куртку и кроссовки, прошёл в комнату и сел на диван. Он протёр очки и взял с журнального столика книгу.
Тома вытерла собаке лапы, насыпала корма и подсела к мужу.
– Я знаю, ты расстроен… Ну, прости. Если я не поеду, будет плохо.
– Хуже, чем сейчас? – язвительно поинтересовался Матвей. – Тома, может, объяснишь, что происходит? Что не так с этим твоим другом? Почему он втягивает тебя в свою жизнь? Почему тебе названивает? Ты же сама не своя! Ты в курсе что такое созависимые психические расстройства?
– Я в курсе. Матюша, всё хорошо. Я же не дура, ну ей-богу. Мне просто надо помочь, причём даже не Павлу, а его сыну. Переживания Павла – это, конечно, важно, но это дело врачей. Я там бессильна.
Тома кривила душой, потому что прекрасно понимала, что так вот просто всё не обойдётся.
Но, на этот раз мужа ей уговорить не удалось. Хотя его всегда можно было уломать, всегда можно было на него рассчитывать, поплакаться в жилетку. Но, Тома уже всё для себя решила, и это рождало внутри саднящее чувство вины. Она прижалась к Матвею, а Баронет моментально втиснулся между ними, задрав морду. Надеялся получить двойную порцию ласки.
– Тома, я не очень понимаю, что с тобой, симптомы какие-то смазанные, но, мне кажется, неврологические. Или это вирусное что-то… Если к вечеру не станет лучше, возможно, придётся лечь в больницу. Сейчас по дороге на работу созвонюсь с Вадимом Суходольским. Может, он как невролог что-то подскажет. Прими нурофен и постарайся уснуть. И звони мне. Хотя бы пиши. Ты всегда влезаешь в какие-то странные истории. Помнишь того мальчика из школы, а бабку из детства, ты сама мне рассказывала? Опять?
И мальчика, и бабку Тома помнила. Мальчика звали Игорем. У Игоря были явные нарушения, возможно, аутистического спектра, только никем не диагностированные. Он был не очень интересен собственной матери, да и прочим безмятежно пьющим родственникам тоже. Школе он тоже стал неинтересен почти сразу. В пятом классе Игорь плохо писал, произвольно меняя размер букв и расстояния между линейками тетради. Учительница русского показывала его тетрадки Тамаре, как классному руководителю. Ещё Игорь не мог усидеть на месте, он постоянно ёрзал, руки были в движении, что-то тихо мяли, рвали, ломали. На уроках у Томы Игорь вёл себя потише, потому что любил рисовать и смотреть фильмы. А Тома частенько показывала детям скачанные видео про музеи мира, знаменитых художников и музыкантов. Даже мюзиклы давала слушать. Игорь у неё расцветал. Но остальные учителя терпеть не могли странного, беспокойного ребёнка, напоминающего паучка, вьющего из разорванных бумажек паутинку.
Директор жёстко настаивала на переводе Игоря в коррекционную школу. Он сильно портил показатели и был педагогически бесперспективен. Кроме того, его мать никогда не ходила на собрания и не сдавала деньги на нужды класса. Тома боролась за Игоря до конца. Хотя не была убеждена, что поступает правильно. Без поддержки родных такому ребёнку легче было бы в коррекционной школе, обычную программу он не тянул даже поверхностно. Тома сходила к нему домой. В конце концов, были времена, когда это считалось обычной практикой. Дом был ужасен. Испитая мать, кокетливо поправляя жидкую сальную чёлку, провела её на кухню, предварительно выгнав в комнату какого-то опухшего мужика. Тома села, увидела рядом на плите сковородку с остатками засохшей до сизоватости яичницы, содрогнулась, но заставила себя беседовать. Мать вообще не видела никаких проблем ни в чём. Коррекционная школа? А зачем? А что, что-то не так? Нет, все эти специалисты, знаете. Дерут так, что без штанов останешься. Знаете ли. А мальчик хороший. Ну, ладно, пусть коррекционная. А что, надо куда-то идти? Какие-то бумаги? Справки? Нет, она всегда очень занята, на это нет времени, просто вот именно сейчас она дома на больничном.
Когда Тома уходила, она увидела Игоря. Мальчик сидел в углу комнаты, рядом орал телевизор, были видны мужские ноги в тренировочных синтетических штанах. Игорь рвал бумажки и что-то клеил в обычной тетрадке. Он поднял глаза и посмотрел на учительницу виноватым взглядом. Через месяц его перевели в коррекционную школу.
Ну, а история про бабушку, которой она, будучи ещё подростком, таскала сумки с продуктами до квартиры, где имелся полный комплект недружелюбных родственников, была уже покрыта пылью. За давностью лет, так сказать. Всё-таки есть у неё комплекс спасительницы, только особой пользы и добра он людям, видимо, не приносит.
Тома сгорбившись сидела в кресле, глядя в одну точку.
– Мам, всё хорошо будет, – Лёшка грустно стоял у дверей, словно не решаясь уйти. – Пап, может, я прогуляю сегодня? Присмотрю за матерью…
Голос его был искренне соболезнующим, не придерёшься. Тома вышла из своего ступора и достаточно жёстко сказала:
– Нет, поезжай в школу. Незачем прогуливать, скоро моим запискам вообще верить перестанут.
Она не могла остановиться. Уже на следующий день после встречи в парке ей написал в соцсети Толя Смирнов. Спасай, написал, Пашку, а то у него крыша совсем поехала. Причём суетливый Толя даже не догадывался, насколько он близок к истине в самом грубом её виде. И почему он пишет ей, а не едет спасать сам?
Тома даже позвонила единственной близкой подруге – Софе. Со школьных времён у Томы других друзей кроме Павла не осталось. Детские годы были странным пространством, царством для двоих. Никто посторонний не допускался. Тома очень любила родителей и брата, но её мир делился чётко пополам – мир с семьёй и мир с другом. Школа не считалась, она осталась в памяти серой невнятной дырой. Ещё была школа искусств, но там Тома занималась недолго.
Павел редко заходил к ним домой, а она к нему – почти никогда. Мрачная мать Пашки с тускло-осуждающим взглядом пугала девочку. У неё семья была весёлая, открытая. Праздники с вкусной едой и бренчанием гитар Тома вспоминала с неизменной теплотой. Но сопротивляться влиянию Пашки было трудно, он как золотую рыбку сачком своего обаяния постоянно похищал Тому из микрокосма семьи. «Опять твой кавалер явился», – шутили родители, терпеливо переносящие все скандалы, связанные с приключениями неугомонной парочки.
В студенческой юности, после их разрыва, у Томы появилась целая компания друзей. Но из самых близких осталась только Софа, Софочка Звягинцева. Она тоже училась в педагогическом, но на факультете психологии. Наверное, именно это образование помогало ей в нелёгкой жизни, других объяснений Тома не находила. Подруга была удивительным экземпляром одинокой многодетной матери, всегда замотанной, неизменно сидящей на финансовой мели, но сохраняющей какое-то по-детски изумлённое, добродушное восприятие мира. Вечно у неё дома жили какие-то странные животные с аномалиями поведения, влюблённая парочка тритонов, жаба с одышкой и пронзительно-философскими усталыми глазками, гигантские улитки, сбегающие из аквариума и ищущие тёпленькое местечко в кроватях домочадцев. Короче, жизнь била ключом. Софа, как и Тома, пошла работать в школу, только не учителем, а штатным психологом, и до сих пор тянула лямку трудового, практически безвозмездного подвига.
Тому периодически мучило чувство вины перед подругой, за свою вполне обеспеченную жизнь и наличие свободного времени, чтобы предаваться ностальгическим воспоминаниям и бессмысленным тревогам.
Особенно это усугубилось после случайного просмотра Софиных семейных альбомов с «предками-конфетками», так людей на старинных фотографиях именовала сама владелица семейной реликвии. Тома не могла поверить своим глазам, нет, она не страдала столь распространённой в постсоветском обществе, особенно его религиозно-консервативных кругах, преклонением перед дворянским, аристократическим сословием. Она помнила, как в молодости Матвей, который ходил в храм, покупал что-то, на его взгляд, интересное: мемуары эмигрантов, воспоминания верующих, претерпевших гонения. Тома периодически читала эти книжки, ей было интересно. Однако общий дух восторженной экзальтации по отношению к белой кости, как безусловным носителям всех лучших человеческих качеств и высокой нравственности, частенько ее раздражал. Но, глядя на Софьиных прабабушек и прадедушек, она испытывала чувство уважительного удивления.
В потрёпанном, с металлическими жёлтыми уголками семейном альбоме жили на толстых картонных страницах лица удивительно симпатичных, хотя и слишком торжественно-серьёзных (примета эпохи) людей. Дамы с высокими причёсками и умными глазами, с красивыми многослойными жабо и бантами на блузках, с высокими воротничками, широкими поясами, стягивающими талию, сидели в туманной дымке фотобумаги, строгие, выпрямив спину, чинно сложив руки на складках пышных юбок, смотрели уверенно прямо или романтично куда-то вдаль. Мужья дам в непонятной форме, с блестящими рядами пуговиц или костюмах стояли рядом, покровительственно положив руку на плечо супруги или спинку стула. Вторая рука частенько была заведена за спину и у мужчин, и у женщин, что придавало и без того горделивой осанке окончательное совершенство, как грациозно приподнятое переднее копыто у геральдического скакуна.
Софа рассказывала о судьбах тех, про кого знала хоть что-то. Отечественная история интересна тем, что иногда люди в ней просто исчезают, растворяются. Вот, вроде и была сестра бабки, а где она… Куда сгинула в тяжёлые годы? Бог весть.
Повозка родовой истории Софы прикатила её к весьма низким, по сравнению с предками, условиям бытия, социальным возможностям, и личной самооценке в том числе.
И Тома опять думала о том смешении всего и вся в потоках истории, о справедливости и несправедливости, потерях и обретениях. Существуют ли абсолютные величины добра и зла в этих потоках?
Но Софа к вопросам социального неравенства относилась, похоже, так же легко, как и к проблемам своих вечно недовольных чем-то отпрысков или неадекватных животных. «Там хорошо, где нас нет», – частенько повторяла Софа, а Тома любовалась ею – высокой, хрупкой, с ничуть не пострадавшей от беременностей талией, ласковыми голубыми глазами и таящимся где-то внутри стержнем неугасающего оптимизма и веры в людей.
Тома рассказала подруге про внезапно появившегося Павла. Она не могла описать их детских отношений, просто не находила нужных слов. Сказала, что он болен. Что нуждается в помощи. К удивлению, Софа проявила неожиданную твёрдость.
– Тома, мне кажется, друг, который появился так внезапно и за короткий срок успел довести тебя до какого-то, извини, болезненного состояния, – так себе друг. У меня смутное подозрение, что там перверзным нарциссизмом пахнет, но это сугубо моё мнение. Ни в коем случае не навязываю. Матвей прав, он у тебя вообще, заметь, мужик умный. Берегла бы его.
– Я берегу, – пробормотала Тома. И вспомнила сон про шепчущую панночку. И правда, что ли, тянет её к несчастьям?
Они поболтали про книжные новинки, Софа умудрялась найти время для чтения всегда, и была, к слову, первым читателем всех Томиных текстов. Но, как всегда, на самом интересном месте обсуждения последней книги Кадзуо Исигуро Тома услышала набирающий обороты тайфун детской ссоры, в недрах Софиной квартиры.
– Прости, Томик, я отбываю оказывать экстренную психологическую помощь… – обречённо вздохнула подруга. – Думай о близких! Павел этот твой, явно нарцисс, в лучшем случае. Ну ты уж прости. Всё, побежала. Лизкин учебник окружающего мира под угрозой!
Тома успокоилась, решила, что спустит ситуацию на тормозах. Как можно деликатнее. После встречи на скамейке Тома понимала, что в конце концов Павел позвонит, и боялась этого момента.
* * *
Матвей ехал в клинику и думал о жене. Он действительно испугался, состояние Томы наводило на очень неприятные подозрения. Матвей перебрал в голове разные симптомы инфекций, передающихся через маленьких цепких тварей рода Ixodes. Однако клиническая картина у Томы была весьма странная и нетипичная.
Матвей чувствовал, что в их семейном мирке копится какое-то трудноощутимое напряжение. Он видел, как Тома частно нервничает, казалось бы, без повода. Они и правда мало времени проводят вместе. А теперь вся эта неприятная ситуация со школьным другом. Почему Тома так рвется к нему? Ведь они не общались много лет.
Надо озаботиться семейным отдыхом, выкроить деньки, чтобы съездить куда-нибудь вместе с Лёшкой. Но сначала уложить жену на обследование.
Матвей готовился внутренне к рабочему дню, и одновременно думал об их отношениях с Томой. Странное дело, мучительное беспокойство о заболевшей жене порождала целую череду воспоминаний. Они приходили, как непрошенные гости, и безмерно усугубляли его волнение. Матвей незаметно проваливался в прошлое, словно заразился от жены её способностью воскрешать в памяти давно ушедшее, вместе со звуками, красками и запахами.
Семейный анамнез у них был непростой.
Много лет назад Матвей неожиданно провалился в мучительную депрессию, чуть не потерял работу и семью. Он тогда работал лечащим онкологом-гематологом в большом клиническом центре. К ним на отделение поступила четырёхлетняя девочка Катя, они с мамой приехали из Краснодара.
С первого обхода, первого осмотра пациентки, Матвей почувствовал какое-то необычное волнение. Девочка была красавицей, хоть и истощена, измучена лимфобластным лейкозом в острой стадии. И она молчала. Почти не разговаривала, зато могла подолгу смотреть врачу прямо в глаза. Катя не капризничала, как большинство больных детишек, не плакала и постоянно что-то рисовала, пока в худенькой руке были силы. Обычно сил хватало минут на пятнадцать, потом девочка просто ложилась навзничь и отдыхала. Фломастер оставался под ладошкой как в надежном укрытии. Рисунки были очень странные, не принцессы и цветочки, а рыбки всех расцветок и размеров. Рыбки в море, рыбки в аквариуме, рыбки в магазине, рыбки мамы с детьми. Иногда Матвей в шутку называл пациентку Русалочкой. Матвей долго не мог понять, кого эта крошка ему напоминает. Потом вспомнил. Старая французская комедия с Ришаром, девочка-молчунья с длинными тёмными волосами и огромными глазами. Даже пара слов от этого ребёнка казались бесценным подарком.
Матвей незаметно для самого себя стал уделять Русалочке внимания больше, чем другим пациентам. Он понимал, что это неправильно, у врача не должно быть личных пристрастий. Но ничего не мог с собой поделать. После пересадки костного мозга находил случай лишний раз зайти в палату, узнать как дела. Анжелика, поразительно красивая молодая женщина с рыжевато-золотистыми волосами, иногда рассказывала ему об их родном городе, уже вовсю цветущем, в то время как в Питере ещё только показалась зелёная трава. Она постоянно повторяла, что из окна их дома видны горы. Об отце Кати и своей семье она молчала, обронив лишь раз, что они с дочерью никому не нужны. Вообще, она была странной женщиной, иногда полностью замыкалась в себе, и тогда Матвей приходил в палату к молчащей девочке, рядом с которой сидела молчащая, отстранённая мама. Матвей сразу заподозрил у Анжелики какие-то психологические или даже психиатрические проблемы. Но надеялся, что серьёзных ситуаций во время лечения девочки с мамой Кати не случится. Он ошибся. И впоследствии прекрасно понимал, что мог помочь, предотвратить, но не сделал этого.
Пересадку костного мозга Кате провели весной, и сейчас, когда было то же время года, Матвей иногда всё вспоминал, почувствовав внезапно запах мокрой травы после ливня и белой сирени, куст которой рос прямо под окнами палаты.
Катя перенесла операцию тяжело, с массой осложнений. Она уже не могла рисовать, и вся восстановительная иммуносупрессивная терапия не давала результатов. Русалочка умирала. А её мать в ответ на стресс выдала клинику шизоидного расстройства личности по сенситивному типу. Именно в тот момент, когда дочь уже еле держалась. Анжелика просто выходила на улицу и сидела на скамейке, часами глядя в одну точку. К дочери, которую уже перевели в реанимацию, пройти даже не пыталась.
Катя умерла дождливым майским утром, окружённая заботой врачей и волонтёров. Последние часы ребёнок почти не приходил в сознание, но в самом конце очнулась ненадолго. Матвей взял маленькую ручку в свои пальцы и окаменел от скорби. А девочка смотрела на него молча, смотрела долго, словно у неё была миссия передать врачу какую-то особую тайну, особое знание. Прощания с пациентом тяжелее у молодого врача ещё не было.
Его сыну было около трёх лет, Алексей постоянно болел тяжёлыми бронхитами, а Матвей, неожиданно для себя не смог мириться с пахнущей лекарствами атмосферой больницы в стенах родной квартиры. Ему хватало этого на работе. Дом стал казаться серым пристанищем, где из всех углов на него таращился невидимый враг под названием – долг. И этот враг, сидящий где-то между старым креслом и детской кроваткой, изматывал его, потому что Матвей хотел совсем другого. Он хотел отдыхать от детского страдания. Хотел кардинально другой обстановки, а главное, забытого где-то позади, на повороте жизненной тропы, взгляда жены, беспечного, юного, наполненного ничем не отягощённой, беспримесной радостью бытия.
Тома завязла в графиках приёма лекарств, прогулках с тяжёлой коляской, спешных приготовлениях обедов, уборке и прочих тягучих бытовых делах. От уныния её спасали книги. Читать она умудрялась даже глухой ночью, когда убаюкивала посапывающего заложенным носом щекастого Лёшку. А Матвея не спасало ничего. Он начал прикладываться к бутылке. Если раньше он изредка, после особенно тяжёлых дежурств, мог выпить антистрессовую рюмку коньяка на ночь, то теперь это происходило ежедневно. И одной рюмкой дело не обходилось.
Самое странное, что не мог расстаться с матерью Кати. Хотя довольно долго не понимал природы своих чувств к ней. Матвей перевёз Анжелику из клиники неврозов, куда сам же устроил её после смерти Кати, в съёмную квартиру на Петроградке.
Он всегда равнодушно пропускал хищных женщин с врождённым комплексом победителя, даже тщательно маскирующихся под скромниц, но на эту осиротевшую молодую мать, всегда без макияжа, с печальными глазами в пол-лица и длинными медовыми волосами, клюнул. И повис на леске. Он никогда не одобрял внебрачных отношений, даже относился к ним с брезгливостью, но слишком поздно он осознал, что чувство жалости и острой нежности – тоже может быть предвестником отнюдь не платонической привязанности. Ему казалось, что Катя просила его своим последним взглядом помочь матери, оставшейся в одиночестве и болезни.
Лика (она просила называть себя именно так, полного имени – Анжелика – стеснялась и очень его не любила) ничего не требовала. Она вообще не умела просить. Она почти не имела ярких талантов, не играла на музыкальных инструментах, не умела рисовать и петь, неуклюже танцевала. Читала она мало, и что-то очень специфическое, вроде старых журналов «Вокруг света» с древними, на взгляд Матвея, рассказами о шаровых молниях, тропических ливнях и полярных экспедициях. Дома, в Краснодаре, у неё была целая коллекция этих журналов, оставшихся от деда. Она была напрочь лишена того особого женского манкого очарования, которое помогает дочерям Евы запускать свои коготки в добычу. Не кокетничала, не флиртовала. Когда Матвей с покаянной горечью сказал ей, что теперь почти не бывает дома, Лика пожалела Тому. «Ты такой хороший, она тебя любит. Я не умею так». Эта женщина была другая. Как инопланетянка. И это его очаровывало. Но и пугало. Потому что в инопланетном организме другие генетические коды, инфекции, вирусы и бактерии. И всё это может уничтожить его собственный разум и тело.
До какой степени она больна Матвей узнал, когда попытался её поцеловать. Всего один раз. И обнаружилось, что Лика была абсолютно лишена каких-либо сексуальных желаний, а посягательство на своё тело воспринимала как намерение причинить боль. Она забилась на балкон, не открывала дверь и рыдала. У Матвея появились серьёзные подозрения, что единственная беременность была результатом насилия, или же Лику напоили до бессознательного состояния. Спрашивать об этом он не хотел. Помнил глаза умирающей Кати.
Поэтому они просто вместе смотрели старые фильмы в маленькой квартирке, выходящей окнами на круглый изгиб Карповки, и ни о чём не думали. Вернее, Матвей уже страшно страдал, но присутствие этой чуть угловатой женщины с худенькими плечами и внимательными глазами, действовало на совесть как глубокая анестезия. О Кате они не говорили, хотя её фотография всегда стояла на старомодном хозяйском серванте. Матвей лишь один раз отвёз Лику на далёкое пригородное кладбище, где неимоверными усилиями выбил место для ребёнка.
На похоронах был лишь он, Тома, которая плакала так, будто хоронят её собственную дочь, да девушка-волонтёр, прикипевшая к молчаливой маленькой художнице всем сердцем. Она положила Кате в ручки новый набор ярких фломастеров, похожий на букетик цветов. Анжелика не спрашивала, как умирала дочь, но несколько раз Матвей находил её ночью на балконе, оцепеневшую, с текущими по щекам слезами. Он пытался увести её в комнату, но встречал сопротивление, тело Лики становилось негибким, холодным, будто деревянным. Она оставалась на ночном холоде белых ночей, как часовой, которому нельзя покинуть пост. Лишь, когда начинали громко дребезжать первые трамваи, Лика возвращалась в комнату, ложилась и мгновенно засыпала.
Невольно, Матвей сравнивал Лику с женой. Он уже понял, что тяга к мечтательным, тревожным женщинам, – это его крест. Но жена, глубокую вину перед которой он переживал, убегая в свои параллельные пространства, всегда слышала голоса близких, зовущих её обратно, нуждающихся в ней. Тома летела обратно, и грудью кидалась на любую амбразуру пришедшей беды. Лика была неспособна оказать сопротивление. И Матвей с ужасом чувствовал, что не может прервать странную связь, не может бросить женщину, которая нуждается в нём как больной ребёнок. Ведь от стояния на ночном балконе до могилы – всего один шаг. Шаг вперёд.
Тома ничего не знала об отношениях с Ликой, хотя что-то почувствовала на похоронах Русалочки. Какую-то необыкновенную душевную связь Матвея с умершей девочкой. Как всякая глубоко любящая женщина, она не допускала и мысли о неверности, но чувствовала, что муж отдаляется. Матвея это медленно разрушало изнутри, хотя физической измены, по сути, и не случилось. Он стал тихим и угрюмым. Ласкал дома Лешку и погружался в диссертацию, которую как раз тогда писал. На все расспросы отвечал – много работы, устал. И Тома верила. Только постепенно спрашивать перестала, словно боялась услышать что-то страшное. Стала раздражительной, частенько они выясняли отношения, хотя Тома не выдвигала никаких обвинений. Она ждала его по вечерам, старалась приодеться и приготовить что-то вкусное, предлагала послушать музыку, которую они вместе слушали раньше. Но Матвей ускользал и уклонялся. А когда Тома молча уходила в другую комнату, смотрел ей в спину с болезненной печалью. Ему мучительно хотелось положить руки ей на плечи, погладить пушистые волосы, убранные в хвостик, поцеловать особое местечко на шее, где чувствовалось биение её сердца. Матвей знал, что терять Тому нельзя – это всё равно, что потерять самого себя. И всё же продолжал ходить в квартиру около узкой речки, жмущейся к роскошному Ботаническому саду. Хотя каждый взгляд на этот сад, немилосердно вскрывал память, и он видел их с Томой юными, двадцатилетними, гуляющими по его потаённым, окраинным аллеям.
А потом у Лики случился новый приступ. Как он первый раз сидел около её оболочки, по-другому это и назвать нельзя было, Матвей запомнил навсегда; безвольное тело, пустой усталый взгляд, глаза словно слепые. Он опять повёз её в клинику, Анжелика на грамотных препаратах вошла в стойкую ремиссию, реактивный психоз ей сняли. Но больше они не встречались. Матвей оплатил билеты до Краснодара, к горам, всегда видным из окна в туманной дымке. Он надеялся, что там, в привычной обстановке, боль утихнет. Тем более Лике постоянно звонил пожилой отец, звал домой. Матвей слышал его тихий, задыхающийся голос, и не мог представить, что будет с несчастным, когда дочь вернётся без внучки.
Он нашёл в соцсетях страничку Катиной матери, не мог перестать думать о её будущем. Чувствовал непонятную ответственность, причём даже не перед Ликой, а перед её дочерью. Долгое время там не было ничего обнадёживающего, но потом вдруг появилось семейное фото – улыбающаяся женщина с короткой стрижкой, в которой Матвей не сразу узнал свою вечно печальную пассию, и молодой мужчина с малышом на руках. Светловолосый мальчик был очень похож на мать. Матвей несколько секунд смотрел на фотографию и при этом чувствовал целительное освобождение от застарелой тяжёлой боли. И больше на страницу Анжелики не заглядывал. А на могилу Русалочки ездил, ставил свежие цветы, вспоминал рисунки с маленькими рыбками, плывущими куда-то по одиночке и стайками. Только его молчунья знала, куда плыли эти рыбки.
Он долго переживал по поводу собственной возможной профнепригодности. Эмпатия, доходящая до слияния с чувствами пациентов, сделала бы врачебные будни постоянной пыткой, мешающей работе. Но, пережив смерть Русалочки, Матвей вышел на какой-то другой уровень стрессоустойчивости. Как ни странно, такой опыт помог ему.
Дома постепенно всё наладилось. Они с Томой очень хотели дочь, но уже не получилось. Беременности прерывались в самом начале. Тома стала реже ходить на службы, и старалась делать это одна, без мужа. Потом в ней произошёл какой-то незримый перелом, и она перестала даже молиться. Все пигменты, кисти, доски для икон были обёрнуты полотенцем и убраны очень далеко.
Матвей даже закряхтел и потёр лоб, держа руль одной рукой. Воспоминания рухнули на него, придавив своей тяжестью. Он вспомнил, как Тома часто призывала его всё проговаривать. Все проблемы прошлого и текущие тоже. А он иронически замечал, что это глупые новомодные советы психологов. Ещё он прекрасно помнил, что надо остерегаться тех, кто внушает чувство вины. Дабы они не обрели власть над твоей личностью. Так он всегда думал. Сейчас он не был в этом уверен. Его ошибки были тайной, и никто не пытался им манипулировать… Тогда почему так больно вспоминать далёкое прошлое? Да, надо рассказать жене всю историю с Ликой. Найти подходящий момент и рассказать. И только, приняв такое решение, Матвей осознал, как это будет тяжело сделать. После этого он набрал номер невролога.
* * *
Звонок Павла раздался, когда Матвей уехал, а Тома, наконец, успокоилась и уже почти не чувствовала ставшего привычным недомогания.
– Ты приедешь ко мне? – возбуждённо спросил школьный друг. – Тома, ты приедешь ко мне? Представляешь, я, кажется, нашёл мать Серого! Есть поселение в Горной Адыгее, там места силы, там потрясающая природная энергетика! Можем поехать все вместе: Серый, я и ты!
Тома хотела сказать, что болеет, и вообще не хочет слушать всякий бред, но с ужасом поняла, что слушает и даже не возражает. Голова налилась тяжёлым жаром. «Что со мной происходит?» – совершенно беспомощно спросила она сама себя, уже собираясь выходить из дома. Тома еле держалась на ногах, плохо представляла себе, как будет вести машину, но какая-то неодолимая сила заставляла её ехать, судя по всему, к совершенно безумному Павлу.
«Откуда он узнал, где живёт эта женщина? Какая, к чёрту, Адыгея?» – недоумевала Тома, выискивая среди хрущоб Тихорецкого проспекта, буквально утонувших в густом море деревьев, нужный номер дома. Наверное, решила она, сказал биологический отец, ведь Пашка с ним как-то общается.
Маленький тесный лифт не работал, на дверях висела бумажка. На лестнице Тому затошнило от волнения так, что она остановилась передохнуть. Передохнула, потом глубоко вдохнула и выдохнула. Завершив таким образом все возможные психотерапевтические манипуляции, она позвонила в квартиру. У Томы создалось чёткое ощущение, что она пришла тайком на место преступления. Никто на звонок не отозвался, и она тотчас перестала волноваться и начала беспокоиться. Она позвонила ещё раз.
Её недавний сон обретал вполне явственные черты. Тома даже посмотрела наверх – нет ли там русалки с шелестящим голосом? Нет, наверху было тихо.
Она уже собиралась уйти, даже почувствовала облегчение. Но тут же услышала шаги. И не шаркающие, а вполне себе бодрые. Бодрые, быстрые и лёгкие. Поэтому Тома даже не удивилась, когда увидела в проёме открытой двери не Пашку, а худого угрюмого подростка с тёмными растрёпанными волосами, внимательными глазами и в футболке с огромной надписью – Do Not Disturb. Пониже мелкими буквами было добавлено – I’m already disturbed enough.
– Сергей? – с вопросительной интонацией сказала Тома.
– Допустим. А вы кто? – подозрительно спросил парень.
– Я… – Тома растерялась. – Я, Тамара, школьная подруга твоего отца. Я всего два раза… Да, я не знаю, как лучше к тебе обращаться – Сергей или Глеб?
Взгляд парня стал ледяным и отстранённым.
– А… Тамара. Вы и есть Тома. Меня зовут Сергей и никаких других имен мне не нужно, – процедил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. И добавил: – Мало мне его рассказов, так вы ещё и вживую сюда заявились? Нет, серьёзно? Думаете, мне мало журналюг, которые меня у подъезда караулили? Правда, он их прогнал, это он умеет. И сказал, что никакие шоу нам не нужны. А теперь, вот, вы.
Под безликим «он» явно скрывался Павел. Больше всего Томе хотелось сейчас развернуться и уйти, чеканя шаг. Да, надпись на футболке этого молокососа вполне соответствовала его настроению. Тома даже сделала движение в сторону, но остановилась. Она вдруг за долю секунды вспомнила, как бесился её Лёшка, когда неожиданно у Томы воспалилось родимое пятно, и на месте невинного коричневого пятнышка за несколько часов возникла красная большая опухоль, похожая на пуговицу от пальто. Всё-таки её быстрые погружения в прошлое иногда приносили пользу.
Сыну стукнуло тогда тринадцать, и он переживал тяжёлый начальный период подростковой психологической ломки, и очень походил на Томиного собеседника. Пока Тома ходила прямая, как палка, потому что на месте удалённой опухоли на спине красовался нестерпимо чесавшийся двойной шов, и вся семья две недели ждала результатов биопсии, Алексей пережил несколько разных стадий протеста. Каждая стадия знаменовалась бурными и громкими скандалами, которые гасил Матвей, у Томы на это просто не было сил. Она старалась быть спокойной, чтобы не расцарапать каким-нибудь подручным средством свежие швы. Сын сначала искал информацию в Интернете, потом приставал к отцу, потом два дня отсутствовал дома – морально готовился к материнской смерти у лучшего друга. Когда пришли результаты биопсии, и стало ясно, что опухоль доброкачественная, а мать семейства будет здравствовать, Лёшка, ершистый, неуступчивый, грубоватый, плакал как маленький. И эти слёзы смыли из памяти Томы все его изощрённые методы борьбы за независимость.
Тома придержала уже закрывающуюся дверь и проникновенно сказала:
– Не дури, Серёж. Взрослый уже, сам понимаешь, что именно я ему и нужна. Или в Адыгею хочешь?
Парнишка посмотрел на неё затравленно и посторонился, пропуская в квартиру. Тома смотрела на стены, обстановку, мебель, пытаясь понять, чем живёт хозяин жилища. Везде царил беспорядок, квартира была совсем маленькая, с тесным, на два шага коридором и низкими потолками. У Томы сжалось сердце, даже до переезда в загородное жилище, они с Матвеем жили в хорошем доме с просторными квартирами. Подобную тесноту их семейство пережило только на самой заре своего существования, когда бытовые неудобства воспринимались совсем по-другому, легко и весело. Тот факт, что новорождённый Алексей спал в люльке из коляски, которую они подвешивали на массивное деревянное основание старого списанного мольберта, вывезенного знакомым студентом-живописцем из Репы (так студент именовал институт имени Репина), вызывали только смех. И потом, когда они после краткого, ко всеобщей радости, пребывания в одной квартире с родителями, переехали в новое просторное жилище, жизнь друг у друга на головах вспоминалась на одной тёплой волне с самыми светлыми событиями того счастливого времени. На даче до сих пор стояло старое раскладное кресло, где Матвей с Томой спали в обнимку первые годы брака. Кресло было настолько узкое, что они привыкли синхронно переворачиваться ночью с боку на бок, чтобы не просыпаться. Теперь оба недоумевали, как они там помещались.
Здесь же дефицит пространства совмещался с каким-то трудноуловимым тяжёлым духом потерянности и отчуждения. Словно ты заходил не в городскую квартиру, а в брошенный много лет назад, заросший кустарником пустой дом.
Тома вошла в узкую гостиную. Павел сидел на диване, с плюшевой обивкой, обильно украшенной потёртыми залысинами, и был погружён в изучение огромной потрёпанной карты.
– Я ему говорю, погугли, и всё найдёшь. А он с этой скатертью возится, – мрачно сообщил Сергей, неслышно подошедший сзади.
Павел обернулся, увидел Тому и вскочил. Его лицо просияло, он сунул карту ей прямо под нос и возбуждённо, скороговоркой начал рассказ о местах силы и удивительной целительной энергетике Кавказа.
Тома кивала, соглашалась, рассматривала на замусоленной карте с белыми махровыми линиями сгибов странные названия населённых пунктов:
Потом очень осторожно она поинтересовалась:
– Паш, а зачем туда ехать?
– Как зачем? – удивлённо переспросил он. – Ты же мне сказала ехать! Я уже несколько дней готовлюсь, маршрут прорабатываю… Только вот, Серый мешает, ходит и ругается. Так это же для него всё, там его мать где-то живёт!
– Моя мать умерла четыре года назад! Та, которую я знал, по крайней мере, – довольно громко огрызнулся мальчик. Потом добавил потише: – А другой мне не надо.
Большая фигура Павла застыла, выражение его лица сменилось. Он был подавлен или расстроен, это Тома чувствовала очень ясно. Но одновременно напоминал замершего зверя, который прислушивается к лесным шорохам и ловит запах, приносимый ветром.
– Ты же нашёл себе другого отца. Иди к нему. Если я не устраиваю.
– Блин! Я просто с ним хотел познакомиться! – фальцетом, сорвавшимся на визг, крикнул Сергей. – Достал уже! Я же здесь, с тобой сижу! Сам скоро шизиком стану!
– Сергей, остановись! – Томин голос стал стальным, она вложила в свою фразу весь имеющийся запас душевных сил и убеждения.
Мальчик сник и отвернулся. Томе показалось, что он сам испугался того, что вырвалось у него, подростковой самоуверенностью здесь и не пахло.
– Ты не угостишь меня чаем? А я пока с отцом поговорю.
К её великому удивлению, Сергей нехотя поднялся и поплёлся на кухню. Она слышала, как тихо и раздражённо что-то бормоча, он стал наливать в чайник воду.
– Пашка… – Тома испытывала перед душевным недугом иррациональный страх, свойственный большинству людей. – Ты пойми, тебе всё это мерещится. Ну как я могу тебе говорить что-то, находясь в другом месте. Это твоя болезнь… Ты принимаешь сейчас лекарства?
Павел смотрел на неё то ли испытующе, то ли с надеждой.
– Тома, ты говоришь глупости. Лекарства я, естественно, принимаю. У меня нет сейчас ни маниакального состояния, ни депрессий. А твой голос не может быть галлюцинацией. Ты что? Мы же разговариваем, всё обсуждаем.
– Паша, я ничего с тобой не обсуждала. Это очень опасно, понимаешь? Я знаю, что такие вот «голоса», особенно если они что-то тебе приказывают сделать, что это основание для принудительной госпитализации. Без согласия больного. Ты хочешь загреметь в психушку? – Тома секунду помедлила, потом для пущей убедительности всё-таки использовала тяжёлую артиллерию, – ведь Сергея тогда отдадут под опеку биологическому отцу… Ты этого хочешь?
Павел задумался, но никаких явных эмоций не продемонстрировал. Тома смотрела на своего друга, который из обаятельного умного мальчишки превратился во взрослого странного, больного человека, и ясно осознавала, что их непонятная глубинная связь никуда не исчезла. Как будто она где-то тихо пряталась многие годы, а теперь вылезла из глубины её существа прямо к коже, к нервным окончаниям, заставляя Тому чувствовать смятение, боль, даже болезненный жар сидящего рядом с ней мужчины. Это было особое, ни с чем не сравнимое и, пожалуй, очень неприятное ощущение. Тома не имела защиты, а Павел транслировал ей, против её воли, свои маниакальные тёмные фантазии. Её странная болезнь, повышенная температура и тупая головная боль непонятным образом соединили их, Тома чувствовала себя так, будто снова очутилась засунутой в непроницаемый пузырь, оторванной от всего остального мира. Точно так, как это было во время их детских игр.
– Я чай приготовил! – раздался из кухни сердитый крик.
Они встали с дивана, Павел хотел взять с собой карту, но Тома мягко отобрала её и положила на журнальный столик. Она хотела проверить – насколько он агрессивен? Павел оглянулся на измятую карту как на любимую игрушку, которую отобрали на неопределённый срок, но протестовать не стал. Тома обратила внимание на то, что в комнате совсем не было семейных фотографий. Не было никаких фотографий вообще. Она мельком увидела открытую дверь в смежную маленькую комнатку. Окно там было занавешено, но Тома различила стол с ноутбуком и какие-то картинки на стене. Тома поняла, что это комната Сергея. В её сумке загудел телефон, поставленный на беззвучный режим. Она посмотрела, звонил Матвей. Тома сбросила вызов, решив, что поговорит с мужем сразу после визита к Павлу. Через минуту пришло сообщение, но его она тоже не прочитала.
Кухонька была такая крошечная, что, когда они сели за квадратный стол у окна, Тома упёрлась своими коленками в Пашкины. Две старые чашки, на одной виднелся заметный скол, были наполнены до краёв бледным, наспех заваренным чаем. Сын Павла стоял, опершись спиной на кухонный шкаф, и прихлёбывал чай, держа большую кружку на весу. Посередине стола в грязноватой вазочке лежали пряники. Тома сразу ощутила мужское жильё: не было цветов, не было ни одного яркого полотенца или какой-нибудь новой, не затасканной вещи из кухонной утвари.
Ей было тяжело, тоскливо, и выход из сложившейся ситуации не очень прорисовывался. Допустим, она сможет уговорить Павла никуда не ездить. И даже сможет добиться расположения его мрачного сына. А что дальше? Опять же, возврат к исходному – болезнь никуда не уйдёт. Пашка будет слышать новые приказы, Сергей ожесточаться, а она… Помогать снова и снова?
Тома громко втянула вместе с воздухом горячий чай, произведя неожиданно громкий хлюпающий звук, и Сергей, подпирающий шкаф, захихикал. От смущения Тома совершила вторичную оплошность, взяла пряник и попыталась его надкусить. Пряник не поддавался. Он был похож на древнюю окаменелость, только крошки глазури сыпались в рот. Тома замерла. Вынуть мокрый обслюнявленный и непобеждённый пряник изо рта казалось ей именно в текущий момент крайне неприличным. А раскусить его просто не представлялось возможным. Она сидела с пряником во рту, задумчиво скосив глаза к окну, и слышала, как сбоку просто давится от смеха бессовестный подросток. Тома ощутила, что у неё краснеет лицо, и в бессильной ярости издала неслышный миру стон. «Почему я к своим сорока пяти годам, не научилась избегать идиотских ситуаций?» – подумала она и с тоской посмотрела на сидящего слишком близко Павла. Она встретила такой любящий, такой яркий и искренний взгляд, что просто задохнулась, злосчастный пряник поддался, и она с усилием проглотила кусочек, даже не пытаясь его прожевать.
Пашкины глаза, подсвеченные ясным весенним светом, из тёмных превратились в детские, золотые, зрачки словно пульсировали, всё лицо светилось неподдельной всепоглощающей преданностью, Тома невольно вспомнила, как смотрит на неё любимый пёс… Сопротивляться обаянию этой преданности было почти невозможно. Но Тома попробовала. Она отодвинула коленку – Пашкина нога прижималась к ней всё плотнее – и строго, начальственным тоном поинтересовалась:
– И что это мы так радуемся? Я чуть зуб себе не сломала! Вы вообще ближайшие полгода продукты покупали? Или всё такое же свежее, как пряники?
– Я покупал! – возмутился Сергей. – Просто сладкое мы оба не любим… – заискивающий взгляд был быстро брошен в сторону Павла. – А к чаю положено… что-нибудь такое. Для женщин. – Последнее было добавлено с очаровательным высокомерием.
– Для женщин. Понятно. Что-то вы тут ребята совсем мхом поросли. В вашем мужском клубе, – резюмировала Тома, и встала, с трудом вырвавшись из плена магнетических глаз.
– Идёмте все в комнату, на военный совет! – Тома специально упаковала своё предложение в максимально безоговорочную интонацию, чтобы не было саботажа. Однако он всё-таки случился. Павел поспешно вскочил, а его сын демонстративно достал мобильник, оповестивший о новой корреспонденции квакающим звуком. Сергей прочитал сообщение, поставил недопитую кружку в раковину и двинулся в коридор.
– Ты куда? – напряжённо спросил Павел в спину уходящему сыну. Тот вздрогнул, но обернулся не сразу.
Мальчик переждал несколько секунд, а потом на удивление спокойно пояснил:
– Мне написал биологический отец. Приглашает на свою выставку. Я что, под домашним арестом?
Тома понимала, что вмешиваться в чужие семейные разборки – не лучшая идея, но, взглянув на Павла, не выдержала. Уж очень у того был убитый вид.
Она вышла в коридор и прислонилась к стене, наблюдая, как мальчик натягивает куртку и надевает кроссовки.
– Может быть, лучше побыть дома? Пока отец в таком состоянии, – негромко предложила она.
– А теперь вы мне будете диктовать, что я должен делать, а что нет? – сощурился парень. Волосы падали ему на глаза, он нервно откинул их рукой. – Через три года мне восемнадцать. Свалю отсюда, и никому ничего не буду объяснять. Поняли? Никому и ничего. Что вы вообще знаете? Это он такой последнюю неделю, а раньше…
Сергей сглотнул и вышел, так хлопнув дверью, что та затрещала.
Потерпевшая провал миротворица снова побрела в гостиную, где Павел уже устроился на любимое место – в углу дивана. Когда он уходил на кухню, Тома заметила глубокую вмятину, именно в этом углу. Место было явно излюбленное, постоянное. Уютное гнездо для высиживания больных фантазий.
– Паш, а ты с ним давно разговаривал по душам? – поинтересовалась Тома, усаживаясь на другой конец дивана. И решительно объединила вопрос обычный с вопросом, качающимся на границе мира здоровых и царства иллюзий. – И скажи, пожалуйста, если я тебя попрошу не слушать этот твой, ну, якобы мой, голос, ты сможешь?
Первый вопрос Павел словно не услышал, что не очень вязалось с недавней подавленностью из-за чёрствости сына. И сразу стал отвечать на второй.
– Зачем? Тома, я сначала тоже боялся! А теперь понимаю, что этот голос мне ничего, кроме добра, не желает!
– А я? – напряжённо спросила Тома. Она смотрела на Пашку в упор, словно пыталась силой своего внушения преодолеть туманные липкие ловушки, которые расставила болезнь. – Я ведь живая, здоровая и, главное, – настоящая, сижу перед тобой! Почему ты веришь не моему реальному голосу сейчас, а каким-то вымышленным голосам у тебя в голове!
– Томка, – проникновенно продолжил Павел, – я ведь тебе не говорил, но я начал слышать тебя очень давно. Классе в пятом-шестом это уже было. И лет в восемнадцать я хотел всё это прекратить. Сначала я думал, что надо уехать куда-нибудь подальше. И всё закончится. Напросился с ребятами в отряд от института, сам я ещё только поступил. И поехал с третьекурсниками на Байкал. Ничего не прекратилось, Тома. Горы, вокруг красотища, куча девушек, костры с гитарой, а я тебя слышу. Маленькому, мне это даже нравилось, я не скучал. Потом – стало пугать. В какой-то момент хотел всё закончить быстро. Но испугался. Не хватило решимости. Я попробовал сделать тебя своей девушкой, меня заклинило на том, что если ты будешь рядом, то настоящий твой голос уничтожит тот… ненастоящий. Но ты всё испортила. Вернее, ты просто никак не помогла мне. Я остался с этим один на один. Потом я встретил Веру, и голоса стало меньше. Но он не исчез совсем. Прорывался в самые неподходящие моменты. После её смерти – голос стал звучать почти постоянно. Серый всё время меня спрашивал: «Пап, ты ведь со мной говоришь, а кажется, что кого-то другого слушаешь!» Его стали часто увозить к бабушке. Верины родители умерли, они не пережили её болезнь и уход. У меня ещё жива мать, но она почти ничего не понимает, глубокая деменция. За ней ухаживает моя тётка, я только навещаю их и даю деньги. Иногда. А потом мне поставили диагноз.
– Твоя мама была такая строгая… – едва слышно сказала Тома. – Помнишь, как тебя запирали на неделю?
– С возрастом она не стала мягче, – откликнулся Павел. – Серый её почти не знал. Она не любила Веру и была совершенно равнодушна к нашему сыну.
– А моя ухаживает за отцом, – автоматически пробормотала Тома, сама не зная зачем. Её опять тянуло делиться с этим человеком своими переживаниями. – Отец болеет, почти и дома одного не оставишь.
Тома сидела, глядя перед собой, и силилась осознать услышанное. С детства? Пашка слышал голоса, вернее, её голос с детства? Как такое может быть? Если это болезнь, он же уже к такому возрасту совсем невменяемым должен стать! Она вспомнила сладко пахнущий оранжевый с пламенными прожилками тюльпан, и внутренне съёжилась. Боже мой! Он был болен почти всегда, он пытался бороться, а она была рядом и даже не заметила этого! Она жалела его за неловкую влюблённость, в то время, когда он думал о самоубийстве!
Такого ощущения беспомощности и нереальности происходящего Тома не испытывала давно. Жизнь человека не так уж длинна, и ситуаций, подобной этой, выходящих за все края и пределы, в ней случается не так уж много. Ну, по крайней мере, их всегда помнишь и всегда заново переоцениваешь. Спустя час, день или годы.
Подобное чувство Тома испытывала, когда умирала её институтская подруга – Валя, тоненькая девушка с длинными льняными волосами и сказочной фамилией – Ларцева. Она долго болела, но ещё до того, как Валя слегла и отвернулась к стене, пока она ещё только странно себя вела и замыкалась от окружающих, у Томы уже родился Алексей. Валя приходила к ней в гости, трогала крохотные пальчики, подарила чудесный ярко-зелёный костюмчик; много лет Тома не могла без слёз смотреть на истрепавшиеся, с вылезшими нитками штанишки, размером в полторы ладони и кукольную кофту.
В ту пору, на стыке конца осени и прихода зимы, когда Петербург погружается в бесснежные тёмные дни с шлейфом колючих ветров, Валя поднялась с постели и поехала в центр города из своего северного района стареньких многоэтажек. Что она хотела и куда собиралась, так никто и не узнал. Задумчивая и отрешённая, в плену своих мыслей, она слишком близко подошла к ледяному боку зимнего трамвая, и тяжёлые промёрзшие колёса затянули её длинную юбку и саму Валю… Водитель успел опустить предохранительную решётку, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Тома помнила, как она ходила по комнате, качая младенца, от окна к стене, от стены к двери и опять к окну… За окном сыпалась ледяная снежная крупа, сумерки превращались в ночь, а ночь в утро… И где-то в реанимационной палате Военно-медицинской академии лежала Валя, жизнь которой уходила, заканчивалась, покидала погружённое в медицинскую кому и уставшее бороться тело. Тома очень хорошо запомнила фатальное, сумеречное чувство беспомощности; борьба с невидимым роком всегда бесполезна, чуда подобного ночному поединку Иакова с Ангелом не происходит. Свет гаснет, опускается занавес. На отпевании Тома не видела Валюшу из-за слёз, а когда подошла к гробу, то вспомнила рассказ своей матери о смерти её школьной подруги. «Это была уже не моя Оля. Я её, Томочка, обмывала; знаешь, это, как табуретка, холодное, недвижное. Всё живое уже где-то там… куда нам до срока не попасть». Это была не Валя, белое лицо Снегурочки, с ресницами, опушёнными инеем, не имело отношения к живой, родной Валюше. Подруга приснилась ей потом один-единственный раз, весёлая, с длинными волосами, ставшими ещё белей земных, и в ослепительно-ярком платье глубокого синего цвета.
А второй сон случился совсем недавно, после первого звонка Павла. Теперь Валя была красива обычной, будничной красотой, одета просто, и немного грустна. Словно уже обжилась в неведомых смертным пространствах иного мира и хотела поговорить с подругой, предупредить о чём-то. О чём? Странные сны ей снятся последнее время, умершие словно тревожатся и пытаются предотвратить какое-то несчастье. Тома даже съездила к Вале на могилу, посидела в тени огромного клёна около ажурного кованого креста, который сделал их друг, художник-кузнец. Крест был удивительный, его тонкие линии и завитки узора напоминали о победе над смертью, о том, что Процветший Крест (это Древо Жизни. А венчала это Древо маленькая птица, с тоненьким горлом и огромными глазами. Она будто слетела с веток клёна, да так и осталась сидеть, глядя вверх, туда, где небо чуть виднелось между ветвями. Глаза птицы казались слепыми и одновременно (видящими то, что закрыто для живых. Тома сидела, глубоко задумавшись, около ног качались какие-то красивые растения с огромными листьями, их посадила Валина мама. Тома будто наяву слышала Валин голос, видела её глаза и улыбку. Это было общение… А ведь столько лет прошло, столько лет. Валя переживала за неё. Тома чувствовала это совершенно точно.
Тома понимала, что сейчас, с Пашкой, она опять попала в параллельное пространство, где одновременно веришь в чудо, ищешь родники живой воды, и тут же проклинаешь всё и вся, падаешь на сухую пустынную почву неверия и отчаяния.
– Так, – твёрдо сказала Тома. – Слушай внимательно. Когда будешь слышать этот голос, сразу говори со мной настоящей. Звони в любую минуту. Если я не отвечаю, то сам громко рассказывай себе какие-нибудь истории. Или пой. Напевай любимые песни, декламируй стихи. Это поможет, ты не будешь слышать этот проклятый голос так чётко. Я читала статьи…
Она не успела закончить, потому что глаза Павла налились кровью, он вскочил и заорал так, что Тома отшатнулась:
– Это не «этот проклятый голос»! Это твой голос! И ты хочешь отнять у меня единственное, действительно ценное, что осталось? Как я буду без него жить? Ты ведь не рядом со мной, ты там, где-то, с семьёй! У тебя всё есть! А у меня… – Он закашлялся. Махнул рукой и замолчал. Потом просипел: – Я не могу остаться один. Серый всё равно уйдёт, рано или поздно. У него будет своя жизнь, своя семья. Что-то должно остаться мне.
– Ты хочешь сказать, что иметь меня другом – это мало? – возмутилась Тома. – Ваше величество желает мою особу в полное и безраздельное пользование? Ну прости, тебя опередили. Вернее… – Она сбилась, вспомнив тюльпан: – Вернее, у нас ничего и не могло быть другого. Пашка, прости, но ведь чувствам не прикажешь! Мы всё равно не смогли бы быть нормальной семьёй.
– Почему? – Павел сидел, нахохлившись, отвернувшись от неё.
– Не знаю. Не могли и всё. Ладно, Паш, я поеду, – Тома так устала за те пару часов, что пробыла в этой квартире, что готова была убежать бегом. Она очень хотела домой. – Только обещай, что сам никуда не поедешь.
– А ты не хочешь со мной? – спросил он с надеждой.
– Паш, ты с ума сошёл? Ой, извини… – Тома смутилась. – У меня семья, собака, дом. Работа, в конце концов. Я книгу пишу сейчас… Раньше учителем работала, недавно уволилась. А ты где работал?
– Какая разница, где я работал. Занимался волками. Механизмы поддержания социальной структуры популяций, – Медленно, словно с трудом, выговорил Павел. – Значит не поедешь…
– Ничего себе… волки… Круто. Нет, Паш. Мой телефон у тебя есть, звони. Не обижайся на Сергея, он тебя… – тут Тома помедлила долю секунды, потому что такое вроде бы естественное слово «любит» не подходило к странным отношениям Павла и Сергея: – Он к тебе очень привязан. Я это вижу.
Она вышла в коридор, накинула кофту и толкнула входную дверь. Дверь была не закрыта. На улице дул холодный ветер, молодая зелень казалась слишком яркой. Тома запахнулась и пошла к машине. Она вспоминала взгляд, которым её проводил друг детства. Наверное, такие глаза должны быть в зимнем лесу у голодного хищника. Внимательные, спокойные. Бесстрастные огоньки на сливающейся с темнотой серой морде. Тома еле шла, все окружающие предметы вдруг стали менять цвет, он делался нестерпимо сверкающим, Тома зажмурилась и закрыла глаза руками. Потом она пошатнулась и начала заваливаться набок.
За спиной хлопнула дверь подъезда, раздались быстрые шаги. Кто-то схватил её под руки, потом понёс. Тома попыталась кричать, но из горла вырвался только сиплый стон. Вокруг взрывались огненные шары. Боль пропала и яркие шары погасли в холодной темноте.
2
Строка из песни «Синяя птица» группы «Машина времени».
3
Из песни «Атланты» барда А. Городницкого, написанной в 1963 г.