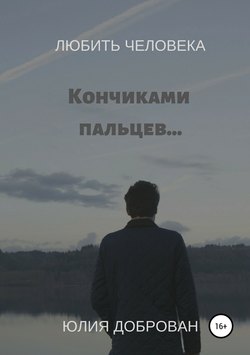Читать книгу Любить Человека: Кончиками пальцев… - Юлия Владимировна Доброван - Страница 1
ОглавлениеОт автора: это история не о запретной, для кого-то – даже извращённой тяге мужчины к мужчине. Это история любви Человека к Человеку.
Пролог
Я не жалею…
Если бы однажды мне выпал шанс вернуться в прошлое и заново пройти свой путь, я бы в точности воспроизвёл каждый из пройденных шагов, не сходя с намеченной тропы ни на дюйм.
Если бы Судьба поставила меня перед выбором: долгая и счастливая жизнь в достатке или то, что я имею сейчас – я бы громко хлопнул дверью у неё перед носом, не желая тратить ни секунды этого драгоценного дня.
Если бы сам Дьявол соблазнял меня обещаниями о вечной жизни и бесконечных развлечениях, я бы, не кривя душою, убедил его, что прожил великолепную, в избытке наполненную счастьем жизнь, которую бы не променял ни на что на свете.
Да, я доволен тем, что имею. Да, я чёртов везунчик, раз уж мне – совершенно обыкновенному человеку – выпал шанс познать то, о чём другие могут лишь грезить или читать в любовных романах.
Я испытал её – истинную любовь. Ту, о которой добрую половину своей жизни не смел и мечтать. Ту, прихода которой совсем не ждал, искренне полагая, что судьба моя давно расписана, а будущее более-менее предначертано и стабильно. Но…
Когда приходит она, истинная любовь, вдруг понимаешь, как слеп был все эти годы. Как скудны и поверхностны были чувства, которые ты прежде ошибочно величал любовью. Глупости! Наивный дурак – вот кем я был! Любовь-то вот она! Необъятная! Бескорыстная! Непостижимая и безграничная! Такой любовью не надышаться, даже если собрался дожить до ста! Это чувство не уместить даже в самом огромном сердце! Такую любовь невозможно описать человеку, не испытавшему нечто подобное. Это… это моё. Моя история. Моя любовь.
Моя тайна.
И я не жалею о сделанном выборе. Клянусь, не жалею!
Подумать только… А ведь если бы тогда, в прошлой жизни, задолго до Тебя, мне рассказали, где и при каких обстоятельствах я окажусь сегодня, я бы рассмеялся тому человеку в лицо. Или оскорбился бы – не знаю. Если бы кто-то вздумал сообщить, каким я стану, я посчитал бы его безумцем и посоветовал бы обратиться в клинику для душевнобольных. А если бы в той далёкой, кажется, совсем чужой жизни мне довелось хоть на миг поверить в услышанное, я бы незамедлительно отправился в лечебницу сам, добровольно – настолько слеп и глух я был в то время.
Видишь, как всё меняется? Теперь я здесь, с тобой, и кажется, будто нет места прекраснее.
Я счастлив.
Здесь и сейчас я счастлив.
Глава 1
Лондон, 12 мая, 1901 год
Первый по-настоящему тёплый весенний день в этом году случился гораздо позже, чем ожидалось, поэтому неудивительно, что в воскресное майское утро добрая половина жителей Лондона выбралась на прогулку. Дамам наконец-то выпала возможность продемонстрировать новые наряды, отчего все городские улочки и парки выглядели как разноцветное конфетти – от обилия всевозможных шляпок рябило в глазах. Их джентльмены вальяжно прохаживались рядом с таким гордым видом, будто не жён вывели на прогулку, а крохотных породистых собачонок, которыми принято хвастаться на выставках или скачках в Аскоте. Впрочем, после затяжной зимы и хмурой, щедрой на холодные ливни весны столь резкий переход на летние наряды не мог не радовать, и меня, как человека творческой профессии, подобная картина должна была вдохновлять.
Собственно, за вдохновением я и подался на мост Ватерлоо. Мне всегда нравились неспешные пешие прогулки, особенно после дождей. В такие дни город казался чуть более живым, чем обычно, а воздух наполнялся дивными ароматами из смеси дамских парфюмов, подгоревших тостов с беконом из крохотных уличных забегаловок домашнего типа, свежей весенней зелени, прибитой ливнями пыли и запахом самого сердца Лондона – сыростью нашей величественной Темзы.
Дышать – не надышаться…
Медленно шагая по набережной, я без особого, к своему стыду, интереса наблюдал за случайными прохожими, уже тогда понимая, что делаю это скорее насильно, по необходимости, но никак не от души. Однако вдохновение – штука капризная, и чтобы снова вернуться к работе, мне требовалось отыскать «то самое» лицо. Признаться, в последнее время дела мои шли настолько скудно, что я и сам порою верил в эти отговорки об исчезнувшем вдохновении, которыми вот уже девять месяцев кряду кормил и опекающую меня галерею, и мою милую супругу Грейс, так отчаянно желавшую помочь хоть чем-то. Ведь скульптору, снискавшему славу в столь раннем возрасте и к двадцати восьми годам уже вовсю пожинавшему плоды своей популярности не только в столице, но и за её пределами, негоже обрывать свой творческий путь в самом расцвете и сетовать на отсутствие какого-то там призрачного вдохновения. Глупости всё это – я и сам прекрасно понимал, но отчего-то вот уже который месяц так и не мог заставить себя снова взять в руки глину и с головою погрузиться в работу, чтобы после порадовать ценителей прекрасного очередным шедевром.
Нет, разумеется, бюстики на заказ для состоятельных вельмож не считаются. Их я могу лепить десятками в месяц, однако, это не то. Совсем не то! Лишь разминка для пальцев, но никак не для души. А ещё – отличный способ не просто сводить концы с концами, но и оставаться уважаемым членом столичной элиты, имея не крохотный домик в пригороде, а вполне приличное имение почти в центре Лондона.
Своей последней серьёзной работой я считаю статую «Королева Виктория», работу над которой закончил ещё в прошлом году и которая ныне украшает тронный зал во дворце. Интересный был опыт – ничего не скажешь. Но с тех пор что-то не заладилось: то ли действительно покинуло пресловутое вдохновение, то ли выдохся, а быть может, нужно просто переждать… не знаю.
А ведь тридцать два года для зодчего – самый расцвет!
Впрочем, сетовать на судьбу не в моих правилах. Мне просто нужно найти подходящий объект. Лицо. Человека, который разбудит во мне желание творить.
Вон та кроха, сбежавшая от чрезмерно увлёкшейся беседой с гувернанткой матери и теперь так весело плещущаяся в грязной луже, пока никто не видит, вполне могла бы стать замечательной натурщицей. А что, детей я люблю, да и работать с их юными лицами, обрамлёнными чудесными золотистыми локонами или тёмными непослушными завитушками – сплошное удовольствие. Правда, в моём исполнении малыши всегда выглядят печальными херувимами…
Или вон та леди в причудливой шляпке с бордовой вуалью… Лицо, к сожалению, толком не рассмотреть, но фактура… боже, какая у неё фактура! Осанка, линия челюсти, острые плечики, гордо приподнятый подбородок и чуть вздёрнутый носик. Породистая дама – вот как я таких называю. Именно породистая! Разумеется, вслух я этого ни за что не сказал бы, дабы ненароком не оскорбить неуместной прямолинейностью. Ведь врождённый аристократизм – это не только благородные черты лица и молочно бледный цвет кожи, но и особая манера поведения. Для таких дам, к примеру, это преувеличенная обидчивость и раздутая самооценка, которую может ранить лишь одно моё неаккуратно подобранное слово, и тогда скандала не избежать.
Не люблю работать с такими. Господь одарил их красивыми лицами, но в придачу снабдил преотвратнейшим характером. Уж лучше взаимодействовать с обыкновенным рабочим классом. Красивых лиц с интересными чертами среди них не меньше, так ещё и нравом они попроще. Вот с такими мне легко. С обыкновенными людьми, к коим я до сих пор причисляю и себя, несмотря на происхождение и статус именитого скульптора и художника.
Вот взять хотя бы этого кэбмена, в ожидании клиента вычёсывающего гриву своей лошади: вроде полноватый, с редеющей шевелюрой и козлиной бородкой, а я бы предпочёл лепить именно его, а не леди в шляпке.
Хотя кого я обманываю? Не то. Всё не то! Не те лица, не те эмоции, не та фактура… Сплошная серость! Вокруг сплошная серость и заурядность.
А мне нужно что-то особенное. Кто-то особенный! Кто-то, кого я бы не просто увидел, но и почувствовал…
И пока мысли мои были заняты отнюдь не радостными терзаниями, снова разбередившими чуть успокоившуюся душу, ноги уже принесли меня к крохотной заводи – пожалуй, моему любимому месту в Лондоне. Здесь всегда тихо, спокойно и в любую погоду (даже в те редкие знойные летние дни) пахнет свежей зеленью. Быть может, это заслуга старенькой ивовой рощи, живой изгородью отделяющей девственный берег от шумной городской суеты и ставшей настоящей отдушиной для таких, как я…
Не знаю почему, но я с юных лет полюбил это место. Хотя, насколько мне известно, остальные жители столицы считали эту заводь самым настоящим дефектом на теле нашей величественной и ровной Темзы. Глупцы! Но мне-то грех жаловаться: чем меньше народу – тем больше простора для дум. А одиночество я люблю и глубоко уважаю. Так что самое время присесть на одну из лавок, спрятанных под тянущимися к земле ивовыми ветвями, и чуточку передохнуть от бесконечного потока шляпок и вуалей.
Воистину, природа исцеляет. Как тело, так и разум…
Помню, однажды, в те далёкие времена, когда я ещё не был женат и лишь добивался расположения моей милой Грейс, эта ивовая роща сослужила мне отличную службу: вместо того, чтобы пойти привычным любому джентльмену путём и пригласить юную мисс Ланотти в ресторан, я заманил её сюда, устроив небольшой романтический пикник у воды, чем тогда и покорил юное сердце возлюбленной. Да, славные были времена…
Где-то совсем рядом, ярдах в шести от меня, послышался шорох чьих-то шагов – похоже, не я один сегодня захотел скрыться от нескончаемого людского потока в самом центре Лондона. Стараясь не выдать своего присутствия, я встал со скамьи и подошёл к ветвям, чтобы взглянуть на нарушителя своего покоя. Это был мужчина – всё, что я успел отметить, прежде чем в голове что-то щёлкнуло. Я знаю это ощущение – так бывало всякий раз, когда новое помешательство идеей захватывало все мои мысли. В последний раз я испытывал нечто подобное около полутора лет назад, когда только начинал работу над статуей ныне покойной (да хранят её душу ангелы) королевы Виктории. Но почему сейчас?..
Двигаясь максимально бесшумно, я чуть больше раздвинул ветви и постарался рассмотреть незнакомца: высокий (значительно выше меня), ростом в шесть с небольшим футов, и какой-то уж слишком тощий. Я бы даже сказал – угловатый. По крайней мере, так мне это представлялось. Потому что судить наверняка я не мог – он был одет в серого цвета костюм, поверх которого на плечи (что было странно для солнечного майского дня) было наброшено достаточно плотное чёрное пальто из йоркширского твида.
Мужчина стоял спиною ко мне, чуть повернув голову влево и вглядываясь в спокойную водную гладь. Волосы его были аккуратно уложены назад и зафиксированы каким-то средством по уходу. Скорее всего, этим новомодным бриллиантином. В тени нависающих над нами ив они показались мне иссиня чёрными, хотя не удивлюсь, если при ярком солнечном освещении я бы сумел разглядеть коричневые или даже рыжеватые блики…
Но что ещё больше привлекло моё внимание, так это его кожа – белая-белая! Нет, не так – молочная с едва заметным голубоватым отливом. Пытаясь подобрать подходящее сравнение, на ум снова и снова приходило лишь одно слово – луна. Так выглядит полная луна в ясную июльскую ночь. Она светится своей чистотой. И именно так сейчас светился и он, мой незнакомец…
Луна. Или фарфор. Да, тот великолепный китайский фарфор – хрупкая роскошь, изящная лёгкость и воздушная гибкость линий. Глянцевая безупречность… Или нет, скорее мрамор – вот подходящее для скульптора слово. Мрамор! Его кожа, словно нетронутая мраморная глыба, застывшая у кромки воды в ожидании зодчего…
Признаться, у меня вспотели ладони и пересохло во рту.
Я чувствовал себя вором, мошенником, но никак не мог остановиться и прекратить это низкое, недостойное любого уважающего себя человека занятие – подглядывать за ничего не подозревающим джентльменом.
Вот он делает шаг в мою сторону, и у меня сердце едва не выскакивает из груди – настолько стыдно мне становится. А ещё страшно. И гадко. И одна лишь мысль о том, что я могу быть разоблачён, заставляет сердце нестись галопом, и теперь потеют не только ладони, но и лоб, и даже шея.
Но вот он замирает совсем рядом, и я моментально забываю обо всех своих страхах. Его ровная спина кажется лишённой каких-либо изгибов, а вынырнувшая из кармана пальто ладонь с тонкими длинными пальцами, напротив, выглядит столь чувственной и изящной, словно её хозяин – тоже зодчий. Или пианист. Или художник… Да, такие руки определённо могли бы принадлежать художнику.
О чём он думает, разглядывая замершую Темзу? О чём шепчутся его мысли, пока я пытаюсь разгадать его тайну? Быть может, о неразделённой любви? Или о какой-то весомой потере?.. О чём может думать человек со столь непроницаемым лицом, тоже сбежавший от целого света и ищущий покоя в этой глуши?
Хотелось бы мне увидеть его глаза… Тогда бы я понял. Тогда бы я сумел прочесть его душу и познать его историю.
Но сейчас, пока я позорно прятался у него за спиною, мысли мои были лишь об одном – наконец-то! Наконец-то я нашёл его – тот необыкновенный типаж, от одной лишь мысли о котором я чувствовал покалывание в кончиках пальцев. И душа вдруг снова наполнилась тем непередаваемым трепетом, что ощущался мною всякий раз, едва на горизонте маячила новая, действительно грандиозная работа.
Да, я должен лепить именно его! Это лицо, эти волосы… Эти странные, остро очерченные скулы и впалые щёки, прямой нос и непозволительно пухлые для мужчины губы (особенно верхнюю – так чётко очёрченную, что кажется, будто она уже вылеплена из пластилина сверхчувствительными пальцами зодчего). В нём всё казалось неверным, избыточным: слишком высокий и худой, с неправильными, гиперболизированными чертами лица и неестественно прямой осанкой, будто где-то по центру его организма вместо позвоночника вбита ось, координирующая его движения и не дающая ссутулиться ни на дюйм. Он казался таким… таким иным – вовсе не похожим на те фактуры, что могли бы заинтересовать скульптора – что я вдруг явственно ощутил, что это именно Он.
Он!
Мой идеал. Моя муза. Моё вдохновение.
Я должен испытать, каково это – высекать столь безупречные скулы из мрамора. Как будут ощущаться его впалые щёки кончиками моих пальцев, если вылепить их из глины? А из пластилина? Или гипса?.. О, Господь всемогущий, сколько возможностей! Сколько желаний! Сколько… сколько вопиюще невыносимой красоты в одном человеке – глаз не оторвать! А его глаза! Боже, и подумать страшно, как счастлив я буду, когда начну работу над его глазами! Ведь они… они такие… А глаз-то его я разглядеть так и не сумел, ведь пока моё обезумевшее воображение уже рисовало совместные дни и вечера за работой в моей мастерской, мой восхитительный незнакомец успел вдоволь насладиться видами спящей Темзы и сейчас как раз направлялся прочь из заводи – наверх, к Ватерлоо.
Я сорвался с места столь стремительно, будто сейчас решалась моя дальнейшая судьба. По сути, так и было… Я спешил за ним, за моим пока ещё незнакомцем, и с каждым новым шагом всё больше и больше думы мои наполнялись решимостью – догнать, разглядеть получше, познакомиться, предложить поработать моим натурщиком. Нет, не так – не предложить, а убедить. Во что бы то ни стало убедить! Ведь если он по каким-либо причинам вздумает отказаться, если вдруг сочтёт моё предложение недостойным или… нет, даже думать о таком не стану! Нельзя! Он согласится, и мы начнём наше общее дело. И только так!
Однако переполнявшая меня изнутри решимость на теле вовсе не отразилась – с каждым новым шагом я отставал от него всё больше, словно всё ещё опасался быть уличённым в чём-то недостойном.
Но вот он остановился прямо по центру моста, изящными пальцами обхватил перила и уже с высоты разглядывал мутные тёмно-синие воды. Я тоже замер, продолжая держаться в стороне и стараясь не выдать своего интереса, и затаил дыхание, изучая его профиль совсем по-новому: теперь, в ярких солнечных лучах, кожа его казалась настолько тонкой и прозрачной, что мне стало невыносимо страшно – а вдруг сейчас подует ветерок или пролетит бабочка и заденет его крылом, и всё истлеет. Развеется по ветру, будто потревоженная невежей тысячелетняя реликвия. Будто веками покоившийся в гробнице пергамент – настолько его кожа казалась уязвимой в своей безупречности. А ещё она светилась. Не так, как светятся напудренные белоснежные носики юных леди или строгих герцогинь, обучающих этих леди подобающим манерам. Нет, его кожа светилась изнутри. Так, словно это не майское солнце согревало всех вокруг, а он, мой незнакомец, делился своим внутренним светом с окружающим миром. Да только заметил этот великодушный дар один лишь я – к стыду своему или к счастью…
Совсем рядом с ним пробежала собака, едва ли не задевая полы его пальто хвостом, и я вдруг осознал, что вокруг нас десятки, а то и сотни других людей. Мостовая буквально кишела жителями Лондона, словно переполненный лесной улей – дикими пчёлами, а я не видел ничего и никого вокруг. Только Он: его лицо, волосы, руки, плавные линии силуэта…
И оставалось лишь набрать в лёгкие побольше воздуха и сделать наконец тот решающий шаг ему навстречу, протянуть руку и представиться, но… но ровно в эту секунду я услышал до тошноты и спазмов в грудине знакомый с юности голос:
– Гарольд? Гарольд, дружище, ты ли это?..
Разумеется, это был я. И, разумеется, я ни капли не обрадовался столь нежеланной встрече: всего в двух ярдах от меня остановился мой старый знакомый Стэнли Митчелл. Когда-то давно, ещё только начиная обучение в Королевской Академии Художеств, я познакомился с молодым человеком, подающим большие надежды и обещающим стать великим пейзажистом. Теперь же от этого человека не осталось ничего, кроме имени – к моему величайшему сожалению, Стэнли Митчелл слыл пропойцей и заядлым картёжным должником.
– Гарольд! Вот так удача! А я как раз вспоминал тебя намедни да собирался навестить. А тут ты…
Оторвать взгляд от своего незнакомца и перевести его на одутловатое, не по годам морщинистое лицо Стэнли стоило мне колоссальных усилий. Ведь всё, чего я хотел в этот момент, это оказаться в какой-нибудь относительно тихой забегаловке, угостить своего нового (а я надеялся, что к тому времени он им действительно станет) знакомого чашкой ароматного кофе и куском грушевого пирога, а после пригласить его на прогулку, скажем, в Блумсбери…
– Гарольд! В облаках ты, что ли, витаешь?!
– Стэнли. День добрый.
– А то!
Крупная голова с копной рыжих волос нагло возникла прямо перед моим лицом, и мне не оставалось ничего, кроме как обратить-таки свой взор на Стэнли.
– Как жизнь, приятель? Как жена? Дочь?..
– Сын. У меня сын Логан.
– Да-да… Слушай, я тут подумал… мы ведь с тобой не виделись чёртову прорву времени, так?
Мне не нравился ход его мыслей, и всё, о чём я мог думать в эту секунду, это как бы поскорее спровадить Стэнли.
– …поэтому почему бы нам не сходить в какой-нибудь паб и не пропустить по пинте-другой эля? Как ты на это смотришь?
Отвратительно – хотелось ответить, но воспитание не позволяло без причины оскорбить человека. Стэнли ведь не виноват, что мысли мои заняты совсем иным. Да и ничего плохого он мне никогда не делал, просто сейчас катастрофически не тот момент, чтобы прохлаждаться в пабе. Неподходящее время и неподходящий человек.
– Эй, Гарольд! Ты меня слушаешь?
– Да. Да, разумеется.
– Ну и отлично! Куда пойдём?
Он хлопнул меня по плечу с такой силой, что я едва не поперхнулся. Что ж, похоже, самое время признать, что на сей раз отвертеться не получится – Стэнли Митчелл попросту не понимает намёков. Не умеет читать между строк, не чувствует настроения собеседника, не способен увидеть отказ в глазах, всё ещё ищущих в толпе другое лицо. Или спину. Стремительно удаляющуюся спину…
– Я знаю одно потрясающее местечко, – щебетал он практически мне в ухо, настырно уводя прочь с мостовой. Прочь от моего незнакомца. – Там подают преотличнейшее пиво и вареных в каких-то травах раков. Уверен, тебе понравится!
Я улыбался и кивал, как и подобает дружелюбному человеку, а он буквально светился от счастья: то ли действительно всё воспринимал за чистую монету, то ли искусно делал вид, что не замечает моего состояния. Скорее первое. На второе способны лишь люди с чувствительной душой, к коим Стэнли, к сожалению, отнести невозможно.
И пока я покорно следовал за своим приятелем, мой восхитительный незнакомец, моя находка и моё же вдохновение в одном лице – невероятном, неземном и мучительно недостижимом лице – уже успел раствориться в толпе, как вездесущий туман поутру развеивается над мутными водами Темзы.
Я потерял его, толком даже не успев обрести. И в этот миг каждый мой сосуд, каждая вена в моём внезапно ослабевшем теле несли сердцу не кровь, а горькую обиду. Обиду и разочарование.
Я Его упустил.
Глава 2
Затягиваясь крепким индийским табаком и тут же торопливо выдыхая струю сизого, омерзительно горького дыма, я снова и снова касаюсь пальцами тонких графитных линий, от которых не могу отвести взгляд вот уже третий месяц кряду…
О, Господь всемогущий, и вообразить страшно, что с той судьбоносной встречи прошло уже столько времени, а я… Что ж, я могу быть достаточно смелым и честным, чтобы признать: я увлекся. Нет, глупости! Не увлёкся – это просто смешное определение! Я помешался! Да, помешался. Вот это слово подойдёт идеально.
Я помешался.
Помешался на образе человека, которого видел всего единожды, да и то мельком. Разве так бывает? Разве способен человек увлечься кем-то настолько сильно, пережив лишь краткий миг однократной встречи? Да и целесообразно ли называть встречей то несостоявшееся знакомство? Одностороннее. Мучительно непродолжительное и, увы, единственное… Разве так бывает?
Бывает.
Теперь я с уверенностью и чистой совестью могу признать, что бывает.
Помню, тогда, в тот тёплый майский вечер я вернулся домой слегка навеселе, извинился перед своей Грейс за незапланированную задержку и поспешил удалиться наверх, в свою мастерскую. И лишь заперев дверь на засов и устало прислонившись к ней спиною, я сумел впервые за весь вечер расслабиться и сделать то, что хотелось сделать буквально каждую секунду. Каждую чёртову секунду этого нелепого вечера, нахально отнятого у меня Стэнли Митчеллом! Я думал о Нём, о своём незнакомце. Воскрешал в памяти черты его лица, деталь за деталью, и воображал, как совсем скоро начну работу над этой великолепной фактурой. В тот миг я испытывал нечто среднее между эйфорией и отчаянием, между восторгом от того, что наконец-то нашёл долгожданный образ, и разочарованием, потому что так нелепо упустил его. Я смотрел на свои инструменты и как никогда чётко знал, как буду использовать каждый из них, работая над этим прекрасным лицом. Каждая кисть теперь имела своё предназначение: вот эта тоненькая, из беличьего хвоста – для мелких и точных деталей вроде глаз или морщинок под нижними веками; вон та, широкая и толстая – для белил на его острых скулах; а эта жёсткая, пожалуй, для пухлых губ. Или нет, губы я изображу с помощью мастихина – широкими, полными небрежности мазками. Ну, разумеется! Ни одна кисть должным образом не сможет передать их полноту и объём, их розовый, чуть влажный блеск и тот потрясающий, совершенно удивительный дерзкий изгиб верхней губы. Я смотрел на горку гипса, небрежно рассыпанную на столе, а видел миниатюрный бюст с идеально точными, мастерски проработанными линиями челюсти и лба. Я смотрел на красную глину и уже представлял, как пальцы мои снова и снова лепят изогнутые в немом удивлении надбровные дуги и чуть раздутые крылья носа. А вон тот кусок белого мрамора, заказанный в Италии прошлой весной, непременно станет воплощением его гордого, но отчего-то печального профиля…
Я снова и снова обводил взглядом свою мастерскую и буквально давился слюной, предвкушая долгие месяцы интереснейшей работы. А после, словно испытав озарение, я вдруг сорвался с места, схватил первый попавшийся лист бумаги и обыкновенным графитным карандашом принялся делать набросок за наброском. Я рисовал так торопливо и увлечённо, как не делал этого ни разу в жизни. Рисовал его спину и затылок, рисовал профиль и анфас, рисовал только скулы или только губы… И в те минуты я боялся лишь одного – что могу не успеть. Что к утру столь поразившие меня детали сотрутся из памяти, и их место займут подсунутые воображением подделки. Это казалось ужаснейшим из всего, что со мной когда-либо происходило, а посему я рисовал и рисовал, не смея остановиться ни на секунду.
Но я ошибся: память не подвела меня ни на следующее утро, ни даже спустя неделю или месяц. Я помнил его лицо так же чётко, как и в момент нашей единственной встречи. Словно оно навеки отпечаталось в моём разуме, оттиском впиваясь в самую душу. Даже сейчас, стоя посреди захламлённой, как говорит моя супруга, его рисунками мастерской, и глядя на все эти сотни или даже тысячи вариантов его лиц, что я успел создать за прошедшие три месяца, могу с уверенностью сказать, какой набросок являлся первым, а какой – сорок шестым. Потому что важен каждый из них. Важен, как и Он сам.
Я искал его. Разумеется, искал. Каждый божий день маялся по городу в тщетных попытках среди сотен бесполезных людей разглядеть ту самую спину. Я ходил по пыльным улицам и к нашей заводи (да, именно к «нашей»; она почему-то сразу стала нашей, а не только моей), подолгу сидел в крохотных забегаловках с видом на тротуар и всматривался в каждого случайного прохожего. Но то ли везение меня снова покинуло, то ли судьба посчитала, что одной-единственной встречи достаточно… Не знаю. Я и по сей день стараюсь ежедневно выделять часок-другой, снова и снова предаваясь тщетным, как показывает время, поискам. А вечерами, словно сумасшедший, запираюсь наверху и до поздней ночи рисую сине-чёрный блеск его макушки.
Это нелепо, знаю. Так и свихнуться не долго, но что поделать, если ни о чём другом невозможно и помыслить. Моя супруга Грейс, стоит отдать ей должное, весьма спокойно восприняла моё помешательство. Нет, разумеется, сначала новость о том, что я наконец-то отыскал идеальную фактуру, обрадовала и вдохновила её столь же сильно, как и меня самого. Грейс радовалась, словно дитя новой игрушке. Не отвлекала меня болтовнёй ни о чём, позволяла засиживаться в мастерской до поздней ночи, а иногда – даже до рассвета, и постоянно, постоянно приносила мне еду и горячий чай. О, Грейс… Моя милая, добрая Грейс.
Она достаточно быстро поняла, что на этот раз вдохновение меня не покинет даже спустя год или пять. Что лишь один раз в жизни можно быть настолько одержимым идеей и что я свою одержимость уже отыскал. И она приняла это. Моя Грейс приняла тот факт, что отныне нас не трое, а четверо, и что мысли мои постоянно заняты человеком, которого вряд ли доведётся повидать ещё раз…
Вот и сейчас, стоя над усыпанным эскизами, акварельными и масляными набросками столом, и глядя на тени под опущенными ресницами, я думаю о том, как несправедлива бывает судьба. Одна встреча! Она подарила нам всего одну встречу, крохотный шанс, воспользоваться которым я сумел лишь отчасти… Глаза! Вот что я не сумел разглядеть! Его глаза. Какие они? Этот вопрос мучает меня ночь за ночью, холст за холстом… Быть может, аквамариновые, как небо над Испанией? Тёплые и добрые. Мудрые и непозволительно печальные… Или нет, они тёмные, как уголь в богатой жиле. Как несбыточная мечта шахтёра. Тёмные, но живые. С дьявольским огоньком и песочными искорками. Или, быть может, это цвет горелой карамели?.. Сладкий, тягучий. Словно болотная тина. А может… а может, они цвета пепла? Дрожащей рукой трясу сигарой над одним из эскизов, а после ласково провожу по закрытым векам – красиво. Да, пожалуй, это красиво. Ему бы подошёл такой цвет. Возможно, чуть более светлый, полупрозрачный, словно тающий ледник, и непременно с золотистыми крапинками, будто солнечные зайчики, разбавляющими печаль. Тогда бы навечно засевшее в памяти лицо наконец-то ожило, а пепельно-туманные, словно сам Лондон, глаза засияли бы всем спектром оттенков веселья. Да, так было бы идеально…
Безумец, не правда ли? Свихнувшийся безумец – вот кем я стал за эти месяцы. Ну и пусть! Меня это не заботит ни в малейшей степени.
Чуть вздрагиваю, когда дверь в мастерскую внезапно заходится неприятным скрипом несмазанных петель, и торопливо перевожу взгляд туда, где у порога на меня вопросительно взирает Грейс.
– Ты ещё не готов?
«К чему?», – хотелось спросить в тот миг, но память услужливо подбросила мне обрывки состоявшегося накануне вечером разговора. Поход в Ковент-Гарден. Грейс умаялась сидеть дома и наблюдать за моей одержимостью, поэтому купила два билета на какой-то концерт классической музыки. Камерный оркестр или что-то в этом роде… Не могу вспомнить точнее. Разумеется, вчера я сразу же согласился. И, разумеется, сегодня о своём обещании благополучно забыл.
– Так я и думала, – шепчет Грейс без тени обиды. – Точнее, была уверена, что ты забудешь. Вот твой костюм, рубашка и туфли. А галстуком и запонками я займусь уже внизу.
– Спасибо, милая, – принимая одежду из её рук, я с чувством восхищения и гордости подмечаю, как особенно шикарна моя супруга в своём вечернем туалете. Это тяжёлое платье из толстого бархата глубокого тёмно-синего цвета идеально сочетается с её яркими голубыми глазами и светло русыми локонами, сзади собранными в замысловатую причёску. А в довершение образа она надела небольшую изумрудную подвеску – неброскую, однако всё равно необходимую, как восклицательный знак в конце предложения, выражающего крайнюю степень изумления. Примерно такую же, которую я испытывал в данный момент, глядя на свою невероятно красивую молодую жену. – Ты прекрасна, – улыбаясь, озвучил я истину и поцеловал её пахнущую апельсиновой цедрой ручку. – Просто восхитительна! Сегодня ты выглядишь изумительно.
– Только сегодня? – пошутила она, слегка ущипнув моё плечо. – Мы и правда опаздываем, Гарольд. Поторопись, я буду ждать тебя внизу.
***
Признаться, я совсем забыл, какое это счастье – оказаться в обители искусства, коей по праву считался Ковент-Гарден. Огромный и величественный, он всегда ассоциировался у меня с сердцем творчества нашего Лондона. По крайней мере, той его части, что относилась к театральным постановкам, операм или балетам, а также к таким концертам классической музыки, как сегодняшний. Здесь редко встречались случайные люди. Это место не терпело невежд или скупых душою зазнаек – не больше одного раза. Сюда ходили те, кому это действительно нравилось. Кому это было нужно и важно. Те, кто умел не только слышать оперную арию, но ещё и понимать её. Те, для кого фортепиано – не набор клавиш, издающих звуки под ловкими пальцами пианиста, а инструмент с душою и настроением… Мы с Грейс искренне считали себя как раз такой парой – людьми, умеющими ценить красоту высокого искусства. А посему частенько посещали это место и ему подобные, дабы порадовать друг друга и отдохнуть душою. Признаться, раньше такие выходы в свет происходили гораздо чаще, но, к моей величайшей радости, сегодня мы здесь, и это заслуга исключительно моей дорогой супруги.
– На тебя снова все смотрят, – шепнула она, не переставая улыбаться знакомым и совершенно чужим людям, пока мы пробивались к лестнице. – Каждый норовит подойти и пожать руку. А ещё лучше – сфотографироваться с тобой.
– Или с тобой, дорогая, – это был очередной комплимент её великолепному платью, отчего она так по-детски просияла. – Мне почему-то кажется, что сегодня все взгляды прикованы лишь к тебе. Как мужские, так и женские.
– Что ж, в таком случае мы рискуем затмить самого Кристофера Тёрнера, – хохотнула Грейс и потащила меня к входу в зал. – Вряд ли он был бы рад такой перспективе.
Я понятия не имел, кто такой этот Тёрнер, но поинтересоваться не успел, потому как к нам уже направлялся мой старый знакомый и по совместительству бывший клиент виконт Монтини. Помнится, портрет его был огромен и уродлив. Но что поделать – я за натуральность.
Монтини… Грейс скривилась, смешно наморщив носик.
Добраться до своих мест в третьем ряду нам удалось лишь спустя четверть часа, и к тому времени я уже чувствовал себя так, словно весь день разгружал вагоны с углём. Впрочем, удивляться нечему: эта официальная суета всегда меня утомляла, а иногда даже злила. Я одиночка. Я привык к другому. Мне нужны пространство и тишина, а такие вот публичные мероприятия крайне редко оставляли приятное послевкусие.
Но расслабился я практически мгновенно. Едва в зале приглушили свет, и основным его источником стал устремлённый в самый центр сцены жёлтый луч, я откинулся на спинку кресла и прикрыл веки в ожидании наслаждения. А спустя несколько минут величественные стены Ковент-Гардена заполнили рычащие хрипы виолончелей и альтов. И бренная суета вместе с прочими мыслями вмиг покинули мой разум. И лишь расслабленные, чуть испачканные грифелем пальцы касались забытой на коленях, так и не прочитанной программки концерта.
Ледяным весенним горным потоком музыка вливалась в самую душу, остужая внутренности и отрезвляя своей чистотой. Она была целебной, клянусь! Такие звуки не могут нести в себе ничего, кроме исцеления! Это сущее волшебство, созданное благословенными пальцами музыкантов. Я мог бы слушать эту исповедь вечно, качаясь в невесомых тёплых волнах бесконечного океана или представляя себя в удобном гамаке где-нибудь на окраине Эдинбурга, среди вековых дубов и неудержимых, пахнущих свежими травами ветров… но внезапно все звуки исчезают, и зал взрывается овациями.
«Неужели конец? – спрашиваю самого себя, неохотно открывая глаза. – Так скоро?»
– А вот и он, – шепчет Грейс практически в самое ухо, а после ласково берёт меня за руку, словно обещая безмолвную поддержку.
И прежде чем я успеваю что-либо понять, на сцене появляется он. Нет, не так – Он!
Мой незнакомец.
Моё наваждение и моё же проклятие.
Я вздрагиваю, словно через моё тело проходит мощнейшая молния. А дальше все звуки и запахи, все отвлекающие шумы и лица вдруг перестают существовать. Весь мир растворяется, сужается до одной лишь точки, ярко освещённой прожекторным лучом – до Его прекрасного лица.
Как такое возможно? Это насмешка вселенной или подарок судьбы? Как человек, которого я так самозабвенно искал всё это время, мог сейчас стоять предо мною? На расстоянии всего нескольких ярдов. Сущий пустяк. Ничтожная малость по сравнению с целым Лондоном, но… но, клянусь, эти несколько ярдов ощущались бескрайним океаном, преодолеть который у меня не было никаких шансов.
Он стоял в самом центре сцены, в той точке, что обычно отводится солистам, и с лёгкой улыбкой разглядывал зал в ожидании, пока утихнет гул аплодисментов. А я в эти секунды испытывал совершенно неописуемые эмоции: от восторга, потому что наконец-то нашёл его и теперь ни за что не упущу, до неаргументированной здравым смыслом, неподконтрольной логике ревности, потому как глаза его блуждали по чьим угодно лицам, кроме моего.
И если бы в тот миг я был способен рационально мыслить и анализировать, я бы непременно задался вопросом, а знала ли Грейс, на чей концерт привела меня? Имела ли её инициатива выхода в свет дополнительные мотивы или сегодняшний концерт камерного оркестра был выбран случайным образом?..
О, если бы я мог об этом задуматься… Но я не мог. Не мог! Всё, о чём я мог думать – это его лицо. Всё, что я видел перед собою – его лицо. Всё, что я хотел ощущать – его лицо.
Он был везде: в каждом блике неяркого света, в каждом ударе моего сердца, в каждом вдохе… В тот миг он был для меня целым миром. Или мир был Им – не знаю.
А потом он поднёс скрипку к плечу, устроил подбородок на подбородник и медленно, словно на струнах спали бабочки, коснулся их смычком.
Я не слышал музыки. В тот вечер не слышал ни единого звука. Но, клянусь, я видел танец.
Словно одурманенный цыганской гадалкой, я был прикован к этому зрелищу: его плавные, грациозные движения опьяняли то своей лёгкостью, то уверенностью и дерзостью. Сосредоточенное лицо сменяло десятки или даже сотни эмоций – я чувствовал каждую из них! Глубочайшую скорбь, когда он смотрел куда-то вдаль, но не видел абсолютно никого, потому как на деле он вглядывался вглубь себя самого, в собственную душу. И по-детски наивную радость, что отражалась игривым прищуром его неземных глаз и озорной улыбкой дивных губ. Ещё была страсть с лихорадочным блеском. И боль, что бывает, когда теряешь самое ценное. А после он снова загорался каким-то странным, сжигающим и меня вместе с ним огнём, и мне казалось, что если бы кто-нибудь прямо сейчас осмелился поцеловать этого человека, непременно ощутил бы вкус острого перца на губах…
Он танцевал со своей партнёршей-скрипкой, снова и снова признаваясь ей в любви, а я боялся даже моргнуть, дабы не упустить ни секунды этого невероятного зрелища. Мои вспотевшие ладони самовольно сжимались в кулаки, а дыхание сбивалось, едва он отводил смычок в сторону и бросал взгляд в зал. Я чувствовал себя подстреленным фазаном, пойманной в силки лисицей, загнанной королевскими ловчими псами косулей, которую вот-вот подадут к столу. И это было потрясающее ощущение! Сегодня он вёл меня, а я слепо подчинялся. Он правил балом, а я волею судьбы оказался в числе приглашённых. Он задавал темп танца, а я покорно следовал за ним по пятам. Он…
Я не соврал, когда сказал, что не слышал ни единого звука. Его скрипка так и осталась безмолвной для меня, потому что я был сражён задолго до того, как его пальцы сомкнулись вокруг грифа. Быть может, это была какая-то защитная реакция моего организма? Нечто вроде инстинкта самосохранения? Потому что если бы тогда на меня обрушилось всё и сразу – и он сам, и его потрясающая игра – моё сердце вряд ли справилось бы с таким объёмом счастья, и я бы непременно испортил этот замечательный вечер своей преждевременной кончиной.
Но вот он делает несколько отрывистых, я бы сказал, даже агрессивных движений, после легко, почти невесомо касается струн, словно даруя прощальный поцелуй, и вдруг опускает инструмент. Улыбается и кланяется публике. Зал взрывается аплодисментами, гости встают со своих мест, что-то кричат и громко хлопают в ладоши, и я чувствую, как в мысли снова возвращаются и звуки, и голоса, и запахи… Грейс тоже встаёт и аплодирует, тянет и меня, но мои ослабевшие ноги отказываются подчиняться. Она смеётся и понимающе кивает.
– Невероятно, правда? Это было что-то совершенно невообразимое! Нет, мне говорили, что он – просто бог скрипичной музыки, но чтобы настолько… А эта симфония, Гарольд! В программке написано, что все исполненные произведения его же авторства! Уму непостижимо, какой талант!
Она продолжает аплодировать, в то время как я нахожу-таки в себе силы подняться, чтобы лучше разглядеть происходящее на сцене. Порядка двадцати музыкантов всё это время аккомпанировали ему и его скрипке, а я заметил их лишь теперь, да и то лишь потому, что он передал подаренный букет лилий какой-то альтистке.
Лилии… Он бы чудесно смотрелся посреди цветущего сада. Яркое лицо на фоне пышных бутонов и зелени. Да, пожалуй, стоит подумать и над таким сюжетом. А пока я должен перехватить его где-то в холле и сделать то, что намеревался сделать ещё три месяца назад.
Его лицо создано для моих пальцев. Да. Осталось лишь как-то сообщить об этом и ему…
Пока я ждал Грейс у дамской комнаты, гостей заметно поубавилось, однако их по-прежнему было слишком, слишком много! И у меня складывалось такое ощущение, что каждый из оставшихся норовил лично выразить мистеру Тёрнеру своё восхищение. Это раздражало. Раздражало и злило, потому что, глядя на эту возбуждённую толпу, я видел лишь помехи. Преграды на собственном пути к мистеру Тёрнеру.
Мистер Тёрнер… Кристофер Рой Тёрнер.
Теперь мне известны и его имя, и даже профессия, что значительно упростит дальнейшие поиски, если вдруг сегодня мне не удастся поговорить с ним лично.
Кристофер. Замечательное, гордое имя, словно созданное специально для него.
– Скучаешь, дорогой?
Отрицательно качаю головой и беру Грейс под руку, направляя в сторону бесконечной, как мне кажется, очереди желающих обмолвиться хоть парой слов с маэстро. Нет, я точно безумец, раз ненавижу каждого их этих совершенно незнакомых мне людей.
– Это был долгий концерт, – говорит Грейс, прижимаясь ко мне и обводя взглядом холл в поисках знакомых. – Долгий, но безумно интересный, правда? Живой, что ли… Знаешь, я заметила, что пока мистер Тёрнер играл, время словно перестало существовать. Раньше мне было сложно досидеть до конца, но сегодня… это что-то невероятное, согласен?
О, я был более чем согласен! Мне и самому показалось, что от момента, когда я увидел его, и до финального взмаха смычком прошло не более одного вдоха. Всего пара секунд блаженства… Поэтому я был изрядно удивлён, когда публика сорвалась со своих мест, извещая об окончании концерта. Счастье всегда так ощущается, не правда ли? Сколько бы его ни было, оно ощущается как один миг.
– О, нет… Только не он, – шепчет Грейс, крепче сжимая мой локоть. – Виконт Монтини, Гарольд. И он идёт к нам. Сделай что-нибудь, иначе я… О, вы тоже всё ещё здесь, виконт? Чудесный вечер, не так ли? Как вам труппа?
Я не особо вслушивался в их беседу, прекрасно зная, что моя Грейс справится сама. Она только с виду хрупкая, изящная и воздушная, на деле же это сильная женщина с волевым характером. Умная, а в чём-то даже мудрая. Гораздо мудрее меня. И пока она приняла на себя всё нежелательное внимание виконта, я в нетерпении сверлил взглядом спины тех, кому уже выпала честь познакомиться с мистером Тёрнером.
– Ты слышишь, Гарольд? Наш дорогой виконт Монтини является одним из меценатов Ковент-Гардена, и он только что любезно согласился без очереди провести нас к мистеру Тёрнеру. Какая удача, милый!
Сложно представить, но в тот миг я готов был расцеловать этого наглого, слащавого и лицемерного старика. Впрочем, о своём внезапном порыве я забыл практически мгновенно, потому как, тенью следуя за виконтом, мы с Грейс достаточно ловко и быстро просочились сквозь толпу и предстали перед мистером Тёрнером и ещё парой его коллег.
– Прошу прощения, что мы вне очереди, – ехидно хохотнул виконт, в очередной раз козыряя статусом, – но эти люди достойны того, чтобы в числе первых выразить вам своё восхищение, любезнейший Кристофер. Прошу, знакомьтесь: это известный на всю Англию, да и далеко за её пределами, чего уж лукавить… скульптор мистер Гарольд Джеймс Уокер со своей очаровательной супругой Грейс. А это, дорогие господа и милая леди, наш обожаемый, но практически неуловимый скрипач-виртуоз мистер Кристофер Рой Тёрнер. Ну, а меня вы все знаете…
Последнюю шутку виконта никто не оценил. Словно завороженный, я смотрел, как великолепные губы изогнулись в искренней улыбке и как спустя секунду коснулись обтянутой перчаткой руки моей супруги. И как сразу же после этого серые, льдисто-серые глаза скользнули и по моему лицу.
– Это честь для меня, – мягко произнёс Кристофер, глядя то на Грейс, то снова на меня, – что такие уважаемые люди разделили этот вечер со мной и моей скрипкой. Очень рад знакомству.
И пожал мне руку. Так неожиданно, но так естественно, что у меня снова перехватило дыхание. Представляю, как это смотрелось со стороны… Я стоял прямо перед ним и глупо хлопал глазами, словно какая-то барышня. Господи, какой позор!
– Мы с Гарольдом просто в восхищении, мистер Тёрнер! Это было нечто невообразимое, правда, дорогой?
Продолжая нелепо и совершенно неуместно пялиться, я не без труда кивнул, отчего мистер Тёрнер как-то странно прищурился.
– Мы с супругом часто посещаем концерты и подобные мероприятия, но, поверьте, таких эмоций у нас не вызывало ни одно представление, – Грейс снова пришла мне на помощь.
– В таком случае, это высшая из возможных похвал, миссис Уокер. От всей души благодарю вас и вашего супруга. И, если позволите, тоже выражу своё восхищение. – На мою приподнятую в недоумении бровь он лишь усмехнулся. – Ваши работы, мистер Уокер. Я видел ваши работы в музеях Рима и Парижа, а также в нескольких частных коллекциях. И, не кривя душою, смею признать, что они гениальны.
– О, чего только стоит мой портрет, правда, Кристофер? – в беседу снова нагло вклинился виконт Монтини. – Какие краски, какие линии… наш Гарольд покорит весь мир!
– Вне всякого сомнения, – поддержал его мистер Тёрнер, добродушно улыбаясь, и я снова почувствовал, как потеют ладони.
Он меня знает. Знает! Он видел мои работы, наслышан о моих успехах и теперь лично знаком со мною, а это значит, что мои шансы гораздо возросли. Осталось лишь прекратить молчать как полный кретин и договориться, наконец, о совместной работе.
– Прошу меня простить, дорогие мистер и миссис Уокер, виконт, друзья… Вынужден откланяться. Это был великолепный вечер, и я безумно рад новому приятному знакомству, но мне, к сожалению, пора.
Он скривился так, словно слова причиняли боль. Хотя на деле всё обстояло ровно наоборот: больно делалось мне. Я снова упустил свой шанс. Не успел. Не сумел заставить себя открыть рот, и теперь он спешно целует руку моей Грейс и прощается, а я… Что ж, быть может, это и к лучшему. Не хотелось бы делать столь важное для меня предложение в присутствии виконта Монтини и совершенно незнакомых людей. У меня ещё будет шанс. Будет, я уверен. Причём довольно скоро. А пока… пока мне стоит переварить события минувшего вечера и привести мысли в порядок, чтобы при следующей встрече произвести максимально положительное впечатление.
– Кристофер, дорогой, ну куда же ты так рано? – елейным тоном протянул виконт, фамильярно хватая мистера Тёрнера под локоть. – У нас ещё столько времени! Может, выпьем вина или поужинаем где-нибудь в ресторанчике на Мэрилебон?
– Не сегодня, сэр, не сегодня, – мягко отрезал Тёрнер, ловко высвобождая руку из цепких пальцев виконта. – Увы.
Ещё раз обведя всех нас добродушным взглядом, он улыбнулся, кивнул на прощание и поспешил к лестнице.
А я вдруг поймал себя на том, что испытываю постыдное, недостойное мыслей порядочного джентльмена желание переломать Монтини все пальцы.
– Что ж, нам тоже пора, – сказала Грейс и потянула меня к выходу, пока виконт не опомнился. – Я очень устала. Доброй ночи, мистер Монтини.
***
Домой мы попали только спустя два с небольшим часа. Прогуляться вечерними улицами оказалось верным решением: разогретая за день брусчатка щедро делилась остатками тепла, а поздний закат оказался на удивление красочным. Сиреневое небо неторопливо делалось серо-чёрным, широкими перьевыми мазками впитывая подступающую ночь. И первые звёзды жёлтыми совиными глазами засияли лишь ближе к полуночи.
Грейс молчала практически всю дорогу, прекрасно изучив меня за годы совместной жизни и теперь давая мне время побыть наедине с собою, при этом не выпуская моей руки. И, я был в этом уверен, моё молчание не тяготило её. Она как никто знала мои потребности и чувствовала настроение. И всегда давала мне именно то, что нужно в конкретный момент времени.
А нужно мне было лишь одно: поскорее прийти в себя и оказаться в мастерской, где бы я смог нарисовать уже полноценный портрет мужчины, с которым общался лицом к лицу. Со всеми деталями. С настоящими, живыми, а не выдуманными глазами. С искрящимися эмоциями глазами, в которых сегодня отражалось так много. Так чертовски много, что и жизни не хватит, чтобы воспроизвести на холстах всю глубину и гамму чувств.
Я смотрел в чернеющее небо, а видел прозрачный серый блеск тающих ледников в обрамлении густых угольно чёрных ресниц. Я сжимал руку супруги, а другой неосознанно поглаживал карман, в котором покоилась бумажка с адресом фотографа. Настоящая удача, что мои убедительные речи и заверения в щедром материальном вознаграждении возымели должный эффект – к завтрашнему полудню он обещал напечатать для меня несколько фотографий мистера Тёрнера, которые успел сделать после концерта. Ещё один недостойный поступок в копилку моих грехов, но что поделать? Удержаться было выше моих сил. Как представлю, что рисую не по памяти, а с натуры (пусть всего лишь со снимка), голова идёт кругом, и пальцы дрожат в предвкушении.
– Ты ведь знала, – снежным комом срывается с языка прежде, чем мысль успевает сформироваться. – Ты знала, что это он.
– Знала, – шепчет Грейс, останавливаясь и глядя мне в глаза. – Любой бы узнал его, дорогой. Любой кроме тебя.
С выражением полного недоумения разглядываю её довольное лицо.
– Афиши с его именем на каждом шагу. А на некоторых из них даже его лицо. Ошибиться было сложно, знаешь ли. Тем более, когда ты рисуешь его днями и ночами, и этими рисунками завален весь наш дом.
– Грейс…
– Я взяла один из твоих рисунков и сходила в кассу. Там мне и подтвердили, что это и есть мистер Кристофер Тёрнер. Имея привилегию носить твою фамилию, достать билеты было несложно. Ты бы тоже заметил афиши, если бы хоть иногда смотрел по сторонам, а не буравил взглядом толпу. Оглянись, Гарольд, он повсюду! Столбы, стены домов, доски объявлений… Твой Кристофер всё это время был совсем рядом, дорогой.
Мой Кристофер…
Из её уст это прозвучало так неправильно.
И так чертовски правильно! Мой Кристофер. Да. Мой Кристофер.
Так он и будет называться – мой лучший, мой грандиозный портрет. Работа всей моей жизни.
– Так что я просто взяла на себя смелость побыть твоими глазами, пока сам ты…
Я поцеловал жену. Прямо посреди улицы обхватил её лицо ладонями и поцеловал.
– Спасибо. Ты мой ангел, Грейс. Мой ангел.
Её звонкий смех переливами крохотных серебряных колокольчиков разнёсся по улицам уже спящего Лондона.
– Мой ангел…
***
Следующее утро оказалось одним из лучших в моей жизни. А всё потому, что я наконец успокоился. Совсем. Завтракая в компании жены и сына, я впервые за уже очень долгое время искренне наслаждался их обществом, а не норовил поскорее впихнуть в себя еду и сбежать в мастерскую. Я улыбался, играя с Логаном на ковре в гостиной. Я смеялся, когда Грейс вслух читала последнюю страничку новостей какой-то газетёнки сомнительного качества. И я был счастлив провести с ними каждую минуту вдруг освободившегося времени! Это было похоже на вызволение из неволи. Как будто раньше вокруг моей шеи была завязана верёвка с неподъёмным грузом, тянущим меня вниз и не позволяющим думать ни о чём ином, кроме одной-единственной мысли. А теперь мне стало легко и свободно. Груз испарился, верёвка оборвалась. И всё потому, что я нашёл его. А это значит, что впереди целый океан возможностей, реализовывать которые я начну прямо сегодня вечером. А пока… пока у меня есть достаточно времени и сил, чтобы просто побыть с семьёй, ни о чём не думая.
Я был расслаблен и ближе к обеду, когда уже стал задумываться о выборе костюма для предстоящего вечера. Тревоги не было. Было лишь сладкое ожидание и трепетное предвкушение, но это приятные ощущения. Не изматывающие, а напротив продлевающие удовольствие. Чем-то напоминало детские воспоминания об ожидании у раскалённой печи, когда весь день помогал матушке замешивать тесто и лепить булочки, вырезать бумажные трафареты для печений, а после выдавливать фигурки из теста, а теперь все плоды наших трудов оказались на огне, и мне лишь оставалось дождаться результата. Я наслаждался каждой минутой ожидания, не подгоняя ход времени и прекрасно понимая, что эти минуты – настолько же важные ингредиенты, как мука или сахар.
Сейчас происходило нечто похожее. Я ждал, наслаждаясь самим ожиданием.
И едва часы пробили пять вечера, я облачился в свой любимый костюм глубокого чёрного цвета, попрощался с Грейс и Логаном и направился в сторону небольшого стихийного рынка. Там, в одной из лавчонок с неприметной вывеской меня уже поджидал фотограф. Принимая от него конверт из неприятной как на вид, так и на ощупь, грубой бумаги рыжего цвета, я щедро расплатился и напомнил, что о нашей крохотной «сделке» никто не должен узнать.
Уже спустя пять минут я оказался в крохотном глухом переулке, где помимо меня был лишь чумазый мальчонка с пробитым мячом да его рыжий лохматый пёс. И только тогда я дал волю охватившему меня возбуждению: доставая конверт из внутреннего кармана пиджака, я больше не пытался подавить дрожь в пальцах или замедлить учащённое дыхание. Я понимал, что только что сам себе сделал огромный подарок. Устроил Рождество в середине августа. И да, это было восхитительное ощущение! Как тогда, когда матушка наконец показывала мне результат наших с ней трудов на кухне.
В конверте было семь снимков, хотя мы договаривались всего о пяти. Но эта деталь моментально испарилась из мыслей, едва я поближе взглянул на первую же фотографию. Мистер Тёрнер на сцене. Высокий и стройный, он держал в руках скрипку и улыбался публике. Широкий луч направленного света мягко обтекал его силуэт, словно вторая кожа, и без того тёмные волосы делая иссиня чёрными с местами рассыпанными в них светлыми бликами. Признаться, я не ожидал такого качества снимка от обыкновенного случайного фотографа. Или это большая удача, или парень действительно талантлив, но пока не смог проявить себя в качестве специалиста для крупных изданий.
Быстро просмотрев остальные снимки, я не без удивления отметил, что на одном из них он сумел запечатлеть нас обоих – меня и мистера Тёрнера – в момент нашего знакомства. Глядя на себя со стороны, я сглотнул: щенячий восторг в глазах, граничащий с беспрекословной преданностью хозяину – вот что я увидел в первую очередь. Какая-то неописуемая, маниакальная одержимость человеком, вырвавшаяся за пределы моей мастерской и выплеснувшаяся на объект обожания. Неужели вчера я действительно так выглядел? Неужели я выглядел так и все три минувших месяца? И как, чёрт возьми, Грейс всё это выдержала?! А Кристофер? Что чувствовал он, видя меня – совершенно незнакомого человека – таким? Ведь не заметить столь явное проявление заинтересованности было практически невозможно.
Меня слегка затошнило, и я торопливо убрал снимки обратно в конверт, а его спрятал во внутренний карман пиджака.
«Там ему самое место, – подумал я, выходя из переулка и возвращаясь на рынок. – Будешь разглядывать эти снимки дома, длинными и пустыми ночами, сидя в своей мастерской и рисуя по фотографиям, потому что какой нормальный человек согласится на работу с тобой после того, как ты так… Господи, какой позор, Гарольд! Ты, вероятно, напугал его. Ну, или как минимум, смутил. Возьми себя в руки!»
Я гулял по рынку без четверти час, разглядывая лавки с продовольствием и пытаясь успокоить галопом скачущие мысли. А после сделал поступок, кардинально противоречащий принятому решению – я купил хризантему в горшке. Ещё не распустившую бутоны и не ставшую ароматным жёлтым шаром, но в тот момент мне вдруг подумалось, что из всего буйства цветов выбрать следует именно её.
Я шёл по улицам с гордо поднятой головой, к груди прижимая небольшой горшок, и больше не испытывал уколов совести. На концертах принято дарить цветы. Я не делаю ничего предосудительного. Это абсолютно нормально. Я нормален.
В гостеприимно распахнутые двери парадного входа Ковент-Гардена я вошёл за десять минут до начала концерта. Права была Грейс: обладая фамилией Уокер, достать билет оказалось значительно проще. Но вот с получением билета в первый ряд проблема всё же возникла. Впрочем, чего не может решить фамилия, то вполне решаемо с помощью денежных средств.
Поэтому к моменту, когда в зале приглушили свет, я уже вполне комфортно расположился в первом ряду и был готов не просто смотреть концерт, но и слушать его. Собственно, за этим я сюда и подался. Один. На сей раз один. Я хотел услышать игру мистера Тёрнера. Хотел не только наблюдать за его движениями, но и слышать звуки, которые эти движения порождают.
Как же я ошибся! О, Творец Всевышний, как слеп я был всё это время! Как непозволительно тщеславен и эгоистичен!
Едва первые стоны его плачущей скрипки мольбою разнеслись по залу, я в полной мере осознал всю скудность собственного мышления. Все эти месяцы… дьявол, все чёртовы месяцы я ни разу не задумывался о том, какой он человек. Удивительно, но эта мысль даже не пришла мне в голову. Я смотрел на него только как на идеальную фактуру, как на красивое лицо, как на… как на вещь. А теперь вдруг осознал, что он – человек. Из плоти и крови. Из мыслей и чувств. Из талантов и изъянов. Он живой. Живой!
У него есть характер и чувства. Есть мысли и фантазии. Есть что-то, вызывающее на его лице улыбку и заставляющее хохотать во всё горло, как может лишь ничем не обременённый юнец. А есть какие-то пережитые трагедии и драмы, превращающие это поистине ангельское лицо в обитель печали… Столько всего! Господи, столько всего таится в его хрупкой, чуткой душе, а я как последний кретин думал лишь о внешности.
Это открытие поразило меня до глубины моей чёрствой, как оказалось, души. В те щедро наполненные божественно откровенной музыкой мгновения я разрывался между восхищением им и омерзением к себе. И это было единственное, что портило этот прекрасный вечер.
Душа… Теперь уже она, его душа, стала моей новой одержимостью. Я хотел узнать этого человека от начала и до конца. Прочесть словно открытую книгу. Испить до самих основ! Изучить его жизнь как свою собственную. Мне нужно, нужно было знать, что его радовало, а что печалило. О чём он думал, когда писал свои гениальные произведения, а о чём – когда исполнял их перед нами.
Передо мною.
Вокруг каких образов кружили его мысли, когда он закрывал глаза и растворялся в собственной игре? И видел ли он меня, когда эти невероятно пронзительные глаза открывались, а губы трогала тень улыбки?..
О, он смотрел в зал. Часто. И делал это так, словно норовил каждого из присутствующих сделать частью звучащего произведения. По крайней мере, так это ощущалось мною.
Исповедь его скрипки я бы мог слушать вечно, но… но когда зал взорвался овациями, я вскочил одним из первых, едва не обронив горшок с хризантемой. Он улыбался и разглядывал довольных гостей, и на миг, всего на один коротенький миг его лицо застыло. Боюсь делать какие-либо предположения, но мне показалось, что это случилось именно тогда, когда взгляд серых глаз мазнул по моему лицу.
В этот раз не было ни виконта Монтини, ни кого-либо другого, кто мог бы в считанные секунды провести меня к мистеру Тёрнеру, поэтому я терпеливо ждал, пока очередь испарится, одинокой тенью стоя в самом дальнем углу. Но это ожидание не тяготило: я наслаждался им, как утром наслаждался общением с семьёй. Ждать всегда приятно, когда знаешь, что ожидание непременно будет оправдано.
Я как раз наблюдал за беседой мистера Тёрнера с каким-то достопочтенным джентльменом, когда он внезапно вздрогнул, будто почувствовав на себе мой взгляд, и посмотрел мне прямо в глаза. Молния прошла сквозь всё моё тело – вот что это было. Три долгих секунды непрерывного контакта. Глаза в глаза. Душа в душу.
А после он наклонился к своему собеседнику, что-то шепнул ему в самое ухо, при этом дружелюбно похлопывая по плечу, и устремился прямиком ко мне.
Что ж, вот он – мой шанс. Тянуть больше некуда.
Крепче сжав горшок, я попытался максимально расслабиться и как минимум не опозориться, как это случилось вчера.
Хризантема в горшке? Ну и пусть! Пусть я буду не понят или высмеян. Пусть! Но всё равно сделаю задуманное. Попытаюсь сделать, иначе…
– Мистер Уокер! Надо же, какой сюрприз… Второй вечер подряд. Настолько цените игру на скрипке?
– Настолько ценю вашу игру, мистер Тёрнер. Добрый вечер.
Он подошёл практически вплотную, спиною закрывая нас ото всех и улыбаясь так естественно, что я мгновенно расслабился.
– О, так вы ещё и разговариваете! Признаю, этот вечер полон сюрпризов, – и рассмеялся легко и непринуждённо, а я, видимо, покраснел вплоть до корней волос.
– Да… Прошу простить мне моё вчерашнее…
– Да бросьте, – прервал он мои извиняющиеся речи. – С кем не бывает? Ерунда.
– Да уж… Благодарю за понимание.
– Как ваша милая супруга? Надеюсь, в добром здравии? Кажется, я не имею удовольствия наблюдать её сегодня.
– Грейс дома, мистер Тёрнер. С нашим сыном. Но она просила передать вам наилучшие пожелания. Вчера мы ещё долго обсуждали вашу невероятную игру и удивительный талант.
– Приятно слышать, дорогой друг. Очень и очень приятно. Кстати, обращайтесь ко мне по имени.
– О… Я не думаю, что это…
– Зовите меня Кристофером. Я настаиваю.
– Что ж, моё имя вам известно, Кристофер.
Я улыбнулся, а он потянулся пожать мне руку в честь нового, теперь уже неформального знакомства, но пальцы его застыли над горшком с хризантемой, на который теперь смотрел и я тоже.
– О, – выдохнул он, приподнимая бровь. – Не с супругой, так с цветами?
Я едва не рассмеялся во весь голос – настолько откровенным и простым в общении оказался мистер Тёрнер. Кристофер.
– Это вам. Я подумал… На самом деле я не думал вовсе. Просто гулял по рынку и забрёл в цветочную лавку. Каких только цветов там не было, но я почему-то выбрал именно этот. Это был порыв, мистер Тёрнер. То есть Кристофер. Я просто… не знаю. Захотелось подарить вам именно хризантему. Вот.
Он принял горшок из моих рук с серьёзнейшим выражением лица, несколько секунд разглядывал ещё плотно закрытые, недозревшие бутоны, а после посмотрел мне в глаза:
– Порыв – лучшее, что может быть, Гарольд. Благодарю.
– Вам… это значит, что вам нравится?
– Очень.
На самом деле я был готов к любому ответу. Даже к тому, что он рассмеётся мне в лицо и откажется принимать горшок. Или что из вежливости возьмёт, но оставит где-нибудь в коридорах или подарит кому-нибудь из труппы, но сейчас, глядя, как он прижимает цветок к дорогому костюму и с какой нежностью в глазах разглядывает зелень, я понял, что ошибся – Кристофер заберёт хризантему домой. И будет ухаживать за ней до тех пор, пока она не расцветёт пышным ярко жёлтым шаром.
– Очень, – повторил он шёпотом, снова поднимая взгляд на меня.
Я откашлялся.
– На самом деле, Кристофер, я здесь не только затем, чтобы ещё раз насладиться вашей великолепной игрой. Я… Нет, вы не подумайте, ваш концерт был поистине божественен и он, безусловно, достоин наивысших похвал…
– Продолжайте, – шепнул он, явно подталкивая меня в верном направлении.
– Для вас не секрет, чем я занимаюсь, – он кивнул. – И я как раз был в поиске подходящей фактуры, чтобы… чёрт, а это сложно. Прошу прощения. Я пытаюсь сказать вам, что… что хотел бы написать ваш портрет и в будущем создать скульптуру. Или бюст. Или статую. Или всё сразу.
Его лицо снова застыло, превращаясь в каменную маску, и я поспешил объясниться:
– Поймите меня правильно: ваше лицо не может оставить равнодушным. И я, как человек, привыкший замечать такие детали, не мог пройти мимо и не заметить эти высокие скулы и удивительную линию челюсти. И нос… И губы. И глаза. Я… Я прошу вас не отказывать мне сразу, а хотя бы подумать. Это…
Он моргнул и перевёл взгляд на хризантему. А я испытал страх. Настоящий животный ужас, потому что только что, кажется, обидел его своей прямолинейностью и наглостью.
– Мистер Тёрнер. Кристофер, я…
– Прошу прощения, но мне нужно идти, – он по-прежнему смотрел в густую зелень. – Это был сложный вечер, поэтому…
– Кристофер! – это прозвучало громче допустимого, но зато он моментально поднял взгляд. – Мне жаль, если я неправильно выразился или…
– Я вынужден уехать в Прагу.
– О…
– Завтра, – он снова улыбнулся, но в этой улыбке не было и следа веселья. Лишь глубокая-глубокая печаль. – Огромное спасибо, что сочли нужным ещё раз посетить моё выступление и… и за хризантему тоже спасибо. Мои наилучшие пожелания вашей супруге.
Он поспешил прочь столь стремительно, что я даже не успел осознать, как быстро всё закончилось. Вот ещё секунду назад у меня была мечта, а теперь… теперь я потерянно смотрю в торопливо удаляющуюся спину и ещё не понимаю, как переживу сегодняшнюю ночь. Как буду жить дальше? Все эти годы… зная, что где-то там есть человек с безупречным лицом и невероятно красивой душой, а я, будучи таким невеждой, столь бесцеремонно потоптался по его чувствам.
Нечто липкое и омерзительное обволокло моё сердце, не давая ему биться в полную силу.
Но прежде чем я с головою окунулся в охватившее отчаяние, удаляющийся силуэт вдруг замер. А после оглянулся.
Несколько секунд Кристофер смотрел мне в глаза, будто пытаясь прочесть какие-то ответы на лишь ему известные вопросы, а после сказал громко и чётко:
– Я вернусь в октябре, Гарольд. В середине октября. Готовьте кисти.
И подмигнул, моментально возвращая моей жизни краски.
Глава 3
24 октября, 1901 год
Стоя у окна в мастерской и в нетерпении теребя кружевную занавеску, я с жалостью наблюдал за случайными прохожими, чьи одежды были перепачканы грязью до самих коленей – настолько щедрой на дожди выдалась нынешняя осень. Заливать начало ещё в конце сентября, но тогда никто и представить не мог, на что вскоре станут похожи наши улицы: сплошная рана на теле Лондона. Кровоточащая, чуть подсыхающая зыбкой корочкой призрачного излечения и вдруг снова начинающая кровоточить. Больно смотреть, ей-богу! Повсюду жижеподобное болото с редкими проблесками брусчатки на возвышениях. И, что наиболее печально, лишь самые отчаянные кэбмены решались выводить своих лошадей в такую погоду. Оно и не удивительно: кому захочется барахтаться в грязи в надежде угодить паре-тройке клиентов, но при этом ежесекундно рискуя то отлетевшим колесом, то перевернувшимся экипажем, а то и вовсе подвернувшей ногу лошадью? Когда небо льёт и льёт свои нескончаемые воды, жизнь в Лондоне замирает. Этот факт остался бы незамеченным мною, если бы сейчас, конкретно в эту минуту, я не сверлил взглядом полупустую улицу, высматривая долгожданный экипаж.
Сегодня. Подумать только: сегодня Кристофер Тёрнер впервые переступит порог моей мастерской, и мы наконец-то приступим к работе. К долгим месяцам, а быть может, и годам тесной, кропотливой работы. Едва я впускаю эту мысли в глубины своей пропащей души, как внутренности мои скручиваются тугим узлом, а пальцы мёртвой хваткой впиваются в накрахмаленные занавески, оставляя не эстетичные заломы и складки на хрустящей ткани.
Раньше такого не бывало… Ни разу! Ни с одной из натурщиц. Ни с одним вельможей. Даже наша дорогая королева Виктория, мир её праху, не вызывала во мне и десятой части того волнения и трепета, что я испытываю сейчас, ожидая прибытия мистера Тёрнера.
А ведь это будет уже третья наша встреча за последние десять дней.
Помню, в то утро, ровно две недели назад, я сидел в гостиной у камина и наслаждался приятным теплом греющей пальцы чашки ароматного чая, когда дверь тихонько отворилась, и в комнату вошёл замурзанный мальчонка лет восьми. Глаза его блестели любопытством и восхищением, пока он неверяще оглядывал дом, и я понял, что раньше парнишке не доводилось бывать в подобных местах. А после, спохватившись и покраснев, он шмыгнул носом и подлетел ко мне, вручая письмо. Вернее, то была записка. Записка всего из пары предложений, которые, впрочем, мгновенно зажгли во мне нечто, напоминающее воспоминания о только что полученном самом желанном рождественском подарке. Парнишка неловко потоптался на месте, рассматривая камин и статуэтки, хранящиеся на нём, после чего снова громко шмыгнул носом и попятился прочь. Грейс попыталась всунуть ему монетку, но он отшатнулся, как от огня, промямлив что-то о том, что мистер Тёрнер уже всё оплатил, поэтому наш дом мальчонка покинул, прижимая к груди два больших апельсина и грушу.
«Дорогой мистер Уокер,
Спешу сообщить, что вчера вечером я вернулся в столицу. Если вам всё ещё интересна та затея с портретом (или скульптурой, или бюстом, или…), дайте мне знать. Уже к концу недели я надеюсь закончить все свои дела и смогу всецело посвятить себя работе вместе с вами.
Адрес для ответа указан с обратной стороны.
С уважением, Кристофер Рой Тёрнер»
– Он согласен. Он всё ещё согласен, – снова и снова повторял я, глядя то на лист бумаги в своих пальцах, то на улыбающуюся Грейс.
– В таком случае, дорогой, тебе придётся изрядно попотеть над уборкой.
– Что, прости?
– Твоя мастерская, Гарольд. Она похожа на музей, посвящённый личности одного-единственного человека. Придётся поснимать все те рисунки и наброски, которые у тебя вместо стен. Ты же не хочешь спугнуть мистера Тёрнера в первый же день?
– Ох, точно… Об этом я не подумал.
Мастерская… Да, за это время она действительно стала похожа на музей – моя Грейс обладает даром подбора удивительно точных определений. Помню, в тот вечер, вернувшись с концерта и вдоволь изучив полученные снимки, я ночью же избавился от всех своих прежних работ. Одним махом. Без сожаления или ностальгии. Просто сгрёб всё в коробки и отнёс на чердак. А картины убрал в сундуки, даже не потрудившись завернуть полотна должным образом. Мне было не до этого. Я освобождал место для новой грандиозной работы. Как в своей мастерской, так и в мыслях…
С тех пор и вплоть до этого момента кисть практически не покидала моих пальцев – столь вдохновённым я себя ощущал. И вот теперь, когда долгожданный момент наконец-то приблизился на расстояние вытянутой руки, я испытал страх. Настоящий ужас, если быть максимально точным. Ведь увиденное может действительно напугать мистера Тёрнера. Спугнуть и отвадить прочь, а я даже не успею объясниться… Да и есть ли что объяснять? Картина вполне ясна и говорит сама за себя: свихнувшийся художник окружил себя сотнями эскизов лица, которым бредит вот уже который месяц. Что тут ещё добавить? Любой бы как минимум насторожился. А то и покрутил бы пальцем у виска и бесследно исчез.
Поэтому, дабы не допустить чего-то подобного, я с тщательностью и кропотливостью приступил к уборке. Аккуратно сложенные и упакованные, портреты Кристофера отправились в библиотеку, а в мастерской осталось лишь три эскиза. Три карандашных наброска. На первом мистер Тёрнер был изображён со спины в день, когда я подглядывал за ним, прячась в ивовых ветвях. Второй изображал лишь глаза, а третий – анфас с зажатой между плечом и подбородком скрипкой. Ничего необычного. Ничего пугающего.
Мастерская была полностью готова к приёму гостя. А я… я стал рисовать в библиотеке, дабы во время изнуряющего ожидания снова не превратить только приведенную в божеский вид комнату в нечто отталкивающее.
Наша первая встреча произошла в небольшой кофейне на окраине, где мне ранее бывать не доводилось. Признаться, я был удивлён выбором места не меньше, чем после был удивлён собственными впечатлениями. Крохотная вывеска на куске потрескавшегося дерева, противный скрип несмазанных дверных петель, встречающий каждого посетителя, и отсутствие даже намёка на брусчатку – таким я увидел это место и моментально задался вопросом, чем же оно могло привлечь мистера Тёрнера, чтобы он пригласил меня именно сюда?.. Но едва нам подали кофе, а после и те ароматные, ещё горячие булочки с дымным запахом дровяной печи и плавящимися на них ломтиками козьего сыра, как все вопросы отпали сами собой. А Кристофер тем временем наблюдал за моей реакцией и улыбался.
– Настоящее сокровище не требует красивой упаковки. Разве наличие дорогой обёртки сделает конфету вкуснее? – спросил он тогда, и я впервые в жизни задумался о чём-то подобном.
Мы говорили о предстоящей работе. Вернее, говорил по большей части я, а он внимательно слушал и изредка вставлял вопросы. Я рассказал о том, как происходит процесс создания картины – от грунтовки полотна, фона и эскизов и вплоть до финальных штрихов двенадцатого слоя. После упомянул и техники работы с глиной, и даже рассказал о сечении по мрамору с последующей шлифовкой.
А он в это время смотрел на меня с немым восхищением в глазах, и пусть всего на миг, но тогда я увидел в нём собственное отражение. Таким, вероятно, я выглядел на его концерте.
Мы выпили по две чашки кофе и перекусили замечательной домашней выпечкой, когда настало время прощаться. Ливень не оставил шанса на прогулку, поэтому для меня поймали кэб, а он остался перекинуться парой слов с владелицей кофейни. Из обрывков их фраз я понял, что мистер Тёрнер частенько наведывается в это место, а когда такой возможности не представляется, он заказывает доставку булочек на дом.
О месте следующей встречи условились заранее. Вернее, это уже была моя инициатива. Если в первый раз «угощал» Кристофер, то теперь я взял бразды правления на себя.
По сути, в этой второй встрече не было нужды. Мы могли бы уже приступить к работе в моей мастерской, но мне отчего-то захотелось узнать этого человека получше. Провести вместе ещё немножко времени, наслаждаясь этим периодом «подготовки».
И да, Господи, да, уже тогда я понимал, что хотел бы стать другом этому великолепному человеку. Другом, приятелем, кем-то близким, а не просто случайным художником-скульптором, образ которого сотрётся из памяти, едва совместная работа будет окончена. Эту мысль я гнал прочь всеми фибрами своей души.
Музей мадам Тюссо. Вот куда я пригласил мистера Тёрнера в нашу вторую встречу. Этот вид искусства был мне близок, однако не нашёл достаточного отклика в душе. Я мог рассматривать восковые фигуры и даже восхищаться некоторыми из них, но в целом они меня пугали. Пустые куклы. Без чувств. Без эмоций. Такими я их видел, и мне хотелось узнать, какими они покажутся Кристоферу.
Кабинет ужасов. Всемирно известная коллекция. Я видел её уже трижды, однако всё равно не мог сдержать отвращения, гуляя рядами жестоких убийц и кровожадных, на весь мир знаменитых преступников. Отдельно от них были представлены и жертвы французской революции. Их изувеченные тела и застывшие в безмолвном крике или болезненном стоне лица вызывали какие угодно эмоции, кроме равнодушия. Ужасающее зрелище. Нет, правда. Если остальные фигуры были лишь копиями известных людей – посмотрел и пошёл дальше, то Кабинет ужасов вполне оправдывал своё название.
Проходя мимо мученика, на долгие годы застывшего на пыточном стуле инквизиции, я ощутил приступ тошноты. И тут же почувствовал тяжесть ладони на своём плече.
– У каждой эпохи своё бремя, Гарольд. Не чума, так война. Не война, так голод.
– Да, но это… это так глупо. Так жестоко и бесчеловечно!
– А что человечного в войнах? В гибели чрезмерно патриотичных ребят, верящих в свою цель и беспрекословно исполняющих приказы командования? Разве не жестоко посылать их на верную смерть, оставляя за их спинами пустующие дома с одинокими матерями и жёнами? Скольким из них посчастливится обнять своих сыновей ещё хотя бы раз? Любая война, дорогой друг, не более чем битва амбиций между правителями. Спор двух не поделивших территории, деньги или власть, людей. А солдаты… они лишь марионетки. Восковые фигуры в руках скульпторов со свечами. Простите за сравнение. Я веду к тому, что наша повседневная жизнь полна ужасов. А это… это не более чем один из фрагментов пережитой жестокости.
Печально улыбнувшись, он двинулся в сторону выхода, а я, сбитый с толку и немного пристыженный, теперь взглянул на коллекцию мадам Тюссо иными глазами. Да, это страшно. Но Кристофер тысячу раз прав – это не более пугающе, чем, скажем, тело израненного солдата с оторванными ногами, над которым склонилась голосящая мать. Или ангелоподобный младенец с биркой на крохотной ножке. Или изувеченный каким-то недоноском пёс со спущенной шкурой.
Мир полон ужасов – святая правда! Однако и прелестей в нём не меньше…
Как, например, ожидающий меня у входа человек, чья светлая улыбка даже в этот дождливый октябрьский день освещает мрачную, грязно-серую улицу.
– Похоже, я ошибся с выбором места для встречи, – с горечью в голосе отметил я, подходя к Кристоферу.
– Почему же? Мне очень даже понравилось. Это была занимательная, я бы даже сказал познавательная прогулка.
– Да, возможно. Но это место оставляет горькое послевкусие. Мне следовало подумать об этом раньше. Сожалею.
– С чего вы взяли, милейший Гарольд, что послевкусие непременно должно быть сладким? Где такое написано? Я испытал определённые эмоции, и это самое главное. А позитивны ли они или, напротив, отрицательны, значения не имеет. Они есть, а это означает лишь одно – прогулка удалась.
Я вспоминал эти слова с улыбкой и лёгким трепетом в душе и едва не пропустил подъехавший к поместью кэб. Подумать только: ждал его всё утро, а сейчас вздрогнул так, словно испытал наибольшую в жизни неожиданность.
Мистер Тёрнер показался не сразу, а в руках у него была какая-то коробка. Расплатившись с кэбменом и игриво потрепав лошадь за гриву, он направился в сторону крыльца, где его уже дожидалась одна из наших экономок в компании моей Грейс.
Не без усилий, но мне всё же удалось разжать пальцы и отпустить-таки многострадальную занавеску. Три глубоких вдоха, и вот я иду к лестнице встречать дорогого гостя.
Но то, что открывается взору уже спустя минуту, вводит меня в состояние глубочайшей растерянности. Логан, мой малыш Логан прижимает к груди подарок, о котором грезил вот уже несколько месяцев кряду, и улыбается мистеру Тёрнеру так, словно перед ним настоящий волшебник. Или Господь-бог…
Железная дорога. Игрушечная железная дорога из одного паровозика и двух вагончиков – вот что было в коробке и вот что сейчас греет душу моему сынишке. И Грейс тоже сияет, разглядывая нашего гостя.
Заметив моё появление, Кристофер выпрямляется, снимает белую кожаную перчатку и протягивает мне руку.
– Надеюсь, вы простите мне эту дерзость, дорогой друг? Стоило бы спросить ваше мнение и мнение вашей супруги, прежде чем заявиться сюда и вручить вашему мистеру Уокеру-младшему этот скромный презент, – и в это же время он улыбается и подмигивает Логану, а тот, ураганом сорвавшись с места, уже несётся прочь в свою комнату, к груди прижимая сбывшуюся мечту.
– Почти полгода, мистер Тёрнер, он мечтал об этих поездах. Увидел их однажды в витрине какого-то магазина, и с тех пор… Как вы догадались? – спрашивает Грейс, а я тем временем всё ещё сжимаю в ладони тёплые пальцы скрипача.
– Вы, быть может, удивитесь, но я тоже был ребёнком. И тоже мечтал о железной дороге.
Звонкий смех Грейс и мягкие раскаты баритона Кристофера кажутся мне идеальной мелодией. Праздничной. Счастливой.
Семейной.
Мастерская приняла Кристофера так, словно он всегда был её частью. Впрочем, скорее всего так и было… Высокий и стройный, он медленно ходил между мольбертами, с интересом разглядывая кисти и краски, мастихины и глины в мешочках и банках. А после застыл над столом, где лежал один из моих набросков. Тот, на котором он был изображён со спины.
А я застыл у двери, любуясь этой самой спиной и человеком, которого так долго ждал и который, наконец, оказался здесь.
Сложно поверить, но да – он здесь. Совсем рядом и, кажется, готов ко всему, о чём бы я ни попросил…
– Люблю уединение, мистер Уокер. Даже одиночество, я бы сказал… В Лондоне не много мест, где можно почувствовать себя одиноким. Вот, к примеру, небольшие ивовые заросли на берегу Темзы вполне дают такую возможность, не правда ли?
– Да, – поспешно шепчу одними губами, даже не успев сообразить, к чему он ведёт.
– Я часто там бываю, если тому сопутствуют наличие свободного времени и погода. Там есть прекрасная лавчонка прямо у ствола самой большой ивы. Могу сидеть там часами. Далеко не одна скрипичная партия составлена именно там – в уютном уединении ивовых зарослей… – мечтательно тянет Кристофер, кончиком указательного пальца касаясь рисунка. – Однако в мой последний визит мне так и не удалось посидеть на той лавочке. Вы, вероятно, знаете, почему, – повернувшись ко мне, он улыбается и чуть изгибает бровь в немом вопросе.
– Знаю, – с трудом удаётся выдавить мне. – Там было занято. В тот день там было занято.
– В тот день там было занято, – повторяет и Кристофер, обращая взгляд к окну. И пока я заживо горю со стыда, не зная, как себя оправдать, он продолжает: – Было занято. Но я рад, что достойным человеком.
И всё снова становится легко и понятно.
Удивительно, но так бывает всегда: я волнуюсь и переживаю, а он парой фраз и лёгкой дружелюбной улыбкой все мои душевные терзания обращает в пыль.
Всегда… Какое нелепое слово возникло в мыслях, учитывая, что наши с Кристофером встречи легко сосчитать по пальцам одной руки. Однако, всегда. Да, всегда.
– Как вы узнали, что это был я? Тогда, я имею в виду… В тот день.
– Пальто, Гарольд. Пальто. Весной я был в Лондоне проездом и в сумме провёл здесь не более дюжины дней. Та прогулка к Темзе была единственной, куда я надел изображённое на вашем рисунке пальто.
– Ох… – не знаю, что должен говорить. Или делать. Хочется то ли заплакать, то ли рассмеяться.
– Ну что ж, – резко повернувшись на каблуках, он звонко хлопает в ладоши, – приступим? Что я должен делать?
А вот и ещё одно впервые: он сидит прямо по центру залитой светом комнаты, в моём кресле, и доверчиво смотрит в мои глаза, а внутри меня в это время рождается ложь. Наглая, гнусная ложь, оправдания которой не сыскать на всём белом свете.
Однако я поддаюсь ей. С отчаянием самоубийцы и восторгом религиозного фанатика. Поддаюсь, практически не задумываясь о последствиях. Поддаюсь, потому что больше нет сил сопротивляться…
Поддаюсь.
– Прежде чем начать работу – неважно, скульптура это или портрет – мне необходимо максимально изучить объект. Понимаете, о чём я?
Голос не дрожит, что удивительно. Быть может, так ощущается прыжок в пропасть: длительный разбег, предвкушение эйфории, толчок, полёт… а что будет дальше, уже не важно. Будущее перестаёт существовать, едва ноги отрываются от земли.
– Был бы признателен, если бы вы, любезнейший Гарольд, уточнили, – Кристофер улыбается так искренне и открыто, что у меня подкашиваются ноги. И от его наивности, и от собственной дерзости.
– Мне нужно… – откашлявшись и тем самым скрыв своё смущение, начинаю ещё раз. – Мне нужно ощупать ваше лицо, мистер Тёрнер. Досконально изучить все линии и изгибы, текстуру кожи и волос. Исследовать вас, уж простите, как материал, с которым собираюсь работать. Это необходимо, понимаете? Чтобы максимально реалистично изобразить ваше лицо, настроение и характер, я должен узнать, с чем именно собираюсь работать. Мои пальцы – это мои глаза. Я воспринимаю и обрабатываю информацию тактильно, поэтому… поэтому буду вам весьма признателен, если вы всё же позволите мне… позволите мне коснуться вашего лица.
И тишина. Оглушающая тишина.
Он молчал, казалось, целую вечность. Просто молчал и смотрел на меня этими своими неземными глазами, в то время как я краснел от кончиков волос и до вспотевших ступней, спрятанных в до блеска начищенные туфли. И в тот момент мне казалось, что он всё понимает. Что он знает мою тайну и сейчас читает меня как открытую книгу.
Я врал. Позорно врал этому добрейшему человеку, а он спокойно сидел в моём кресле и смотрел мне в глаза. И даже не хмурился в ответ на откровенную ложь.
Ощупать «объект» руками? Почувствовать текстуру и изучить изгибы? О, Господь всемогущий, да когда такое было?! Почему-то когда я начинал работу над портретом виконта Монтини, мне и в голову не пришло подобное! Более того, мысленно возвращаясь в те дни и вспоминая работу с ним, мне и представить сложно, как бы я касался его лица или волос!
Но Кристофер… Мой Кристофер – совсем другое дело. Он уникален. Великолепен каждым дюймом своей кожи, каждой родинкой и волоском. Он – настоящее сокровище. А я – омерзительный лжец, в данный момент отвратительный самому себе.
И всё же я ждал ответа. Положительного ответа, если быть точнее. И почему-то был уверен, что непременно дождусь.
– Прошу прощения, если мои слова показались вам чрезмерно дерзкими или ненароком оскорбили вашу добродетель – этого я хотел меньше всего, – совершенно искренне признался я и увидел, как его губы чуть дрогнули, преобразовавшись в подобие улыбки.
А потом он кивнул. Легко и непринуждённо, как умеет лишь он один. И таким образом в тот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Человеком, которому только что даровали безмолвное разрешение.
Двигаясь максимально плавно, но уверенно, я подошёл к креслу, в котором он сидел, ещё раз заглянул в его светлые глаза, опасаясь увидеть сопротивление, но встретил там лишь одобрение, неподдельный интерес к происходящему и что-то ещё, о чём я не успел подумать, потому как пальцы мои уже тянулись к его точёным скулам.
И в момент, когда кожа коснулась кожи, его ресницы затрепетали, а веки плавно опустились. Я едва не задохнулся, наблюдая эту картину: он сидит в моём кресле, весь такой расслабленный и доверчивый, и с закрытыми глазами позволяет мне делать с его лицом что угодно. Касаться кончиками пальцев впалых щёк и ровного высокого лба. Подушечками мягко обводить линии скул и челюсти. Гладить его волосы и брови, нос и… и губы. Я гладил его губы. Ласкал, если это слово способно ярче передать всё то, что сейчас происходило между нами.
Я возвышался над Кристофером и ласкал его лицо, пока он, расслабленно откинувшись на спинку кресла, позволял мне всё это. Уму непостижимо, что сейчас творилось у меня внутри!
А у него? Что испытывал он, когда мои руки зарывались в его волосы, идеальную причёску превращая в крысиное гнездо? Когда мои наглые пальцы снова и снова щекотали его подбородок или оглаживали щёки, когда касались его губ или почти невесомо проводили по опущенным ресницам? Были ли ему приятны эти прикосновения так же, как и мне? Испытывал ли он такой же восторг и трепет, или это было нечто совсем противоположное? Отвращение? Равнодушие? Или всё же удовольствие?..
Нет, его ресницы трепетали всякий раз, когда я на миг убирал пальцы, чтобы вскоре снова испытать это сладостное ощущение, когда кожа касается кожи. Его ноздри чуть раздувались, когда я наклонялся ниже, дабы разглядеть каждую крохотную веснушку. А кончики его ушей забавно порозовели, едва я сместил ладони на шею и в затылочную часть.
Нет, ему тоже было хорошо. Действительно хорошо. И осознание этого оказалось слаще кленового сиропа, вафли с которым я ел на завтрак.
Здесь и сейчас ему было хорошо. И причиной тому был я.
Нам было хорошо. Вместе нам было хорошо.
– Интересные у вас методы, любезнейший Гарольд, – шепнул он, так и не открыв глаз.
А я вдруг испытал такое смущение, словно меня застигли на месте преступления. Отчасти так и было.
Я убрал руки и колоссальным усилием воли всё же вынудил себя сделать шаг назад. Но ощущалось это так, словно у меня отняли нечто жизненно необходимое. Например, сердце. А кончики пальцев, которые всего несколько секунд назад зарывались в его волосы, сейчас странно покалывало.
«Так ощущается потеря», – вдруг понял я.
– Благодарю, что позволили мне этот… эту необходимость, – кое-как выдавил я, отворачиваясь и подходя к окну.
– Необходимость? Какое странное слово вы подобрали. Необходимость… Ранее я не упоминал этого, мистер Уокер, но с меня уже трижды писали портреты, и, не поверите, никакой необходимости не возникало.
В его голосе я распознал нотки веселья, отчего, вероятно, покраснел ещё больше. Он знает. Наверняка знает. Но всё равно позволил, а это означает…
– У всех разные методы работы, мистер Тёрнер… Могу ли я надеяться, что при возникновении повторной необходимости вы снова дадите позволение на проведение тактильного анализа?
– Если это то, что вам нужно, я возражать не стану. Моё лицо всецело в вашем распоряжении, дорогой Гарольд.
Не смея поверить услышанному, я оглянулся столь стремительно, что на миг даже потемнело в глазах: он всё ещё сидел в той позе, в которой я его оставил, и глаза его по-прежнему были закрыты. Только на губах играла странная счастливая улыбка.
И ровно в эту же секунду в двери трижды постучались, а после в мастерскую заглянула экономка Молли с подносом.
– Прошу прощения, господа, ваш чай и ещё тёплые печения. Куда можно поставить?
***
Той ночью я не мог уснуть до самого рассвета. Всё думал и думал о событиях минувшего дня и о собственных ощущениях, ими вызванных. И это было странно…
Я не понимал себя. Клянусь, не понимал!
Лёжа в тёплой постели и прислушиваясь к тихому сопению спящей Грейс, я думал о том, что теперь знаю, каково это – подушечками пальцев скользить по его коже. Ощущать гладкость его волос, тонкость и уязвимость век, шероховатость пробивающейся щетины на подбородке и пухлость бархатных губ…
Я ощупал своё наваждение – вот что это было. Сегодня я касался его, кончиками пальцев водил вдоль идеальных линий, днём ранее не смея и мечтать, что однажды такое случится. Это… это нечто нереальное. Эфемерное. Ведь не может же на самом деле быть так, что этот великолепный человек, этот потрясающий мужчина позволил мне столь дерзкий поступок? Зачем ему это? Разумеется, незачем. Глупость какая! Я всё себе придумал, дорисовал в воображении, пока он смиренно сидел в моём кресле. Да, так и было.
Но, Господи-боже, ощущения ведь не врут! Мои руки, мои чувствительные руки никогда мне не врали! Мои пальцы… Я до сих пор испытываю жгучее покалывание в кончиках пальцев, словно только-только касался гладкой кожи… Это было. Да, это полнейшее безумие, но оно было. Однозначно было.
Тогда что же происходит со мной сейчас? Почему я чувствую себя так, словно лишился одного из жизненно важных органов? Это нелепое ощущение потери, едва мои руки разорвали контакт. Совершенно нелогичное, глупое, глупое, глупое ощущение! Что со мной не так?
Что, чёрт возьми, со мной не так?!
Или с ним?
Что не так с нами?..
Глава 4
Дважды в неделю – таков был наш первоначальный график работы над портретом.
А именно с него мы и решили начать – с портрета. Сперва я напишу картину, в процессе создания которой до мельчайших подробностей изучу лицо Кристофера, а уж после займусь скульптурой.
Признаться, перспектива совместной работы радовала меня ровно настолько, насколько и огорчала. Уже сейчас, в самом начале пути, я понимал, что рано или поздно должен буду закончить, и тогда он уйдёт. Просто испарится из моей жизни, как табачный дым ускользает в распахнутое настежь окно. И это будет больно.
Будет невероятно больно – это я тоже понимал уже сейчас.
Поэтому и решил немного сжульничать, в качестве разминки написав вначале несколько графических портретов. Кристофер, насколько я могу судить, ничуть не возражал. Ему тоже нравилось то, чем мы занимаемся. Нравилось приходить в мой дом и общаться с моей семьёй. Нравилось подолгу неподвижно сидеть в кресле и молчать. Или говорить без умолку, при этом задорно хохоча. Или смотреть в одну точку – на крохотный скол на оконном стекле – и думать о чём-то своём.
Или наблюдать за моей работой.
В такие моменты у меня деревенели руки и выпадали карандаши, но он словно не замечал всего этого… Просто смотрел, и смотрел, и смотрел…
А после мы пили чай. Это тоже стало своего рода традицией – пить чай в конце рабочего дня. Иногда – в середине, между подходами к рисованию.
Признаться, я не ожидал, что мистер Тёрнер окажется таким исполнительным натурщиком. Он слышал меня без слов и молниеносно выполнял все мои немые просьбы и пожелания. Словно чувствовал, что мне понадобится в тот или иной момент. Как повернуть подбородок, когда расслабить плечи, а когда напрячь живот, в какой момент подарить мне прямой сосредоточенный взгляд, а в какой – мечтательный и туманный. Это восхищало.
Это обескураживало.
Мы, словно две половинки единого целого, работали столь слаженно, словно знали друг друга всю жизнь. Словно умели чувствовать друг друга.
Иногда мне казалось, что мы действительно умели. Что мы чувствовали настроение друг друга столь же отчётливо, как птицы чувствуют приближение грозы. В такие моменты не было нужды в словах или дополнительных объяснениях. Каким-то непостижимым образом, неведомым шестым чувством мы понимали, что одному из нас грустно или, напротив, радостно, и что этот день лучше закончить чашкой крепкого чая с молоком или неспешной прогулкой в парке.
Да, теперь мы гуляли. Вдвоём. И гуляли, стоит отметить, много. Могли часами бродить по длинным парковым дорожкам, разглядывать сбросившие листву деревья и молчать. Или болтать о всякой ерунде. Или обсуждать серьёзные вопросы вроде произошедших на престоле перемен или указов нашего премьер-министра, уже успевших отразиться на обыкновенных гражданах.
С Кристофером мне было так легко, словно я постоянно находился наедине с самим собою. Это странное ощущение: вроде бы ты пребываешь в обществе другого человека, а на самом деле чувствуешь себя свободным и раскованным, будто всё время один и тебя никто не видит.
С ним я чувствовал себя целостным.
Довольным жизнью. Беззаботным. Счастливым.
И порою, заглядывая в его глаза и читая в них такое же умиротворение, я позволял себе поверить, что ему со мною так же хорошо…
***
– Мы так и не обсудили материальную сторону вопроса, – однажды заметил я, тщательно штрихуя и растушевывая тени на острых скулах, пока сам Кристофер стоял у окна и смотрел на уплывающее закатное солнце.
Озвученный вопрос с самого первого дня поедал мои мысли, но почему-то поднять его я так и не решился. До этого момента.
Время шло, а ответа я так и не услышал, поэтому, отложив карандаш и кусочек испачканной ваты, которым проводил растушёвку, я поднял взгляд на Кристофера и… и испугался. Теперь он смотрел на меня, причём смотрел так, как ни разу до этого: непонимающе и обиженно.
Что-то не так? Я сказал или сделал что-то не то?
– Кристофер.
Он молчал.
– Кристофер, что? Это из-за моего вопроса? Вы огорчились, потому что я… что?
– Материальную сторону вопроса? – переспросил он на удивление хриплым голосом и скривился так, будто испытывал ужасную головную боль.
– Ну, разумеется. Мы уже достаточно продолжительное время работаем вместе, но так и не поговорили о том, сколько вы хотите за услуги натурщика.
Он скривился ещё сильнее, и у меня внутри всё похолодело от ужаса.
– Работаем? Услуги? – ледяной тон обжигал арктическим холодом.
– Кристофер.
– Поправьте меня, любезнейший Гарольд, если я ошибаюсь, но ранее мне казалось, что мы стали друзьями. Я заблуждался на этот счёт? Поторопился с выводами? Обманулся?
– Нет, Кристофер, боже, нет! – теперь я увидел ситуацию его глазами, и паника захлестнула меня с головой. – Я лишь хотел…
– Я не нуждаюсь в деньгах, мистер Уокер. Особенно в ваших. Я взрослый человек, если вы не заметили, который вполне в состоянии обеспечить своё существование.
– Кристофер, остановитесь, – резко поднявшись с места, я успел сделать два стремительных шага в его сторону, прежде чем был остановлен протестующе выставленной ладонью.
– То, что вы минутой ранее назвали словом «услуга», я расцениваю как проявление дружбы. По крайней мере, с моей стороны это так. Я прихожу в ваш дом и провожу с вами время, потому что мне приятно ваше общество, Гарольд. Это не работа. Это отдых для души и тела. Это именно то место, где бы я хотел находиться, будь у меня такой выбор. И мне больно осознавать, что вы расцениваете это, как нечто совсем иное. Только работа. Это…
– Это не так. Не так, уверяю вас. Я лишь хотел… В наших кругах принято платить натурщикам за работу, понимаете? Это закон. А я… я глупец. Трусливый глупец, мистер Тёрнер, потому что до этого момента не смел и надеяться, что вы станете мне другом. Но теперь я вижу, что это уже случилось. Причём случилось буквально с самого первого дня. Я искренне прошу у вас прощения за своё оскорбительное поведение. Надеюсь, вы сможете забыть те нелепые слова и…
– Извинения приняты, мистер Уокер, – он улыбнулся так тепло и приветливо, как умел лишь он один, и мне мгновенно стало лучше.
Всё хорошо. У нас всё хорошо, конфликт исчерпан.
– Раз уж я решился задавать глупые вопросы, позволите озвучить ещё один? – спросил я, сверкая нелепой улыбкой. Он кивнул. – В тот день, когда я снова посетил ваш концерт и сделал предложение поработать… простите, побыть натурщиком, вы едва не отказались, я прав? – он снова кивнул, и глаза его наполнились печалью. – Почему? Почему так сразу? Я вас чем-то обидел? Оттолкнул? Быть может, сказал что-то не то?
– Вы правы, – прошептал он, снова поворачиваясь к окну, – я почти отказался. Нет, пожалуй, я действительно отказался, но почему-то передумал.
– Почему же?
– Всё это, – он небрежно махнул рукой в сторону расставленных у стены пустых мольбертов, – не для меня. Да, я люблю искусство. Всей душою люблю, Гарольд, вам ли не знать… Люблю, ценю и уважаю. Но лишь как созерцатель. Как человек, который приходит в галерею, чтобы посмотреть на картины, но никак не быть тем, кто на них изображён. Да, с меня уже писали портреты, но это было вынужденной мерой, понимаете? Необходимостью. Я не получал удовольствия от процесса их создания и уж тем более не был удовлетворён результатом.
– Тогда почему же вы согласились на этот раз?
– Из-за вас, – он улыбнулся одними лишь уголками губ, всё ещё разглядывая почти пустую улицу. – Из-за вас, мой друг. Я видел ваши работы в музеях Праги и Парижа, в Венеции и в Эдинбурге. И знаете, что меня впечатлило? Наличие души в каждой из них. Характер, Гарольд. У каждой вашей работы есть характер. И мне стало любопытно, что же такого особенного гениальный зодчий разглядел во мне.
– Я уже говорил, что…
– Да-да. Моё лицо, я помню. Вас впечатлило моё лицо. И именно по этой причине я почти отказал вам в тот вечер.
– Простите, но я… я не понимаю.
– Я часто слышу комплименты в адрес своей игры на скрипке, Гарольд. К этому я привык. Но вот о внешности… это впервые.
– Вы шутите?!
Наблюдая, как прекрасное лицо преображается под выражением искреннего недоумения, я моментально уяснил, что нет – шутить он и не думал.
Но как? Как такое возможно? Неужели никто и никогда не говорил ему, насколько он красив? Нет, я не верю! Люди не могут быть настолько слепы.
– Это похоже на шутку?
– Но как? Нет, я отказываюсь в это верить… Уму непостижимо! Ведь ваше лицо… оно особенное! Совершенно уникальное. Невероятно красивое и…
– Меня называли каким угодно, только не красивым. Необычным, нескладным, странным, но красивым – это впервые.
– Идиоты.
– Прошу прощения?
– Идиоты. Все, кто встречался вам раньше – слепые идиоты.
Снова повернувшись ко мне, Кристофер рассмеялся, и этот звук эхом отразился в моём сердце.
– Однако именно моё лицо едва не лишило нас удовольствия продолжить знакомство.
– Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду.
– Вы увидели во мне красивый образ. Типаж, как принято говорить в ваших кругах. А мне всегда хотелось, чтобы люди видели во мне прежде всего человека. Живого человека, Гарольд. Импульсивного, ранимого, чувственного. Быть может, с кучей недостатков, но человека, а не лицо. Я хотел бы, чтобы вы стремились продолжить наше общение, потому что вас заинтересовал мой характер. Душа, если угодно. Но никак не привлекательная, на ваш взгляд, оболочка. Именно по этой причине я едва не отказал вам в тот вечер.
Онемев от внезапно обрушившегося на меня откровения, я только и мог что стоять да глупо пялиться в его печальные глаза.
А ведь так и было, дьявол меня задери! Так и было. Слово в слово. Сперва я увидел лишь красивую картинку. Лицо, заставившееся меня свихнуться. Наваждение, обретшее вполне реальные черты. И уж после, выслушав исповедь его скрипки, я осознал, что он живой. Что это лицо – лишь крохотная часть того огромного великолепия, что таится в этом потрясающем человеке. И теперь, день ото дня, я лишь глубже и глубже убеждаюсь в том, насколько необъятной и непостижимой оказалась его душа.
Душа и характер.
Его лицо по-прежнему кажется мне чем-то неземным, но теперь я воспринимаю это лишь как часть моего удивительного Кристофера. Как сахарную пудру на и без того идеальной булочке.
Мне интересна каждая его часть, каждая составляющая. Каждое слово или улыбка, каждый прожитый миг жизни или мимолётный взгляд. Я жадно поглощаю его всего, не умея усмирить свою жажду.