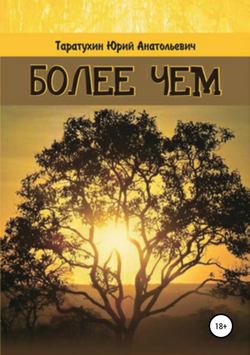Читать книгу Более чем - Юрий Анатольевич Таратухин - Страница 1
Оглавление…Мне смешно удивляться
своим же потугам,
Быть чуть выше и тоньше всех
тех, кто уж был.
Но хотелось бы стать всё же
каплей потока,
Затопившего нас разделившую
мель…
«НА ЗАРЕ, ИЛИ НАКОПЛЕНИЕ ЧУВСТВ»
(сентиментальный пассаж)
Здесь нет начала и конца,
завязки,
кульминации и развязки, здесь
вообще
нет атрибутики, как нет и
попытки
предопределённого создания
чего-то
условного, здесь имеется лишь
желание
восстановить первичное восприятие
описанных мест…
от Автора
Прилетая по весне домой, птицы берутся за работу бурно, стремительно и плодотворно, скоро и, кажется, без особых раздумий над производимым по сценарию заведённому не ими, а так давно, что время, прошедшее с установления этого порядка, кажется нерушимой вечностью, строит пара себе гнездо. Из гибких прутиков, маленьких веточек, клочков шерсти, обрывков бумаги и прочего пригодного материала готовится правильной формы корзина, которую мать, когда придёт время нести яйца, выложит изнутри пухом, замостит каждую щёлочку, дырочку, чтобы яйца во время высиживания хранили живое тепло, а затем будет терпеливо и мучительно долго, столько, сколько потребуется сидеть, распластав крылья и низко опустив голову, забыв обо всём, что не касается её потомства, и будет частенько озираться по сторонам, сторожко прислушиваясь, ведь врагов у птиц много, и она находится в постоянной готовности отстаивать своё потомство с той решимостью, с тем чувством самоотвержения, позабыв о себе, на которое способна только настоящая мать. Но придёт время, подойдёт срок, и первый стук изнутри известит о чуде, о рождении живого существа – беспомощного, слабого, пушистого и нежного комочка, который и глаз-то открыть ещё не может. Спешит время…
На школьном дворе пронзительно зазвенел звонок. Как по команде, стайки школьников понеслись в классы по асфальтированной дорожке мимо белых яблонь, стоящих в пышном весеннем полноцветье, свежеприбранных клумб, чернеющих привезённым чернозёмом и обложенных свежевыбеленным кирпичом.
Лишь только старшеклассники, выпускники школы, небольшими группками и парочками, не спеша, как-то боясь сбиться на ребячий бег, вприпрыжку двинулись к школе.
Последний шестой урок в десятом «А» проводил директор школы. Это был грузный, стареющий мужчина лет пятидесяти пяти, с глубокими морщинами на лице, обвислой кожей щёк, чернеющими мешками под глазами. Тугой подбородок он подпирал тыльной стороной ладони, и даже не смотрел на доску, сидя вполоборота к классу, спиной к окну, лишь изредка согласно кивая головой отвечающему Ирусу.
Вмешательства учителя и не требовалось, Ирус отвечал грамотно, речь лилась ровно и плавно, он последовательно переходил от графика гиперболы к графику параболы, школьная указка плавно скользила от уравнения к уравнению, при этом давались чёткие, выверенные объяснения добросовестного ученика, как будто бы даже наизусть заученные и рассказываемые здесь в классе на пятый раз вслух.
В классе стояла абсолютная тишина, как бывает не при обычном школьном ответе у доски, с путаницей, оглядыванием назад, поправками учителя, подсказками учеников, а при зрелище, когда выступающий удивляет собой сидящих, и те обязательно ждут от него уже чего-то нового, когда можно просто отдохнуть, ибо тебя учитель не спросит.
Ирус был аккуратным юношей, всегда опрятно одетый, немного молчаливый, вернее, не склонный к шумным разговорам, обсуждениям, хохоту, безудержному веселью подростков, часто возникающему вовсе без причины, а просто оттого, что уже вовсю светит весеннее солнышко, дует тёплый ветерок, от состояния физического здоровья и какой-то прочной устроенности, определённости в жизни.
Ирус был застенчив, в десятом классе выглядел значительно моложавее и тоньше своих одноклассников, уже возмужавших, вытянувшихся, с баском и щёточкой усов над верхней губой, а он только начинал тянуться вверх, плечи были узкие, руки не мужские, а тонкие и неокрепшие, считая, что это заметно и неестественно, он, лишь чем-то увлёкшись, забывал об этом.
Ирус рассказывал и рассказывал, он отменно подготовил этот реферат по алгебре, класс находился в его власти, рассказчик это чувствовал и в конце выступления добавил уже кое-что не по программе, прочитанное им по этой теме как-то мимоходом в журнале «Квант». Затем он сделал паузу, чтобы сказать, что его сообщение закончено, но в это время зазвенел звонок, потом ещё и ещё раз под рукой расшалившегося ученика из дежурившего по школе класса. И сразу же защёлкали замки портфелей, завизжали молнии школьных сумок, послышался стук придвигаемых к столам стульев, возгласы.
Иван Михайлович кивком отпустил класс с урока. Ирус направился к своему месту, получил одобрительный кивок соседки по парте, подхватил за ручку свой портфель, из которого он на этом уроке так ничего и не выкладывал, и поспешил догонять Ивана Тимофеева – статного парня, высокого, длинноволосого, сильного в руках, с которым он сразу сошёлся, когда они вместе оказались в девятом «А» классе после окончания восьмилетней школы в их районе, хотя там они учились в разных классах, имели каждый своих друзей и друг друга практически не знали.
При выходе из школы к ним присоединился Яков Верейчук. Яков жил в селе, в девяти километрах от их районного городка, ездил автобусом. Автобусная станция была Ирусу и Ване по пути, до неё было километра полтора, и друзья из школы всегда ходили вместе, имея возможность неспешно поговорить о школе, о делах, подурачиться после учебного дня, потолкаться.
Обычно, отойдя метров пятьсот от школы, там, где заканчивалось здание строительного техникума, и начинался базар, они клали портфели. Ирус и Яков окружали Ивана, тот становился между ними, и они по очереди затевали шумную потасовку. В ход шли кулаки, нередко Яков, отвесив Ване увесистого тумака по спине, подхватив портфель, пускался наутёк к автобусной остановке, да так, что догнать его уже не было никакой возможности, при этом он издавал что-то сродни крику дикого человека, бегущего за своей добычей, а затем уже на безопасном расстоянии останавливался, грозя:
– Смотри у меня, Ваня, – улыбался во весь рот, оборачивался и бежал к автобусу, подъезжающему к остановке.
Ирусу же, оставшемуся один на один, частенько доставалось, но друзья тут же мирились, хлопали друг друга по плечам, брали портфели и шествовали по своему тихому городку. Городок стоял на берегу реки, был зелен и свеж, особенно это чувствовалось сейчас – весной, когда молодая травка была особенно зелёной и тонкой, яблони, вишни, сливы стояли в пышном, белом цветочном наряде, а воздух был пьяняще ароматен от этого полноцветья, с реки дул свежий, но уже приятно тёплый ветерок, и вся земля как-то особенно жадно дышала всеми порами, и вся природа наиболее полно показывала свою прелесть и силу молодости. Сегодня было и впрямь как-то по особенному хорошо…
– Ты не раздумал насчёт института? – спросил Ваня.
– Нет, – ответил Ирус, раскручивая правой рукой почти до окружности свой портфель.
– Только туда, а ты – в художественное? Да, Ваня?
– Да, буду поступать в художественное училище, может, примут, а рисовать я люблю, да и отец хочет видеть меня только там, вот приду сейчас и буду заканчивать эскиз, помнишь, река и лес на противоположном песчаном берегу и стадо коров пьёт воду из реки?
– Ну, бывай, – сказал Ирус, пожал Ване руку, посмотрел, как тот пошёл по улице к своему маленькому тёсовому домику с деревянным петушком на крыше, повернул вниз по улице, вымощенной камнем, затем вправо, мимо толстенных тополей в проулок, где он жил.
Открыл калитку, навстречу радостно бросился, позвякивая тонкой цепочкой, пёс, привстал на задние лапы, безропотно дал хозяину потрепать уши, пегую холку, пасть и лишь чуть взвизгнул, когда тот прищемил пальцами его чёрный нос.
По скрипучему крылечку Ирус поднялся в дом, быстро прошёл через веранду и короткий коридор в свою комнату, открыл окошко. Обстановка комнаты состояла лишь из самого необходимого: старенького раскладывающегося дивана у стены, большого письменного стола под орех, низенькой этажерки для книг и тетрадей, в углу комнаты стоял платяной шкаф. Ирус любил, придя домой прямо в одежде, задрав ноги на спинку дивана и подняв локти, обхватив руками затылок, отдохнуть, расслабить всё тело, не думать ни о чём, вернее, думать обо всём постороннем, незначительном, мысленно переводя взор с одного предмета на другой, и так безмятежно полежать минут пятнадцать. Но сегодня мысли, поблуждав немного, прочно остановились на Тане, девочке, живущей поблизости, через один дом от него, ближе к реке. Таня поселилась здесь недавно, зимой в школу пошла с третьей четверти. Нынешний её дом с полгода стоял пустой, хозяин этого добротного особняка уехал к сыну на юг, и родители Тани сняли его. Её отец был военным, работал на ответственном посту, сейчас получил назначение куда-то на Север и поэтому отправил дочь со своей матерью в этот тихий городок, в котором он думал поселиться после окончания беспокойной службы с бесконечными переездами, сменой мест, рёвом моторов на испытательных полигонах.
Ирус впервые заметил Таню на школьной сцене, когда её восьмой «Б» класс принимал участие в праздничном концерте. На сцену вышли шесть девочек, они были в голубых юбочках, белых кофточках, синих галстуках, им аккомпанировал баянист. Среди поющих стояла новенькая девочка, стройная, со светлой чёлкой, выбивающейся из-под пилотки, с синими спокойными глазами, румянцем на щеках, в ушах у неё блестели маленькие серёжки, а на ногах были праздничные тёмные туфли на высоком каблуке. Она хорошо пела, во весь голос, ни капельки не смущаясь полного зала, незнакомых для неё лиц, столько простоты и естественности было во всём её облике, даже со сцены после выступления она сошла в зал как-то не так, как все: осторожно, внимательно смотря себе под ноги, и села впереди.
Ирус сразу обратил внимание на Таню, да, наверное, не только он. Опустив руку на подлокотник и подперев ладонью подбородок, он внимательно наблюдал за ней всё выступление, да, она вызывала в нём какой-то интерес, в ней было что-то отличное от всех, новое и дотоле незнакомое, а может быть, даже близкое и родное, и симпатия родилась сразу.
Выпускные экзамены десятый «А» класс сдавал с подъёмом, готовились упорно, серьёзно, никто не хотел быть отстающим. Учителя приятно удивлялись: троечники отвечали вполне сносно, подготовленно, а хорошими учениками и вовсе оставалось лишь любоваться – слышались грамотные, логичные и лаконичные ответы на вопросы школьной программы, как будто бы это были не их ученики, позволявшие себе в течение учебного года и леность, и шалости, и неподготовленность к занятиям, а собранные красивые молодые люди, здесь и сейчас в школьных классах отстаивающие своё право решать самые сложные проблемы в ждущей их взрослой жизни.
Ирус к экзаменам готовился много, но в основном лишь повторяя чуть подзабытый, но прочно усвоенный школьный материал.
Иван Тимофеев получал по всем предметам четвёрки, чему был рад, он и за день до следующего экзамена не выпускал из рук карандаш, кисть, уголь, рисуя свои бесконечные пейзажи, хаты, что стояли на его улице, лица людей, и даже за два дня нарисовал маслом на чёрном холсте портрет своей соседки по парте – гордой отличницы, педантки, зубрившей учебник целыми днями строго по плану, с которой вечно не уживался, так как она, выполняя какое-то задание, закрывала рукой свою тетрадь, за это Ваня дёргал её за косицы, шутливо поколачивал кулаком по сухой спине, подшучивая, нередко доводя девочку до слёз. Однако на следующий день, приходя в школу, он, как ни в чём не бывало, усаживался за парту, накрывал её руку своей ладонью и говорил:
– Лена, будем друзьями, – при этом улыбался, и девочка тоже слегка улыбалась и всё ему прощала.
Яков лучше успевал по гуманитарным наукам, бойко отвечал по литературе, рассказывая быстро и живо представляя в лицах героев прочитанных произведений, при этом сопя, разводя руками, фыркая, ухмыляясь какой-нибудь шутке персонажа, увлекаясь, отвечал до тех пор, пока его не останавливали. А вот по физике, математике он шпаргалил, сидя за столом напряжённо, как будто литый из металла, разворачивался, сидя вполоборота, косил глазами влево, где на коленях раскладывал заранее приготовленный «вспомогательный» материал. Несмотря на все свои потуги, больше тройки по этим предметам он не мог получить, что, в общем-то, соответствовало его мнению о себе в области точных наук, и поэтому после сдачи последнего экзамена – физики – Яков облегчённо вздохнул, сладко потянулся во всю силу, даже зажмурился от удовольствия, а затем, пройдя школьный двор, уже в саду, идя между Ирусом и Ваней, стал вытаскивать из карманов шпаргалки с формулами и законами, вырезанные им из учебника, собрал всё вместе в правую руку и запустил этот веер вверх со словами:
– Летите, милые, летите!
Друзья шли по школьному саду, который сильно изменился за прошедший месяц: листья стали гораздо крупнее, утратили светло-зелёную окраску, цветков на деревьях уже и вовсе не было видно, на их месте образовалась завязь плодов, на черешне уже были видны зелёные черешенки и лишь на земле, вскопанной месяц тому назад, лежали, прильнув к комьям и грудкам земли, засохшие цветки-пустоцветы, так и не давшие завязей. День был тихий и солнечный, завтра выпускникам предстоял школьный бал, последний, на сей раз прощальный праздник в школе. Друзья шли гораздо медленнее обычного, словно предчувствуя, что им через день-другой придётся расстаться друг с другом.
Они шли к реке по узкой, вымощенной булыжником улочке, то поднимающейся вверх, то опускающейся вниз, мимо городской аптеки, магазина, в котором продавали велосипеды и мотоциклы, где всегда было полно народа, оценивающего, трогающего всё руками, что-то проверяющего. Тут же у крыльца на зелёной траве валялись остатки деревянных ящиков, которые служили упаковкой для мотоциклов, отдельные дощечки с торчащими из них гвоздями, обрывки плотной жёлтой бумаги, на которой мотолюбители раскладывали свои гайки, детали, что-то промывали и смазывали, сидя на корточках возле новеньких, сверкающих краской мотоциклов.
В их городок уже полным ходом прибывали отдыхающие: тёплая река, чистый воздух, сосновый бор с песчаным берегом, обилие клубники, парное молоко манили отдыхающих, и они сюда приезжали обычно целыми семьями, обязательно с детьми, и жили подолгу, вовсю наслаждаясь общением с природой.
Городок в это время начинал шуметь, как-то пёстро и беспорядочно становилось в нём, оживал базар, бурлила жизнь, меняя спокойный и рассудительный ритм местных жителей. По правую сторону дороги в глубине парка стоял клуб – просторное здание в два этажа, недавно отремонтированное и сейчас молодо сверкающее голубизной фасада и белизной колонн. У начала аллейки, ведущей в парк, стояла доска объявлений: сегодня шёл новый итальянский фильм, ребята решили на него сходить, но первый сеанс начинался в шестнадцать часов, а было чуть больше пятнадцати, и Яков потянул друзей немного прогуляться.
Они смеялись, отходя всё дальше и дальше от школы, всё сильнее озорничали, толкались, Ваня поочерёдно мягко упирался двумя руками в спину то Ирусу, то Якову и резко толкал их, а те хоть и упирались, но вылетали, будто из катапульты, пробегая вперёд метров десять, оглядывались назад, поджидали Ваню, идущего по центру, и толкали его с обеих сторон. Затем Ирус переключил внимание на заботы Якова о корове, которую держали его родители. Он положил руку Якову на плечо и, дурачась, стал громко спрашивать:
– Ну как поживает, Яша, твоя коровка? – он делал ударение на последнем слове, заглядывал другу в лицо, а другой рукой обхватывал его шею, и затем уже обеими руками дергал за неё, вызывая Якова на шутливый борцовский поединок.
Тот принял вызов, схватил Ируса обеими руками за правое запястье, крутанул и, держа его в таком скрюченном положении, легонько боднул головой в грудь, на этом всё и закончилось.
Фильм был трогательный и нежный. Сюжет был таков: молодая девушка в кабинете доктора узнаёт о том, что она серьёзно больна, первые симптомы болезни, которые уже проявились, будут развиваться, принесут ей много страданий, боли, но лечению болезнь не поддаётся, и жить ей осталось менее полугода.
Девушка возвращается домой, по пути её подвозит на машине рыбак, тридцатилетий мужчина, проживающий в её городке. Они знакомятся. Пабуло, вечно спешащий, всегда устраивающий свои дела, немного циничный и уверенный в том, что его уже ничто не удивит в этом мире, человек, занятый работой, делами от начала и до конца суток, влюбляется в эту девушку, опекает её как малышку, а она спешит отдать ему свою любовь, нежность, благородство. Узнав о её болезни, Пабуло полюбил её ещё сильнее, начал изменяться, она для него – уже целый прекрасный мир, где так много нового. Но болезнь, как и говорил доктор, губит девушку, а Пабуло, похоронив любимую, уже – совсем другой человек с нежными и грустными глазами, скорбью во всём облике, без шляпы стоит на осеннем ветру под дождём на борту сейнера, уходящего в море, он смотрит на отдаляющийся берег, тот берег, который так много дал ему за прошедшие несколько месяцев. И в конце звучит трогательная, сжимающая сердце, тянущая что-то изнутри, плачущая скрипка.
После фильма Яков поспешил домой. Он ещё должен был сегодня вывести к пруду корову и попасти её пару часов, накосить травы, закончить сбивать клетку для кроликов, эти его обязанности не отменялись ни при каких обстоятельствах. Яша привык к ним с детских лет, он крестьянский труд не считал чем-то мешающим, ненужным, бесполезно отбирающим время, для него это была часть жизни, наравне со школой, наравне с удовольствиями, в нём он находил удовлетворение, своё достоинство и даже – самоутверждение.
Насущные крестьянские заботы, невыдуманность их, а обязательность, необходимость, тянули Якова, и он хорошо понимал, что, может быть, не сейчас, а через несколько лет, не обойтись, не прожить ему без своего села, без развороченных, влажных комьев земли, вспаханной им на рассвете. И не собственное присутствие радовало его при этом, а свобода, лёгкость, с которой начинает дышать свежевспаханная нива, полно, всей грудью, всеми порами, радостно предчувствуя чудодействие сева. И так хорошо становилось ему при этих мыслях, так в них всё было мило и дорого, а он был сам собою, что Якову становилось как-то светлее и чище на душе, неприятности, мелкие обиды куда-то уплывали, таяли, и он твёрдо знал, что для него земля есть то самое прочное, незыблемое, святое, где нет ничего показного, наносного, а есть только правда труда, в нём он и хотел проявить себя.
Якову нравилось бывать и в больших столичных городах. Там на него находило веселье, большое оживление, он много ходил по проспектам, вертя головой по сторонам, читая пёстрые афиши, рекламные щиты, при этом он любил делать всё сам, так, чтобы никто его не теребил, не спрашивал, чтобы не надо было советоваться, уговаривать спутника куда-то идти, а можно было везде попасть и многое увидеть, и он всюду наблюдал за людьми, за самыми разными, устроившись в парке на скамейке, за медленно идущими парочками и всегда ведущими только им понятый диалог, состоящий из улыбок и взглядов, фраз вскользь, осторожных, понравится ли это спутнику, без всякой категоричности, за старушками, убелёнными сединой, в сетке морщин, по несколько часов умеющих рассказывать о детях, внуках, общих знакомых и редко, уже без удовольствия и азарта, о себе, да и то, как бы нехотя, будто о давно прошедшем.
Однажды Яков попал на молодёжный концерт, большой, разнообразный, длившийся почти три часа. В первом, бóльшем по времени, отделении выступали исполнявшие по несколько песен певцы, ему совсем незнакомые, жонглёры, акробаты, не обошлось и без пародиста, очень точно имитировавшего известных артистов. Во время его выступления юноша единственный раз за весь концерт от души рассмеялся, да и каждый в зале при этом хохотал как-то чистосердечно, не стесняясь, вовсе не обращая внимания на рядом сидящих людей.
Во втором отделении выступала популярная группа, на переднем плане стоял солист-гитарист лет двадцати семи, он играл и пел вначале о любви, нежности, при этом на экране позади него периодически вспыхивало изображение лапки кошки с выпущенными когтями в какой-то клетке с редкими прутьями, он почти не двигался, пел старательно, даже насильно выдавливая что-то из себя, на лбу появились капельки пота, затем они поползли по вискам, щекам, заискрились в лучах прожекторов, так и оставаясь не вытертыми. Якова это даже тронуло. Публика встречала каждую песню с шумом, свистом, бурей аплодисментов. Затем гитарист стал двигаться по сцене, пришли в движение и другие участники группы, замигала разноцветными бликами сцена, слова, музыка, цветные блики, движение участников, необыкновенная громкость – всё это слилось воедино, в сплошной круговорот, в которой сразу пропали и смысл первых лирических песен, и первое доброе впечатление. Зал как-то изменился, молодые люди поднимались с мест, хлопали в такт мелодии поднятыми над головой руками, при этом раскачиваясь всем телом вперёд-назад, некоторые сидя, топали ногами, они уже участвовали в происходящем, а на сцене продолжалось весёлое зрелище со сменой мест в полумраке, миганием света, потрясающе громким звуком.
Яков где-то в середине концерта утратил интерес к происходящему на сцене, больше глядел по сторонам на возбуждённые лица соседей, молодых девочек, густо накрашенных всеми цветами поздней осени, а сейчас громко визжащих, и как-то всё плотнее врастал в спинку своего кресла. По дороге домой он размышлял о том, почему зрелище понравилось всем, а его оставило равнодушным, может быть, он чего-то не понимает, чего-то не знает, к чему-то слишком строг и поэтому окончательной оценки, полагаясь лишь на своё впечатление, даже себе не решился дать.
Во дворе дома Тимофеевых, прямо посредине, стоял глава семьи – Илья Михайлович, далеко уже не молодой, статный, полный сил и задумок ещё каких-нибудь десять лет назад человек, а теперь заметно похудевший, с впалой грудью, часто покашливающий каким-то застарелым, низким хриплым звуком c бульканьем в груди, с тёмным землистого цвета лицом, и лишь руки – широкие, как лопаты, с крепкими длинными пальцами, перевитые торчащими под кожей венами, выдавали в нём когда-то сильного, не знающего устали в работе человека. Ему было пятьдесят восемь лет, но выглядел он гораздо старше, особенно сейчас со спины, когда сгорбившись, низко опустив голову и держа рубанок очень близко к груди, широко раздвинув при этом локти, строгал доску медленным, выверенным движением, захватывая тонкую, посильную для себя полоску древесины, и двигая рубанок не одними руками, а всем телом, так, что при этом вспучивались, надувались вены на шее, застывали во время этого движения в напряженном положении, а потом, когда он выпрямлялся, отрывая рубанок от дальнего конца доски, бешено колотились, и так до следующего напряженного движения.
Илья Михайлович часто прерывал работу, вытирал лоб, блаженно распрямлял спину и глубоко дыша при этом свежим воздухом, которым тянуло с реки, ковырял ногтем указательного пальца щербатину на обрабатываемой доске.
Он любил работать в силу своих возможностей, труд для него был единственным спасением от наседающей, преследующей, не отпускающей даже на день болезни. В труде он, как ни в чём другом, хорошо себя чувствовал, и тёплые дни, где-то с середины мая, давали ему такую возможность: он заметно веселел, суетился, располагался прямо посредине двора, вначале принимался за изготовление заготовок – ровных, аккуратных сосновых досточек разной длины и ширины, строгал, шлифовал наждачной шкуркой, поглаживая их, проходя каждый уголок, грань, щербатинку, затем проводил ладонью по ней со всех сторон, удовлетворённо улыбался, слегка чему-то согласно кивал головой и тут же, не раздумывая, начинал чертить тонким химическим карандашом на доске вязь узоров, орнаментов – задумок у него было множество, а когда набирал заготовки, в голову приходило обязательно ещё несколько и он сразу же чертил их на только что приготовленной доске, а иногда откладывал на стол, сравнивая их с уже известными ему, опробованными, украшающими крылечко, веранду, окошки, дома соседей образцами резьбы по дереву. Но обязательно хотел сделать и этот вариант, увидеть его не в мыслях, надуманно, а в живом настоящем виде, когда тот расписанный краской, свежий, подсыхает на скамеечке у дома со стороны сада в тени, чтобы краска не надулась, не покоробилась, не подпортила его детище, и лишь когда всё было закончено, он облегчённо вздыхал, успокаивался. Глядя, любовался предметом своей гордости и поручал только Ване – старшему сыну – устанавливать своё резное сокровище на заранее отведённом для него месте, при этом находился рядом, тыкал пальцем, указывая, что где-то надо бы чуть-чуть поднять, и только после этого разрешал прибивать, увековечивать свой труд.
Но сегодня до готовых изделий было ещё далеко, а Илья Михайлович ждал, когда сердце перестанет бешено колотиться в груди, а дыхание немного выровняется, приняв обычную размеренность, он рассеянно поглядывал по сторонам, за забор, где на зелёном бугре паслись соседские козы, ходили, опустив головы и бойко что-то клюя в сорной траве, беленькие курочки, смотрел на небо голубое, прозрачное и оттого кажущееся пронзительно-холодным, кристальным. Его широко расставленные ноги приятно утопали в мягкой земле двора, время будто остановилось, будто зафиксировало эту остановку, подарило художнику какое-то ощущение пространства и вечности, в которой он творит, и Илья Михайлович понял, что пора, и рывком загнал рубанок в свежий брус.
Вечерело. Солнце плавно опускалось за горизонт, противоположный край неба совсем потемнел, чернея своей монолитностью и только там, откуда видневшаяся половина солнца испускала бледные, прозрачные лучи, освещавшие сосновый бор за рекой, два воздушных облачка, жавшихся друг к другу, неподвижно, на месте, при полном безветрии, догорал остаток уходящего дня.
К школе подходили парни и по одному, шли и шумными ватагами, громко разговаривая, смеясь, вспоминая что-то, что было на прошедших экзаменах и о чём вспомнить не стыдно, шли не только выпускники и старшеклассники школы, были здесь родители и даже бабушки выпускников, пришедшие посмотреть на внуков, кружащихся парами под звуки вальса.
У крылечка школы стояла группка девочек лет восьми–десяти, босоногие, измазанные с головы до ног фиолетовыми пятнами – следами шелковицы – с завистью, широко раскрыв изумлённые глаза, смотрели они на выпускниц – красивых, почти взрослых девушек в нарядных вечерних платьях, туфельках на высоких каблуках, с распущенными волосами, в которых блестели красивые заколки. Они, казалось, первый раз в жизни так явно любовались собой, как любуются только невесты своей молодостью, свежестью, красотой, шли по живому людскому коридору, выстроившемуся перед школой.
Выпускной бал проходил в фойе школы, стены которого были украшены разноцветными воздушными шариками, болтающимися на тонких длинных нитях и живо реагирующими на малейший поток воздуха, на стенах были прикреплены стенные газеты «Такими мы были десять лет назад», там каждый выпускник мог увидеть себя семилетним, только что пришедшим в школу, по центру висели фотографии с надписью «Первый раз в первый класс», где каждый класс был запечатлён со своей первой учительницей, которая стояла посреди сейчас едва узнававших себя детей. Потолок пересекали бумажные гирлянды, с них свисали воздушные шарики, ленты, светильники были обёрнуты разноцветной бумагой и горели красным, синим, жёлтым светом, делая фойе удивительно необычным, словно это была комната во дворце чудес из детской сказки, а над всей этой чудесной атмосферой праздника громко звучала музыка вальса. Она будто сама кружила, увлекала в танец, будто ей было мало места здесь, ей хотелось за школьные двери, чтобы танцевали все стоящие у школы, все проходящие мимо, чтобы они откликнулись на чарующий, вечный, нежный танец.
В зале закружилась сначала одна пара – соседка Ируса по парте Женя и парень из параллельного класса. Они танцевали хорошо, слаженно, партнёр галантно вёл Женю, она ему улыбалась, и тут Ирус заметил то, что как-то не удавалось подметить ему за два года школьных будней: Женя, в тонком, воздушном платье с оборочками и кружевами, подпоясанная тонким серебристым пояском, была просто прекрасна.
Затем пар стало две, три, десять и, наконец, в зале не оставалось ни одного просто стоящего и наблюдающего за танцами со стороны, все до одного закружились, слились с музыкой. Иногда разноцветные воздушные шарики обрывались, спускались с потолка на танцующих, те их легонько отталкивали вверх, на соседей, шарики не опускались, находились между потолком и танцующими парами, царил настоящий школьный бал.
Когда ансамбль замолкал, выпускники подходили к импровизированной сцене, там, на ступеньках, ведущих из фойе на первый этаж, стоял очередной выступающий. Микрофона не было, и поэтому все подходили поближе, толпились, стараясь продвинуться к самым ступенькам, и замолкали.
Выступить хотели многие, но было отобрано только несколько самых лучших номеров. Сейчас на ступеньках стоял белобрысый плотного сложения парень с гитарой и пел, он как-то даже чуть наклонил голову и запрокинул её назад так, что она была параллельна грифу гитары, застыв в этом положении, ни на сантиметр никуда не сдвигаясь, как-то сильно напрягая губы, делая ударение на отдельных словах и фразах, при этом чуть прищурив глаза, как говорит человек, у которого что-то остро болит внутри, или он хочет сказать окружающим что-то непонятное, заведомо трудное для их понимания, он будто не пел, а исповедовался под простую, тихо звучащую под его рукой мелодию, не набирающую силу под конец песни, а постепенно угасающую, тающую, силу же набирал его голос, он становился как-то резче и категоричней:
«Навеки буду предан я друзьям,
нет, не умрёт и не зачахнет дело,
лишь только б правым был бы я во всём.
А если прав, не жаль подставить
даже собственное тело».
Песня понравилась всем, хлопали поднятыми над головой руками, кричали «Браво!», лишь Ирус не хлопал, не шумел, а только чуть крепче обхватил правой рукой перила лестницы, на которые опирался.
И вновь зазвучала тихая, плавная, какая-то уж очень медленная музыка. Юноши стали приглашать девушек на танец, и они танцевали, стоя почти на одном месте.
Ирусу не хотелось сейчас танцевать, он почему-то загрустил как-то без видимой причины, ведь ничего не случилось, и ещё несколько минут тому назад он лихо плясал в кругу друзей, прыгал, улыбался, поправлял съезжающий чуб, ему было хорошо веселиться, не думая ни о чём, отдаться во власть всеобщего, приятного для всех праздника, выражать себя в нём, но сейчас он почувствовал себя одиноким, обособленным, оторванным от праздничной атмосферы, может быть, он устал, может быть, подействовала последняя, только что спетая песня, и, скорей всего, это было ненадолго, а всего на несколько минут, поэтому Ирус отошёл от сцены, осторожно проходя между уже танцующими парами к стене, чтобы посидеть на скамеечке. Он шёл к ней, чуть опустив голову, глядя себе под ноги, не оглядываясь по сторонам и лишь в конце, уже почти садясь, приподнял глаза: в нескольких шагах от него в дверях зала стояла Таня. Она стояла как-то осторожно, несмело, будто не имея права присутствовать на этом празднике, будто не решаясь войти сюда, стоя ещё там, на улице, упираясь двумя руками о косяк двери, а только всем телом подавшись вперёд, сюда, не двигаясь, стояла неподвижно, лишь иногда чуть-чуть поворачивая голову, наверное, она стояла здесь уже давно, наблюдая из полутьмы за происходящим в зале, может быть, чего-то ждала. Таня была принаряжена в золотистого цвета платье чуть выше колен, в жёлтые, светящиеся перламутровым блеском вечерние туфельки, её золотистого цвета волосы были собраны сзади заколкой, а затем красиво спадали книзу. Музыка звучала уже некоторое время, но Ирус, так и не дойдя до скамейки у стены, повернул прямо к двери, подошёл вплотную к Тане, взялся рукой за косяк двери, за который держалась она, и кивком головы пригласил её на танец, взял за руку и неспешно, тихонько, не опуская руки, повёл между танцующими парами прямо к центру, туда, в туманный, расплывчатый, состоящий из зелёного, жёлтого, синего цветов, круг. Он нежно, едва дотрагиваясь, обнял её за талию, она положила ладони ему на плечи, доверчиво прильнула, и они, так же как и все, стали танцевать, кружась медленно, маленькими шажками почти на одном месте, не говоря ни о чём, отвлекаясь от всего на свете, отдыхая под медленную, временами будто замирающую, тоскующую, будто грозящую вот-вот закончиться, нежную мелодию. Они как бы слились воедино, забыли о сверкающем зале, о празднике, об окружающих их людях, а подчинили происходящее себе, как-то рассеянно реагируя на музыку, не стремясь подстроиться к её звучанию, и когда та закончилась, пропала, некоторое время ещё стояли на месте, как и прежде, вдвоём. После этого танца они находились только вместе, Ирус сразу повеселел, очнулся от ниоткуда взявшейся было грусти, будто что-то приобрёл ушедшее, вновь для него в празднике было и яркое сверкание, и смысл, и будоражащая, волнующая радость, даже азарт, он говорил с Таней обо всём, но непременно только о хорошем, сказал, что она прекрасно танцует, а Таня на это лишь согласно кивнула головой, но как-то медленно, с расстановкой, будто немножко подумав, прежде чем сделать это. Затем друзья Ируса выстроились паровозиком, раскачиваясь из стороны в сторону в такт музыке, перепрыгивая с одной ноги на другую, двинулись между танцующими в бешеном, всё ускоряющемся ритме, то отставая, теряя друг друга, разрывая цепь, то снова соединяясь, собираясь вместе. Ирус положил руки на плечи Тане и прыгал, стараясь не наскочить на неё, а она развеселилась по-настоящему. От прежней робости не осталось и следа, она тоже прыгала, как и все, быстро освоившись, слившись со сказочной обстановкой, оглядываясь назад на Ируса, словно спрашивая у него, правильно ли она поступает. Таня здесь почти никого не знала, и если ей что-то надо было спросить, чем-то поинтересоваться, то делала это через Ируса. Он охотно рассказывал ей, объяснял, познакомил с Ваней, Яковом, те весело кивнули ей и как-то понимающе и снисходительно ему, но впрочем, не больше, так как сами были заняты чем-то своим.
Когда танцы прерывались, выпускники приходили из фойе в столовую, садясь каждый раз за прибранные столики с новым угощением. Ирус ухаживал за Таней, наливал ей напиток, подставлял блюдо с крупной ярко-красной черешней, тянулся на другой стол за пирожным для Тани, непременно с аккуратной, несмятой розочкой в центре белого крема. Таня благодарно принимала ухаживания, и, вообще, они вели себя как давно знакомые, близкие, приятные друг другу люди. Для Ируса она стада родней, чем все другие одноклассники вместе взятые, Таня вела себя скромно, немногословно, обращаясь только к Ирусу, всё больше прислушиваясь к разговору за столом.
Школьный бал подходил к концу, вернее, заканчивалась короткая, одна из самых коротких в году ночей, уступающая место утру, знаменующему новый день.
Вот-вот восточное окно зала должно было посветлеть, нет-нет, ещё не от солнечных лучей, светящихся и несущих яркий жизненный свет, это произойдёт позже, а только чуть-чуть проясниться, сплошная предутренняя, а оттого и томительная чернота должна была прозреть, сделать различимыми школьный сад, кусты сирени, высаженные под самым окном, и этот момент, миг был знáком, местом в давно заведённом сценарии праздника, когда полагалось всем выпускникам и учителям, а также многочисленным родителям, идти на реку встречать рассвет нового, так много меняющего в жизни выпускников дня. И оттого, что перемена выбирается каждым по собственному желанию, прихоти, и не может быть изменена никакими силами, а является чем-то необратимым, не поддающимся возврату, становилось одновременно тревожно и ответственно. А пока ещё за окном чернела сплошная ровная темень.
Ирус с друзьями стояли на крылечке школы кружком, спиной к двери, некоторые курили, и каждый из них говорил, как-то нехотя, вставляя всего по несколько слов в общий разговор. Из зала послышалось, что объявляется последний «белый» танец, но юноши не двинулись с места, так и оставаясь стоять на крылечке под затянутым тучами, совершенно без звёзд, небом. Их разыскали девушки, потянули в зал, первой к Ирусу, стоявшему ближе всех к двери, подошла Таня и, постояв минутку за его спиной, словно не решаясь что-то предпринять, будто отказывая себе в этом, ничего не говоря, вложила свою тёплую ладошку в его руку, которую он, слегка приподняв плечи и чуть сгорбившись, держал за спиной. Обернувшись, Ирус счастливо улыбнулся и повёл Таню в центр зала. Они танцевали, и он чувствовал себя приятно, совершенно успокоенно, затем опустил глаза вниз на Таню и увидел, что на него снизу вверх, очень внимательно смотрят её глаза, ему показалось, что она даже чуть-чуть приподнялась, чтобы яснее разглядеть что-то на его лице или на подбородке, а может быть, и в самих глазах. Музыка закончилась, последние звуки, прозвучав сильно, явно здесь внизу, поднялись под потолок и там растаяли, но исчезая, уничтожались, всё ещё звенели некоторое время, но уже угасая и отражаясь, создавали прощальный хрустальный звон.