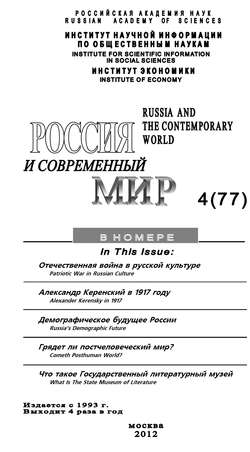Читать книгу Россия и современный мир №4 / 2012 - Юрий Игрицкий - Страница 1
Россия вчера, сегодня, завтра
Отечественная война в русской культуре 1
ОглавлениеИ.И. Глебова
Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук, руководитель Центра россиеведения ИНИОН РАН.
Посвящаю моему деду Георгию Ильичу Глебову, гвардии подполковнику, Герою Советского Союза (за форсирование Днепра)
Этот текст посвящен не истории войны, а ее месту в национальном сознании. Мне хотелось бы понять, как память общества реагирует на важнейшие исторические события, какое символическое значение в них вкладывает. В работе предпринимается попытка выявления роли мифа войны, одного из определяющих для национальной культуры, в процессах конструирования легитимности современного режима и идентичности российского общества.
Механизмы постсоветской памяти: Редукция и оправдание
Когда-то Н.М. Карамзин написал историю России, сведя ее к истории государства, власти. Этот подход утвердился в качестве господствующего в науке и общественном сознании. Известно, что в XIX в. при всем разнообразии мнений лидировала государственно-юридическая школа, где по преимуществу анализировались властные институты, но не история общества2.
В постсоветское время сложилась своя конструкция ближайшей, т.е. советской, истории, тоже связанная с «усечением» прошлого. При анализе исторического сознания российского общества и «исторической политики» власти3 становится очевидным, что итог в основном таков: история сведена к советской (досоветская, русская «интересна» по-прежнему как «пролог» к чему-то действительно важному, касающемуся впрямую ныне живущих; тот же Александр Невский, победитель шведов и псов-рыцарей, любим как герой именно сталинской эпохи, эдакий маршал – победитель германцев…), последняя же редуцирована к Великой Отечественной войне. Это, конечно, не значит, что общество и историки забыли все остальное. Но война, безусловно, стала главным историческим событием, на основе которого выстраиваются идентичность и легитимность постсоветского строя. В центре внимания общества и власти находятся те проблемы, которые связаны с войной (точнее, связываются войной) и ею же оправдываются.
К войне, как оказалось, можно «привязать» если не все, то очень многое в советской истории (точнее, в массовых о ней представлениях – что и составляет историю в массовом сознании, в массовой культуре). Вторая установочная дата постсоветского календаря – 12 апреля, полет Ю. Гагарина – тоже имеет отношение к войне. Ведь именно в результате победоносного окончания Второй мировой войны СССР стал сверхдержавой, а космос еще одна (своего рода побочная) победа – в гонке вооружений, в «холодной войне».
Мифом войны очень логично оправдываются, говоря принятым в СССР и всем еще (или опять?) привычным языком, «ошибки» и «недостатки» советской системы, т.е. травматические моменты советской истории. Так, даже неосталинисты (нынешние сторонники Сталина) признают, что в СССР были репрессии, но вводят их в контекст подготовки к войне. Массовый психоз разоблачения «пятой колонны», «предателей» в «рядах строителей социализма» объясняется происками внешних врагов и угрозой нападения. В конечном счете оказывается, что так страна готовилась к войне.
С той же точки зрения оценивается в официально-массовой истории и пакт Молотова–Риббентропа: благодаря ему удалось отодвинуть границы, выиграть время для подготовки к войне. В ту же логику встраиваются не только индустриализация, но и коллективизация: без нее СССР не выиграл бы войны – индивидуальный крестьянин поприжал бы хлеб, как он это делал в 1916–1917 и в 1920-е годы, что не позволило бы наладить снабжение армии. Да и послевоенное героическое восстановление тоже «идет» из войны. Тяжелая жизнь, голод (который, кстати, был и в Европе), даже послевоенные репрессии объясняются ее последствиями.
Так, через урезание, упрощение и оправдание советской истории новым режимом выстраивается единая историческая логика, определенная победой в войне. Война является инструментом реабилитации советской истории, ее очищения от всего «ошибочного», «вредного», стыдного и преступного. Благодаря ей можно легитимировать укорененность постсоветского порядка в советском, положительно интерпретировать и даже героизировать их связь. В этом остро нуждаются и постсоветский человек, ощущающий именно там корни своей идентичности, и постсоветская власть, видящая в советском основания своей легитимности. Через народный подвиг конструируется преемственность двух режимов.
И здесь возникает целая серия вопросов: почему постсоветская Россия в качестве основания своей идентификации и легитимации выбрала именно войну? по какой причине наши массовые сознание и культура оказались так привязаны к военному проекту? какая версия войны оказалась органична постсоветизму? Казалось бы, на эти вопросы уже даны убедительные ответы [см.: 6, 8, 10, 11, 12, 21, 22 и др.]. По-моему, однако, здесь еще есть о чем говорить.
Опыт истории – миф национальной культуры
Примем за основу постсоветский подход – не его оправдательную логику, но своего рода «завороженность» войной, центрированность на Отечественную. Действительно, «через» войну, ее историю, мифологию, память о ней многое можно понять – и не только в советской эпохе. Это один из «ключей» к нашей истории, культуре, порожденному ими человеку («элитарному» и «массовому»).
Употребление в связи с темой Отечественной войны термина «миф», конечно, требует пояснения. Он не используется мною в негативном значении – для того, чтобы «поставить под сомнение величие победы советского народа…» и т.п., как возопят (и, кстати, вопят) нештатные сотрудники Комиссии по фальсификации и заинтересованная общественность4. Привлекая этот термин для описания образа войны, утвердившегося в советско-постсоветском общественном сознании, я хотела бы подчеркнуть следующее. Историческое событие вообще не «укладывается» в массовое сознание как последовательная сумма фактов. При усвоении оно неизбежно мифологизируется, причем не только вследствие воздействия пропагандистских, легитимационно-социализирующих инструментов, но и под влиянием работы механизмов национальной культуры. Чем масштабнее событие, чем больше оно будоражит глубины данного типа культуры, тем вернее подвергнется мифологизирующей «проработке».
В ходе такой «проработки» не то чтобы страдает (искажается) фактологическая канва (историческая «действительность»); она вообще становится несущественной. Факт рожден определенным временем, вводит в него и с ним связан; миф темпорально не фиксирован – это способ самоосуществления, существования культуры5. Миф строится на фоне исторического факта и в связи с ним, но «вокруг него» нет времени – он выводится за временные рамки, ставится над временем. Миф больше говорит об определенностях культуры, чем о конкретике события, о метаморфозах массового сознания, чем о ходе истории. Миф лишает событие временнóй адекватности, но обнаруживает в нем смысл, адекватный национальной ментальности, национальной культуре. Поэтому воспринимать миф национальной культуры в значении фальсификации исторического события могут люди или совершенно неподготовленные (непросвещенные на этот счет), или политически ангажированные и идеологизированные.
Здесь уместно указать на разницу в отношении к мифу историка и этнолога (или антрополога). «Для историка мифологический образ исторического события является упрощающей действительность абстракцией. Для антрополога такой образ, безотносительно к тому, что произошло на самом деле, обладает собственной ценностью. Этнолога интересует не то, соответствует ли миф действительности, а то, как мифологические верования регулируют поведение человека, определяют собой мораль, социальные институты, формы общественной жизни» [33, с. 40–41]. Для меня предпочтительна именно эта точка зрения на миф, эта исследовательская перспектива. Причем здесь мифология важна даже не сама по себе, а в ее отношении к человеку, культурной традиции. Этот подход разрабатывал один из классиков мировой этнологии ХХ в. Б. Малиновский: «Мы должны изучать миф в его влиянии на жизнь людей. На языке антропологии это означает, что миф или священная история определяются своей функцией. Это та история, которая излагается для того, чтобы утвердить веру… засвидетельствовать прецеденты образа и ритуала или увековечить образцы морального или религиозного поведения» [24, с. 281].
Исторический миф есть преломленное и редуцированное отражение национальной истории в национальной культуре. Он рождается из переработанного культурой исторического опыта, а актуализируется в обстоятельствах, как-то этому опыту созвучных. Важнейшим для России оказался военный опыт; она по существу милитарная страна. И дело здесь не в частых войнах – в конце концов, воевали все и всегда. У нас социальная ткань, сама конструкция социальности во многом созданы войной, выросли из военных нужд, в удовлетворение военных потребностей [см. об этом: 17, 18]6. Милитаризации подверглось сознание – и элит, и народа; милитарность – родовая черта ментальности «модального» русского человека.
В течение столетий мирная жизнь в России переживалась как короткая межвоенная передышка; гражданские отношения отягощала органика войны – безразличие, жестокость, даже безжалостность людей по отношению друг к другу. Об этом – розановское: «В России так же жалеют человека, как трамвай жалеет человека, через которого он переехал» [28]; отсюда – сталинское «Незаменимых у нас нет». И царство, и империю отличали не то чтобы талант к войне (мы вовсе не так часто, как представляется нашему милитаризованному сознанию, побеждали), но неспособность избавиться от психологии войны с ее страхом врага и завороженностью им, потребностью доминировать и самоутверждаться силой, а также какое-то странное отсутствие таланта к миру, к осмысленной организации жизни нации в мирное время. В государстве трудящихся все это приняло крайние, опасные с точки зрения национального самосохранения формы. Оно жило войной, даже когда не воевало; вся его история есть перманентная война (гражданская классовая и псевдоклассовая – мировая – «холодная»); мир строился на остаточные средства – те, что не съела война; тяготы быта казались не такими уж безнадежными в проекции архетипической советской формулы «только бы не было войны».
В процессе освоения такого исторического опыта русская культура выработала один из своих установочных мифов – миф <священной (жертвенной, справедливой, победоносной)> войны7. Он зафиксирован как в народно-фольклорной, устной и письменной, так и в элитарной, церковно-государственной и интеллектуально-художественной традициях. Основные функции мифа – идентификационная и интеграционная, «нациоскрепляющая». Это миф полного национального единства, полного единения власти и народа во имя высшей цели – защиты Отечества. Под данную мифом архетипическую модель войны народным сознанием подверстывались (и верстаются теперь) реальные войны. Миф ориентирует на освященный традицией образец – то дóлжное, чему подобало бы существовать. Его смысловая ткань чрезвычайно сложна, что предполагает разнообразие прочтений.
Война в мифе предстает неким естественным состоянием – по крайней мере столь же естественным, сколь мир. Более того, война обеспечивает мир, является его условием. При этом речь идет вовсе не о той воинствующей милитарности, которая бросала в грабительско-завоевательные походы дружины викингов или орды монголов. Война ради войны, военное «молодечество» как бунт / бурление молодой, не находящей себе иного применения силы – все это неорганично русской культуре. Возможно, поэтому в ней нет воинственно-гламурного культа рыцарства, но существует былинный культ богатырей – защитников рубежей Отечества, охраняющих / сберегающих русскую землю. Война в русской культурной традиции – не нападение, а оборона: отражение внешней агрессии, противостояние врагу, персонифицирующему мировое Зло («злой вражеской силе», «поганым», «воинству антихристову» из былин, сказок, летописных историй). Миф войны внутренне мотивирован, если угодно, не избытком силы, а ощущением слабости, уязвимости.
Такой тип освоения опыта войны обусловлен своеобразием истории и географии и связанными с ними особенностями культуры. Россия как государственная и культурно-историческая единица – это прежде всего территория (измерять мощь государства в километрах – типично русский алгоритм). Она мыслит себя пространственными категориями; «выстраивалась», организовывалась в и для освоения пространства. Об этом написано так много, что нет необходимости пояснять. Но география этого пространства явно не отвечала требованиям безопасности; исторически данная русским для колонизации территория открыта, не защищена естественными преградами. Землю, пригодную для жизни, столетиями приходилось отвоевывать у природы или отстаивать в противостоянии с легко проникавшими сюда завоевателями.
История о «начале» русской земли – это история о постоянном вторжении кочевников, о бесконечных волнах степных нашествий. Народ, живший на этой территории, очень долго был вовсе не завоевателем, а жертвой геополитических обстоятельств. Внешняя уязвимость, страх врага, напряжение от постоянного ожидания нападения компенсировались в мифе оборонительной войны. (Это вполне логичная находка доминирующего у нас типа сознания – военно-оборонного.) В том понимании, которое свойственно русской культуре, оправдана и справедлива именно она, а не внешняя агрессия. Правда, за которой сила, а значит, и Божественное покровительство / заступничество – на стороне тех, кто обороняет родную землю, защищает Отечество. Как бы ни был силен враг, в логике мифа он обречен – за ним нет Правды.
Рост нации из «первой» Отечественной
В мифе дан сценарий нормативной для нашей культуры войны. Не случайно Россия всегда выигрывала войны, в которых он реализовывался: оборонительные и потому справедливые, сплачивавшие людей разных сословий, состояний, статусных позиций в единый народ. В критической ситуации миф начинал работать; его энергетика проецировалась на реальность, а та, в свою очередь, подзаряжала его «правдой истории».
Логика мифа просматривается в событиях начала XVII в., современная к ним апелляция явно не случайна. Вспомним: тотальная и всеобщая Смута закончилась противостоянием внешнему врагу, с нарастанием справедливой, оборонительной, спасительной для народа и потому священной войны. Именно в ней обнаруживается объединяющий, высший смысл; она – против логики Смуты, сильнее нее. Окончание Смуты типологически подобно завершению священной войны: ликвидируется «иноземное иго», (вос)создается государство, (воз)рождаются русская власть и народ как общность, субъект истории. Именно со Смутой (точнее, с патриотическим ее «мотивом») историки связывают окончательное закрепление в русском сознании понятия Отечества8. И не случайно памятник гражданину Минину и князю Пожарскому появляется на Красной площади в Москве после войны 1812 г. (в 1818 г.) как напоминание об имеющемся в русской истории опыте отечественных войн. Кстати, в этом контексте подвиг Ивана Сусанина из проходного эпизода Смуты превращается в организующее пространство мифа событие. Конечно, мифологический сценарий не реализовался в Смуту в полной мере, тем не менее «химия» от столкновения мифа культуры с фактом истории возникла. А именно это давало жизнь мифу и очищало, оправдывало реальную жизнь.
С точки зрения логики мифа священной войны в народной культуре оценивались агрессивно-наступательные, экспансионистские эпохи нашей истории. С этих позиций петровский и екатерининский экспансионизм, в целом имперство XVIII – начала XIX в. еще могли быть оправданы идеей возвращения (у завоевателей – шведов, поляков, степных разбойников – крымцев) утраченных прежде территорий (отложенность процесса во времени в данном случае не нарушала целостности и логики мифа). Однако блестящие победы елизаветинских и павловских орлов, александровское участие в антинаполеоновских коалициях – на чужой территории и за чужой интерес – выглядели сомнительными, если не бессмысленными авантюрами. Их несоответствие образу культурно-мифологической войны объясняло неудачи и делало несущественными приобретения – особенно в том случае, если в войнах росли не пространства Отечества, а влияние и престиж власти.
Показательно, что агрессивно-наступательный, тщеславный и самоуверенный XVIII век со всеми его военными победами фактически стерся из народной памяти – точнее, не зафиксировался как военно-победоносный. Из военных героев в ней остался, пожалуй, только А.В. Суворов – да и то не столько как полководец, сколько идеалтипический «отец солдатам». В трактовке войн народное миропонимание входило в явное противоречие с государственной целесообразностью, государственными задачами.
Конфликт народного и имперско-государственного образов «правильной» войны был преодолен в 1812 г. В той войне, крепко отпечатавшейся в русской памяти, мистическим образом едва ли не «дословно» реализовался мифологический сценарий. Миф стал реальностью, получив свое название на все времена – Отечественная война: народная, справедливая, победоносная, священная9, связанная с приращением территории и мировым (тогдашняя Европа и была всем миром) доминированием. Следует заметить, что при всей своей случайности историческое событие пришлось на время, на удивление подходящее для окончательного утверждения мифа в национальной культуре. В наполеоновскую эпоху созидалась новая Европа: шло активное «государственное строительство», романтизировалась (и «придумывалась») национальная традиция, были заметны первые переживания национальной идентичности. В ходе общеевропейского процесса национального самоутверждения и у нас родилось Отечество – из войны, названной поэтому Отечественной. Вместе с появлением Отечества возникла патриотическая идея, стали складываться технологии ее продвижения.
Благодаря войне миф, лишь нащупанный, угаданный культурой, стал ее фактом и достоянием. Разрозненные мифообразы сложились в миф национального уровня – готовый фундамент для здания российской нации. Будучи воспет в литературно-художественной традиции, вершинами которой являются лермонтовское «Бородино» и толстовская эпопея «Война и мир», 1812 год и в народное историческое сознание вошел в мифологической форме. Этому способствовал тот факт, что после войны значительно расширился круг текстов, втянутых в поле притяжения мифа.
Современные исследователи считают, что процесс информирования о ходе военной кампании представлял собой не информационное обеспечение общества, а управление сознанием современников. Уже в ходе войны в опоре на опыт наполеоновской Франции «пропагандисты» (см. манифесты А.С. Шишкова, афиши Ф.В. Растопчина, публикации Н.И. Греча и др.) конструировали идеологию народной войны. Однако в послевоенной официальной версии события, созданной при Александре I и Николае I, в качестве коллективного героя фигурировал уже не «единый русский народ», а Российская империя – «наследница Священной империи германской нации». Русские представлялись в официозе неким священным воинством, орудием в «Божьем деле» – войне («великой брани») с «всемирным злом и неверием» [3, с. 160, 161, 168–169]. В противовес официозу, представившему версию «наднациональной» священной войны, «определенный сегмент российской элиты интерпретировал… столкновение как борьбу за национальную независимость России» [там же, с. 167, 168]. Не все смыслы, появившиеся в интерпретациях 1812 г., были приняты мифом. Главное – было отвергнуто представление о наднациональном характере войны. Отечественная осталась в памяти народа как внутреннее дело, имеющее тем не менее «всемирно-историческое» значение.
В начале XIX в. произошел важнейший, пожалуй, после монголо-татарского нашествия и ига взаимообмен исторического и мифологического10. Реальная история Отечественной «вошла» в миф, найдя в нем живой и непосредственный отклик. С этого времени миф священной войны, постоянно питаемый множащимися текстами об истории 12-го года, составлял рамку национального восприятия войны вообще. Этот культурный механизм точно описан Б. Малиновским – правда, в отношении «примитивного» общества: «Миф в том виде, в каком он существует в общине дикарей, т.е. в своей живой примитивной форме, является не просто пересказываемой историей, а переживаемой реальностью… <Она>, как верят туземцы.., продолжает оказывать воздействие на мир и человеческие судьбы… Наше священное писание живет в наших обрядах, в нашей морали, руководит нашей верой и управляет нашим поведением; ту же роль играет и миф в жизни дикаря» [24, с. 98]. Это описание верно и для общества современного; его во многом направляют мифы национальной культуры.
События 1812–1814 гг. были с точки зрения мифа нашей «правильной» войной. Более того, единственно правильной – «первой Отечественной»11. Ее сложные «сюжеты» получали в текстах о ней (и благодаря им – в общественных представлениях) «правильное», т.е. соответствующее мифологической логике, объяснение. Пожалуй, самым травматичным военным событием для русского сознания оказалась сдача Москвы – кошмар гибели в пожаре столицы как бы вернулся из времен степных нашествий, Смуты. Травма «снималась» включением мифологической логики. В соответствии с ней событие выглядело как своего рода супержертва во имя победы12. Кроме того, его отчасти компенсировала трактовка решающего сражения оборонительной войны как победоносного. Во время войны это сражение, как известно, разочаровало русских. Вот одно из свидетельств: «Бородинский бой, составляющий славу русского оружия, не принес никакой отрады; он не обратил неприятеля назад, а этого-то желало робкое чувство безопасности. Напротив, как последствием его было отступление наших войск, то страх более усилился… Последний способ к защите: генеральное сражение, было дано и не послужило к лучшему» [5, с. 173]. Однако в течение всего XIX в. русские стремились переинтерпретировать это событие в безусловную для себя победу. И сейчас в мифологизированной истории 1812 г. Бородино предстает чем-то средним между выигрышем и «ничьей».
Ну, и конечно, все искупалось чудом Победы, религиозно-мистическая трактовка которой противилась, не поддавалась анализу. Классическую формулу этого «чуда» дал Пушкин в десятой главе «Евгения Онегина»: «Гроза двенадцатого года / Настала – кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима, иль русский Бог?» Кстати, здесь наш великий поэт, сам ставший мифом национальной культуры («наше всё»), явно позволил себе вольность, «назначив» героем народной войны немца и отодвинув так подходящего мифу Кутузова. Большинство современников судило иначе. «Неодобрение, даже ропот выражался на Барклая де Толли за отступление армий; его считали изменником, называли французом и утверждали, что сын его служит в армии Наполеона против нас, – свидетельствует житель г. Касимова Рязанской губ., заставший войну мальчиком. – Вот как верны были тогда слухи и мнения. Было всеобщее нетерпеливое желание… чтоб на место Барклая де Толли назначили русского генерала, и особенно смотрели, как на надежный щит, на Багратиона» [5, с. 173].
Тема Барклая как антигероя Отечественной – пожалуй, первое достаточно явное проявление особого механизма: активизации в массовой культуре в связи с войной мифологемы «внутреннего» (скрытого, тайного) врага – пособника внешнего (возникла из проработки культурой исторического опыта ига, Смуты). Так объяснялись поражения, им придавался исключительный характер (они не обусловлены самой логикой войны и потому неизбежны, а как бы противоречат ей), а вина за них списывалась с русских и переносилась на «чужих» – даже не внешних врагов, что было бы естественно, а на «своих чужих» (внутренних «немцев»). Такова, видимо, реакция как «низовой», народной, так и «элитарной» традиционалистской культуры на неоднородность социума – сословно-статусную, экономическую, культурную, этническую.
Но вернемся к разговору о победоносно-экспансионистской логике мифа «первой Отечественной». Речь – в реальной войне и историческом мифе – шла о двойной победе над завоевателем: на своей территории и на европейском («чужом», занятом врагом) пространстве. «Освободительный поход» русской армии 1813–1814 гг. остался в нашей национальной памяти как победоносно-героический и едва ли не романтический исторический эпизод. И не оттого (или не только оттого), что мы «владели» Европой, пытались решать ее судьбу, а потому, что этот опыт дал нам, русским, толчок к осмыслению собственного прошлого и настоящего, требовал «улучшения», преобразования себя. Однако нельзя игнорировать и тот факт, что история «первой Отечественной» как бы подтверждала мифологическую связь победы над внешним врагом (агрессором) и расширения территории Отечества. Одно неизбежно влекло за собой другое: пространственный рост / державное величие интерпретировалось в культуре как воздаяние за военные жертвы, уничтожение никем прежде не побежденного врага и освобождение порабощенных им народов.
И наконец, следует указать на еще одну связующую линию мифа и истории Отечественной. Тема русской жертвы и неоплатного долга <Запада>, ведущая в мифологическом сюжете нашествия / ига, соединилась в войне 1812 г. и мифе о ней с темой превосходства над врагом, определявшей сюжет победы. Тема превосходства, столь необходимая для идентификационной полноценности образа русского – этого европейского «отстающего», «ученика» Европы, – впервые получила историческое обоснование в XVIII в. (благодаря военным победам Петра, Елизаветы, Екатерины). Но окончательно она подтвердилась историей 1812 г. Изгнание Наполеона и освобождение Европы давали русским повод думать, что их опыт, запечатленный в оригинальной культуре и общем прошлом, более весóм и жизнеспособен, чем «европейский». Казалось, тем самым были дискредитированы не французские войска, а сами претензии Запада на лидерство / гегемонию / менторство. Война послужила «доказательством» глубинной правоты («правды») всего строя жизни русского народа13. Ощущение этого превосходства и этой правды легло в основу новой идентичности, культивировавшей русское – не воспеванием достоинств этноса, а прославлением русской имперскости как милитаристского и культурного проекта.
Война 1812 года, открывшая лучший для русских – XIX в., – указала наш путь «нациостроительства». В отличие от европейского, он милитарный, а не гражданский: через всеобщие сплочение, службу («не за страх, а за совесть», не прислуживаясь) и самоограничение перед лицом внешнего врага. Нация у нас выходит из горнила войны, пусть и священной; механизмы ее сплочения имеют милитарную природу. Поэтому интеграция любого рода в России, видимо, невозможна без отсылок к военному опыту, чрезвычайным ситуациям, без актуализации страха внешней агрессии и образа врага. Такой механизм сложился в момент рождения народа / государственности, закрепился в Смуту, сработал в начале XIX в. Однако специфика «первой Отечественной» была в том, что процесс национального самоопределения захватил прежде всего и в основном элиты.
Отечественная начала XIX в. была временем обретения Отечества «верхней», европеизированной субкультурой: появления у ее представителей национального чувства, горделивого осознания себя русскими и создания тем самым условий для роста из нее гражданского общества14. В 12-м году в России появилась национальная элита – еще до рождения нации. Это не просто особенность русского «нациостроения», но его изъян. Народ в войне получил лишь первое впечатление, первый опыт национального единения, который фактически не был отрефлектирован. Тогда еще не существовало массовых средств внесения этого опыта в народное сознание и его фиксации15. Возможности церковной проповеди и народного творчества были в этом смысле ограничены. Но главное – отсутствовали внутренняя готовность принять этот опыт, способность выработать на его основе национальное самосознание, которые даются просвещением, долгой культурной работой, а также практикой свободной самореализации, самоощущением свободного человека.
Тем не менее война вызвала важные изменения и в народном (крестьянском) мироощущении. 1812-й год напитал новой живительной силой «старомосковскую» народную веру в царя – защитника и заступника / покровителя, укрепив традиционную ментальную основу отношений массы народонаселения и власти. Снимались сомнения в народном характере верховной власти, порожденные петровскими новациями, всем «дворянским» (иными словами, «антикрестьянским») XVIII в. Из священной войны царская власть вышла как бы очищенной от неправд, «исправленной», а потому служба и покорность ей получали высшее обоснование. Крестьянская Россия и царь вновь слились в народном мировоззрении. В победоносной Отечественной 1812 г. – народная легитимация романовской империи; ею был поставлен крест на пугачевщине. Эта символическая основа властенародного единства, стабилизировавшая общественный порядок, стала разрушаться только в ходе тектонического социального сдвига последней трети XIX – начала ХХ в.
Парадоксальным образом из Отечественной вышел также могильщик монархии (как оказалось, и империи), получивший в войне тот эмансипационный заряд, что необходим для самоопределения. С 12-го года начинается отсчет самостоятельного бытия элит, точнее их инобытия – они внутренне освободились от (породившей их когда-то) власти. Ощутив свою отдельность от власти, разделив в сознании ее и Отечество, сделав антивластность основой собственной идентичности, элиты (для начала ХХ в. уместно объединять их термином «интеллигенция», но при этом следует понимать, что это не только «отщепенцы» «общественники» и «художественники», но и административно-управленческая, бизнес-, военная и т.п. элиты) вступили на путь, который привел к Февралю 17-го. Первой вехой на этом пути была попытка антидворцового – не дворцового, заметьте – переворота декабристов (или антисамодержавная революция дворянской аристократии).
Вторая Отечественная: Режим и вождь в народной войне
Войны, как и всякие (особенно самые важные) события в жизни, начинаются совсем не так, как ожидают. Произнося слова о неизбежности войны, формируя атмосферу «предвоенности», люди, как правило, не верят, что война может стать реальностью. Даже политикам свойственно недооценивать риски, совершать ошибки. Любая война, особенно просчитанная и предсказанная, оказывается в той или иной мере неожиданной и внезапной. Для нашей же страны «вероломное нападение» – пожалуй, классический случай начала войны. Так и начинаются в России Отечественные. И все же 22 июня 1941 г. является вопиющим примером всеобщей растерянности и распада в ситуации, «под» которую годами «затачивали» страну.
То, как СССР встретил войну, во многом, как мне кажется, объясняется природой сталинского режима. О нем, конечно, можно сказать много, но мою тему определяет одно. Живя войной и с войны, конструируя реальность в милитарных категориях, он внутренне не был готов к противостоянию с реальным врагом. При всех своих ужасающей жестокости и диком прагматизме, умении ставить и решать большие задачи (от Великих строек до Большого террора), режим 1930-х – начала 1940-х был насквозь иллюзорен: являлся фабрикой социальных грез, производя иллюзии и заставляя все население участвовать в их распространении16. Это лучше всего демонстрирует культивировавшийся в те годы образ войны. Людям годами навязывалось сознание того, что страна обречена на войну («война на пороге» – советское предвоенное клише). Подготовка к этому неизбежному испытанию – одно из главных оснований легитимности режима. И он действительно готовился воевать, но явно не планировал Отечественной. Поразительно, насколько безответственно несерьезный, облегченный, опереточный образ войны предлагал ее будущим участникам тот, кто их к ней вел: «победоносная война» «малой кровью» «на вражеской территории».
Людей настраивали не на реальную, а на иллюзорную, «экранную», «постановочную» войну17. А в 39-м ее вообще «отменили» – внезапно, вдруг, без объяснения причин: союз с Германией. Главный враг исчез – остались навязанная пропагандой уверенность в интернационализме и солидарности с СССР немецкого рабочего, а также вполне понятные недоумение и вопросы у рабочего (и не только) советского, гасившиеся внутренней самоцензурой18. Зимой 1939–1940 гг. провели – и для массового «зрителя» вполне успешно – репетицию «маленькой победоносной войны». Все как-то совпало с 60-летним юбилеем товарища Сталина. Атмосфера праздника укрепляла уверенность советских людей в светлом будущем. Начало Второй мировой, по существу, игнорировалось. Завороженный иллюзиями режима, СССР не заметил реальности истории. Жил как бы в параллельном времени, в другой действительности.
И этот импульс – отключиться от реальности – явно шел от вождя. Система, сведенная к одному человеку (Творцу – в том смысле, что он и являлся ее Истиной), была исключительно чувствительна к его представлениям, настроениям, анализам и прогнозам, решениям, кадровой политике. Это неизбежно и естественно – он так ее и творил: для и под себя. В 30-е в своей стране вождь шел от победы к победе, отчего наступило своего рода «головокружение от успехов». Будущее виделось ему в проекции прошлого – без поражений. Это касалось и «большой» (внешней) политики, и войны.
Утвердившись у власти и строя свой порядок на разжигании гражданской войны, Сталин, видимо, полагал, что способен на столь же успешное управление европейскими конфликтами, режиссирование европейской войны. Кстати, он мыслил ее по известному ему примеру – Первой мировой; вероятно, хотел имперского реванша, наказания победителей (они же: интервенты) – и руками Гитлера, и вместе с ним (в форме «анти-Антанты–2»: советско-германского или советско-итало-германского блока). В «перманентной» войне Сталин явно видел больше пользы, чем в ленинско-троцкистских безумиях – всемирной, «перманентной» и т.п. революции. Образ (как и практика) войны «малой» были рассчитаны в основном на внутреннее потребление. Представляется, что наш вождь был так же захвачен идеей передела мира в новой большой (мировой) войне, как и немецкий19. Вот только война – всерьез, не по «периметру», а с другими претендентами на мировое господство – виделась ему в 1930-е годы отдаленной перспективой. СССР должен был провоцировать, пользоваться плодами, «наращивать мощь», но не участвовать. Иначе политика Сталина (и внутренняя и внешняя) кануна войны (1936–1941) необъяснима, не имеет внутренней логики. Вождь решил, что время еще есть, – и люди, страны, история должны были ему подчиниться. Ведь научилась же соответствовать его представлениям о действительности его страна.
Тем ужаснее для СССР и Сталина была катастрофа 41-го года. Показательно, что пока страна умирала, попадала в плен, оккупацию, страдала от бомбежек и не могла поверить в происходящее, «ее все» («ум, честь и совесть») просто исчез – из публичного пространства, которое до того никогда не покидал и всегда центрировал на себя20. «Хитрый режиссер собственной славы, Сталин спрятался в дни поражений. Он появится лишь после Сталинградской битвы» [14, с. 379–380], – указывает исследователь. Справедливости ради заметим, что это не единственный национальный лидер, ушедший в «тень» на первом этапе Отечественной. Стратегию самоизоляции избрал во времена поражений 1812 г. Александр I, причем ее исследовательское объяснение – ожидание Божьего суда21 – представляется по меньшей мере неполным. Личные вера, мистицизм, страх и отчаяние персонификатора – дело второстепенное; главное в том, что военных поражений не терпит русская власть. И это «ощущение» / опасность – иного порядка, чем нетерпимость к ним любой другой власти.
Нашей власти поражения противопоказаны – как сигнал уязвимости, нетотальности, «несверхъестественности»; они лишают ее субстанциальности. Милитарный властецентричный социальный порядок отрицает неудачливого в этом смысле персонификатора. Человек власти боится и бежит от поражений, не желает нести за них ответственность, переадресуя ее другим – своим полководцам (в сталинские времена, чтобы понести «заслуженное наказание», им уже не надо было иметь немецкие фамилии), солдатам, народу. Власть оставляет публичное пространство («прячется» в «тени»), чтобы дождаться перелома к победе. На публику же выходит в героическом ореоле; в его блеске поражения забываются (растворяются в «тени» побед).
Вот здесь, пожалуй, ответ на главный для власти (и режима) вопрос 41-го года: что произошло со Сталиным в начале войны? Почему он не стал единственным выразителем идеи и организатором практики Отечественной (ведь именно этого ожидали от власти, приучившей народ к мысли, что она здесь – всё)? Впервые начавшуюся войну Отечественной назвал 23 июня 1941 г. в «Правде» один из немногих в тогдашней партии большевиков с дореволюционным стажем, верный сталинец Ем. Ярославский [40]. Он ссылался при этом на войну 1812 г., но явно использовал и пропагандистский опыт Первой мировой. И это знаковый момент. Назвать решающее для страны событие и тем самым придать ему смысл в «Сталин-системе» мог только один человек – Сталин. Потому что (повторю) он и был системой. Сталин этого не сделал. И верховным главкомом назначил себя только 8 августа. Сталин «отпустил» войну, не имея возможностей управлять ею так, как привык – подавляя, уничтожая, контролируя и направляя всё и вся. Это значит, что с началом войны система стала меняться: от «Сталин-системы» – к сталинской (из множества вождей, «сталинцев», тех кадров, которые решали все, состоявшей).
Когда началась война, Сталин не был вождем сражающегося насмерть народа – только персонификатором власти, режима. Причем власти, неожиданно лишившейся перспективы, утратившей самоуверенность, режима, не выдержавшего испытания войной. В ситуации режимного паралича война пошла самотеком, потребовав от всех и каждого самостоятельных решений, самостоятельного выбора. Мобилизация на Отечественную имела значительный элемент стихийности, самодеятельности. В особенности это касается мобилизации символической, цель которой – поднять население на отпор врагу, а главные инструменты – патриотическая риторика и патриотические воспоминания.
В первые же дни и месяцы 1941 г. патриотическое массовое искусство (песня и кино, стихотворение и газетный очерк, плакат, карикатура и др.) сформулировало важнейшие темы, обнаружило жанры и сюжеты, способные дать наибольший пропагандистский эффект. Они были не интернационалистскими, классовыми, социалистическими, а народно-освободительными. Страна запела «Священную войну» (определение войны как «священной / отечественной / народной» и указание на то, при каком условии она обретает такое качество: «Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой»; «Пусть ярость благородная вскипает как волна» – главная находка военного масскульта); откликаясь на зов Матери-Родины, записывалась «добровольцем»; вспомнила о провале исторической попытки внешней агрессии (например, в популярной короткометражке «Случай на телеграфе» из августовского 41-го «Боевого киносборника» Наполеон посылал депешу Гитлеру: «пробовал зпт не советую тчк»). Отношение к врагу формировала «публицистика ненависти»; ее определяли «Убей немца!» И. Эренбурга (и симоновский рефрен «Убей его!»), «Призываю к ненависти» А. Толстого и др. Первые же «Боевые киносборники», вышедшие в августе 1941 г., сопровождали экранные лозунги: «Все для фронта! Все для победы!», «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» [14, с. 377–378].
И все это вовсе не результат единой, спланированной «сверху» кампании, жесткого и четкого госпартийного руководства, но выражение «низового», массового, народного порыва – на «смертный бой не ради славы, / ради жизни на земле». Деятели официального, соцреалистического искусства 30-х, продвигавшие его в массы в соответствии с директивами партии и лично вождя, не принадлежали больше агитпропу в самом пошлом значении этого слова. Они не только (а может, и не столько) служили режиму, но нашли поле своего сражения в Отечественной: стали голосом воюющего и погибающего народа. А слова / образы обнаруживали и в дне сегодняшнем, и в прошлом.
Военный масскульт (повторю: будучи подцензурным и в этом смысле официальным, он не остался пошло и подло пропагандистским22), призванный «мобилизовать население на упорный, почти каторжный труд и исключительные проявления личного героизма», был эффективен потому, что резонировал с «естественными человеческими стремлениями выжить, победить, отомстить» [19, с. 329]23. Чрезвычайный мобилизационный эффект имело «натуралистическое» искусство, фиксировавшее горе и смерть, горькую правду войны. Это касается прежде всего кино, отданного в 30-е во власть «бесчеловечного владычества выдумки» (Б. Пастернак). «Страдание, боль, разлуки, потери, слезы, голод, страх – все это, изгнанное с экрана в 1930-х, вынуждена была легализовать война» [14, с. 382]. Жесткая военная цензура, не допускавшая в кадр зрелище поражений и смерти, капитулировала перед страшным натурализмом «Разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» (1942), «Она защищает Родину» (1943), «Радуги» (1944) [там же, с. 383–387] То было «кино ненависти», обличавшее врага и звавшее к возмездию. Из соединения народного чувства и патриотического масскульта в первые месяцы войны родился «стихийный яростный патриотизм»24.
Имело массовое искусство тех лет и другую, психотерапевтическую функцию. Военные литература, кино, музыка давали людям нравственную поддержку; создавали то смысловое пространство, где получали объяснение переносимые ими страдания. Например, легализованную войной любовную лирику М.О. Чудакова сравнивает с фронтовыми «100 граммами», которые выдавали солдатам перед боем [35, с. 239]. Ю.С. Пивоваров считает, что «Жди меня», «Темная ночь» (знаменитая песня из фильма «Два бойца», 1944) и проч. заменили людям, порвавшим связи с церковью / Богом, молитву; стали своего рода военным символом веры. Страстное, отчаянное, всенародное ожидание Победы отчасти разряжалось в условно-счастливом, «праздничном» кино (одна из его вершин – «В шесть часов вечера после войны», 1944). Охватывая всех и обращаясь к каждому, военный масскульт в лучших своих проявлениях стал высоким освобождающим искусством, преобразующим системную «человекоединицу» в личность.
Неожиданно быстрые и поразительно точные находки патриотического масскульта «брались» не только из личного таланта авторов или переданного ими народного инстинкта, обостренного войной. Они шли из самого естества национальной культуры, переработанного ею опыта, проводниками которого являлись культурные деятели. Одно это доказывало, что не все связи с прошлым были разорваны, не все забыто и разрушено. Культурная, «ментальная» мобилизация на Отечественную в 1941–1942 гг. напомнила о том, что история народа – не открытое, ничем не защищенное, «необработанное» поле («пустошь») для тотальной переделки в интересах текущей политики и текущих политиков, а источник национальных сил, питающий надежды нации на будущее.
С первых же дней война была помещена в историческую перспективу, рассматривалась сквозь призму образов прошлого, отчасти уже известных советскому человеку с довоенных времен. Но именно Отечественная связала их с живой жизнью, вплела в настоящее. «На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами Кремля в Новгороде?» [39], – писал в 1942 г. И. Эренбург. Исторические отсылки во множестве встречаются в публицистике А.Н. Толстого. Вот только один пример: «Навстречу тотальной войне встала сила народной войны. Навстречу развязанному зверю встала собранная, воодушевленная любовью к родине и правде, нравственная сила советского народа… Вот я сижу на высоком и крутом берегу Волги, у подножия памятника Валерия Чкалова… Направо от него – древний <Нижегородский> белый кремль… Отсюда в самую тяжелую из годин поднялся народ на оборону государства» [32, с. 492].
В 1941-м (да и в 42-м) при дефиците побед и новых героев патриотические воспоминания имели особое значение. Истории о национальных победах стали важнейшим фактором мобилизации. Их сила в том, что они указывали на возможность не просто выстоять, но и победить, «приложить» к безнадежной, казалось бы, ситуации победную логику. Наиболее «эффективными» в этом отношении были события 1812 и 1612 гг., поэтому и вспоминали их чаще. Воспоминания же неизбежно «взывали» к мифу священной войны. И здесь срезонировали два процесса. Ужас тотальной войны на уничтожение дал народу ощущение «последней минуты», которое «запустило» процесс мифологического осмысления происходившего. Отсылка же к соответствующему историческому опыту и связанной с ним информационно-символической «базе» актуализировала тот настрой на Отечественную (справедливую и освободительную), который столетиями реализовывался в истории, формировался в мифе и мифом.
Миф священной войны приобрел тогда как бы практическое значение, предлагая «правильное» (в рамках нашей культуры и в той ситуации) объяснение происходившего и «правильное» решение. Он настраивал на тотальную войну, сводя весь мир и все жизни к единственному противостоянию: «мы» – «они». Миф смирял с безумием, неизвестностью, трагедией первых месяцев войны: все дело в вероломном нападении («мы взяты врасплох»), в силе агрессора. Наконец, миф давал ощущение, что отступление, оккупация, поражения первого этапа войны при всем их ужасе еще не конец – главное будет потом. И в то же время «предуказывал», что расплата за это «главное» будет страшной. В мифологизированном народном сознании жило предощущение невиданной жертвы, которую потребует священная война (более того, понимание, что только жертвенность народная и делает ее священной). Не будем, конечно, забывать, что в советской политической мифологии в 1920–1930-е формировался (и довольно успешно) культ жертвенности25. Советского человека готовили к самопожертвованию – сначала во имя «светлого будущего всех трудящихся», потом – чтобы «жила… страна родная». Это не в последнюю очередь помогло ему победить, выстрадать победу. Но в конечном счете с безмерностью цены могло примирить только одно – народная вера в неизбежность Чуда Победы26. И она тоже брала начало в мифе, им поддерживалась.
В целом можно сказать, что миф священной войны, сама русская культура сыграли в 1941–1942 гг. свою патриотическую, мобилизационную роль. Ни революционно-нигилистическое отношение к традициям в 1920-е, ни сталинская державно-вождистская переделка истории не смогли добить живительную «генетическую» связь человека, людей, народов, живших в СССР, с многовековой культурой. Война, а не исторический конструктивизм режима 30-х (по нещадности, враждебности к национальной истории не имеющий аналогов) оживили то ощущение, какое только и может быть признано патриотическим: эта земля наша и мы за нее отвечаем.
Первые пропагандистские, мобилизационные действия власти, эпизодические и бессистемные, не могут быть поняты и адекватно оценены вне учета этого контекста, этих обстоятельств. Власть больше не указывала направление народного движения – оно обозначилось и без нее. «Братья и сестры» / «друзья мои», определение характера войны как Отечественной, великой и всенародной, справедливой и освободительной, знаменитый исторический ряд героев – спасителей Отечества, возникшие в сталинских обращениях к народу 1941 г. [см.: 29, с. 7–34], – не первоосновы (отправные моменты), а лишь элементы военного патриотического проекта. В деле его формирования власть / вождь оказались ведомыми; направлялись же они той силой, о которой со времен революции основательно подзабыли – народом (но не его инстинктом саморазрушения, использованным ими в 17-м, а волей к самосохранению, питаемой неразрывной связью с пространством-Отечеством).
Это предполагало основательную перестройку не только властной риторики и символики, но и политики (внутренней и внешней). Пусть некоторые меры и означали для режима проблемы в будущем (например, смещение центра тяжести в руководстве от партийных, идеологических к государственным, т.е. собственно бюрократическим, органам27, «свертывание» привычной – социалистической, интернационалистской – основы идеологии и возрождение церкви, этого идеологического конкурента, союз с западными демократиями и др.), в войну, особенно в период поражений, они были необходимы. Режим формировал условия, в которых люди могли бы демонстрировать ему даже не пассивную лояльность, а приверженность, защищая его вместе с Отечеством. Это прежде всего означало признание приоритета идеи Отечества, национально-патриотических ценностей над режимной (уже не «марксистско-ленинской», а сталинско-ленинской) идеологией и «перепроектирование» идентичности – отказ от социальной, классовой в пользу национальной (национально-государственной, народно-державной). Только так можно было «идентифицировать свои интересы с интересами народа и возглавить патриотический подъем»28.
Бытует мнение, что такая трансформация уже состоялась до войны, в середине 1930-х годов, и национальная (точнее, национал-имперская) идеология, преемственно связанная с дореволюционным имперским проектом, стала идеологическим основанием сталинизма29. Сказать, что это не совсем так, значило бы не сказать ничего. Очевидно, что до войны сталинский режим пытался синтезировать две идеи – социальную (социалистическую) и национальную (в традиционно российском, державном изводе)30. Характер синтеза был обусловлен спецификой режима – в нем соединялось несоединимое: акцент на национальное (т.е. традиционное) сочетался с «социалистической» переделкой «пережитков старого мира», а интегративная национальная идея – с разобщающей идеологией классовой борьбы, главное требование которой – «убей врага!» (как вне, так и внутри страны). На практике получалась совершенная нелепица, последовательное извращение каждой из идей.
Социалистическое переустройство было неосуществимо без национальной солидарности / сплочения, а велось в режиме перманентной гражданской войны. Устойчивого ощущения общности в таких условиях возникнуть не могло. Советский народ 30-х – лишь пропагандистское режимное клише. Идеологией «строительства социализма в одной стране» были в одно и то же время национализм / национальное (это естественно: то, что получалось, строили все же во вполне – исторически, географически, культурно – определенном пространстве) и борьба с ним. Интегративная идея «социалистического национализма» в большевистском, ленинско-сталинском, варианте означала «коренную переделку» традиционного русского человека и его жизненного уклада. Это демонстрировала национальная практика социалистического строительства – прежде всего коллективизация и культурная революция. Только в корне «переделанная» (т.е. утратившая важнейшие признаки, качества национального) нация могла считаться «в основном социалистической». Конструируя и культивируя национализм, режим в то же время уничтожал его естественную основу. В качестве же традиционного сохранялось только то, что было полезно для режимной стабильности: культура несвободы и репрессивности, ориентации на подчинение / «подданичество», иерархичность, милитарность, страх другого и т.п.
Таким образом, от власти в 1930-е годы одновременно поступали как интеграционные, так и дезинтегрирующие импульсы, что вело к социальному расстройству (перманентному кризису – психологическому, этическому, культурному). Тем не менее следует признать, что именно в конце 1930-х обозначился идеологический проект, который был способен обеспечить советской власти общественную поддержку. Наибольший эффект давало самоотождествление с патриотизмом, отсылающим к прошлому, национальным традициям, и с прогрессом, т.е. революционным социальным проектом, образом социалистического и интернационального будущего (создание «светлого завтра» для всего человечества – это завораживающе высокая претензия)31. Но в 30-е проект был именно обозначен, последовательно же не реализовывался. Режим применял его фрагментарно, ситуативно, с циничным прагматизмом: энтузиазм строителей пятилеток направлялся и поддерживался обещанием социализма и его ожиданием; в войну делалась ставка на патриотизм.
«Развитой сталинизм» есть сложное соединение примитивных, противоречащих друг другу стратегий «переработки» исходной социальности. И национально-патриотическая идея служила той же цели – «переработать» в интересах режима32. Скрепляющим началом для всех этих конфликтующих между собой стратегий могло стать лишь принуждение (тотальное государственное насилие, угроза насилия, страх перед насилием). Только примитивнейшее управленческое средство способно заставить работать социальный механизм в крайне травматичных для него условиях. Однако военная реальность настоятельно требовала иных средств, иных стратегий. Первоочередной была нужда в согласии и определенности: режим и народ «договорились», признав защиту Отечества единственной ценностью, основой всеобщего сплочения и мобилизации. Это договор на уровне высоких, «предельных» даже ценностей, существо которого очень точно передал потом Б. Окуджава: «Мы за ценой не постоим». Он скреплен патриотизмом стоявших насмерть, но не сдавшихся. На такой высоте невозможно было держаться долго; военный патриотический проект был обречен поэтому на краткосрочность, подлежал пересмотру после войны.
Из этого «договора» и родился властенародный режим, который только и способен побеждать в Отечественных. Местом рождения стал Сталинград (хотя и Москва была важнейшей вехой на этом пути)33. Не было больше – в высоком, высшем даже смысле – отдельно власти, отдельно народа; они слились – и устремились к общей Великой Победе. (То же, замечу, случилось в 1812 г. после освобождения столицы.) Одновременно произошло взаимопроникновение режимного и народного. Режим растворился в народном, народ в советском (одно из внешних проявлений этого – массовое «хождение» фронтовиков в партию). Произошел «коренной перелом» – не только военный, но и ментальный, имевший важнейшие социальные последствия.
Война 1941–1945 гг. стала самым тяжелым потрясением в нашей современной истории, изменившим и народ, и власть. Трансформировались сами основы существования режима. Величие и трагедия Отечественной высветила его неправду, дав ему в то же время подлинную, живую легитимность. Причем легитимность традиционную, укорененную в культуре: сражавшейся вместе с народом и во главе его власти. Народ же обрел в Отечественной собственную идентичность – тоже через связь с историей, традицией. В войне сформировалась основа «властенародного» единства; ею были заложены основы «новой исторической общности людей».
Естественно возникал вопрос: что будет дальше? И здесь следует учитывать несколько обстоятельств. Советские люди предвоенного «образца», привыкшие к чрезвычайщине, репрессивности, к существованию на грани жизни и смерти, воспитанные войной и для войны, выдержали ее нечеловеческое напряжение. И надорвались – после Великой Отечественной война для нас возможна только как воспоминание. В рамках послевоенного порядка запустился процесс разложения раннесоветской мобилизационной системы.
В войне и войной закончился «развитой сталинизм» (1929–1941); послевоенная политика, выглядевшая как его апофеоз, в действительности – лишь арьергардные бои. Их смысл – задавить, скрыть внутреннее перерождение режима34. После смерти Сталина социальная «демобилизация» пошла полным ходом; ее сдерживала только «холодная война», милитарная гонка двух систем. Но вектор режимной трансформации вполне определился: от военного интереса – к гражданскому, от системного – к частному, от общего – к личному (мещанско-обывательскому обустройству), который в той системе мог реализоваться только как антиобщественный. Послевоенное советское общество перестало понимать себя как единый военный лагерь – вооруженную «эсэсэрию» в кольце врагов. Оно хотело не выживать, готовясь к войне и жертвуя собой во имя победы, а просто жить. Но логика социальной самореализации осталась прежней: каждый сам за себя – и против всех. В мирной жизни, потребительско-обывательской реальности действовали «понятия» гражданской войны.
В то же время в Отечественной накопился и ждал реализации эмансипационный потенциал. Это неизбежно: войны такого масштаба и накала не выигрывают люди-«винтики», серая масса под дулом заградотрядов. (Карательно-принудительный инструментарий, созданный личной инициативой Сталина, не способен сыграть решающей роли в такой войне. Нельзя принудить воевать, как невозможно сконструировать Отечественную «сверху» – это показал опыт Первой мировой.) Во «вторую Отечественную» народонаселение («популяция», по терминологии «Русской Системы»35) выросло в народ; из подлинно патриотического порыва родился гражданин. Народ-победитель / солдат-гражданин, ощутив себя субъектом истории, вершителем исторических судеб мира, естественно захотел свободы, сужения зоны властного контроля и насилия. В конечном счете двойной социальный запрос – на свободу и потребление – и уничтожил сталинский порядок.
В связи с войной возникла и проблема культурного, ментального характера: как о ней помнить. Ощущение себя победителями определяло послевоенную – живую, «участническую» – память советских людей. Но она вовсе не была победной, не центрировалась на все объясняющий и оправдывающий результат. Напротив, нестерпимая боль войны, а также тяжесть и беспросветность (не экономическая только) послевоенной ситуации заставляли обостренно, мучительно переживать проблему цены Победы. Кроме того, то была память, как бы «стремившаяся» к забвению (что, видимо, инстинктивно чувствовала и использовала в своих интересах сталинская власть). Пережившие войну ощущали ее как ужас, трагедию, главную травму своей жизни. Они хотели забыть – перекрыть войну миром.
И, наконец, это пример памяти победителя, которому не воздали по заслугам. Послевоенное двадцатилетие прошло под знаком недооцененности народной Победы – власть «забыла» о том, что имеет дело с народом-победителем, отказала в достойной его награде. Видимо, прежде всего потому, что боялась быть призванной этим победителем к ответу за те непомерные военные жертвы, что ему пришлось принести – в том числе по ее вине. Это подвергало эрозии военное единство народа и власти, естественное и неизбежное в эпохи наших Отечественных.
Литература
1. Аймермахер К., Бомсдорф Ф., Бордюгов Г. Предисловие // Мифы и мифология в современной России. – М.: АИРО-ХХ, 2000. – С. 10–11.
2. Алексеев В.П. Народная война // Отечественная война и русское общество: В 7 т. – Т. 4. – М.: Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – С. 228–230.
3. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 384 с.
4. Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. – М.: МИК, 2000. – 856 с.
5. Голдинский И.Е. Воспоминания старожила о войнах 1807–1912 гг. // 1812 год в воспоминаниях современников. – М.: Наука, 1995. – С. 170–177.
6. Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 46–57.
7. Гудков Л. Идеологема «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 552–649.
8. Гудков Л. Победа в войне: К социологии одного национального символа // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 20–58.
9. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 389 с.
10. Драгунский Д. Нация и война // Дружба народов. – М., 1992. – № 10. – С. 56–78.
11. Дубин Б.В. «Кровавая» война и «великая» Победа: О конструировании и передаче комплективных представлений в России 1980–2000-х годов // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 47–64.
12. Дубин Б. Память, война, память о войне: Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 140–155.
13. Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. – СПб.: Алетейя, 2001. – 640 с.
14. Зоркая Н. Визуальные образы войны // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 377–387.
15. Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография. – 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 2009. – 328 с.
16. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – М.: Мысль, 1993. – Кн. 3. – 558, [1] с.
17. Клямкин И. Демилитаризация как историческая и культурная проблема // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 261–275.
18. Клямкин И.М. Постмилитаристское государство // Российское государство: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2007. – С. 11–28.
19. Кукулин И. Регулирование боли. (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 324–336.
20. Левин М. Советский век. – М.: Европа, 2008. – 680 с.
21. Левинсон А. Война и земля как этические категории // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 104–107.
22. Левинсон А. Люди молодые за историю без травм // Неприкосновенный запас. – М., 2004. – № 36. – С. 61–64.
23. Ловушки демилитаризации: Обсуждение доклада И. Клямкина «Демилитаризация как историческая и культурная проблема» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 275–306.
24. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с.
25. Миллер А. Россия: Власть и история // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3/4 (46), май–август. – С. 6–23.
26. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. – М.: РГГУ, Науч.-изд. центр «Наука для общества», 1995. – 220 с.
27. Память о войне в современных российских СМИ // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 353–368.
28. Розанов В. Последние листья (запись от 12 октября 1916 г.) // Розанов В. Собр. соч. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 2000. – 380, [2] с.
29. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. литры, 1942. – 51 с.
30. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – 5-е изд. – М.: Гос-политиздат, 1953. – 207 с.
31. Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. – М.: Наука, 1980. – 312 с.
32. Толстой А.Н. Нас не одолеешь! // Толстой А.Н. Собр. соч. – В 10 т. – М., 1961. – Т. 10. – С. 491–493.
33. Топорков А.Л. Миф: Традиция и психология восприятия // Мифы и мифология в современной России. – М.: ФИРО–ХХ, 2000. – С. 39–66.
34. Хёслер И. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – № 2/3 (40/41). – М., 2005. – С. 88–95.
35. Чудакова М.О. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. – М., 2002. – № 58. – С. 223–259.
36. Шеррер Ю. Германия и Франция: Проработка прошлого // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3/4 (46), май–август. – С. 89–108.
37. Шишкин В.А. Власть, политика, экономика: Послереволюционная Россия (1917–1928). – СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. – 400 с.
38. Шлёгель К. Постигая Москву. – М.: РОССПЭН, 2010. – 311 с.
39. Эренбург И. Свет в блиндаже // Эренбург И. Собр. соч.: В 9 т. – М.: Худ. литра, 1966. – Т. 7. – С. 674–675.
40. Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа // Правда. – М., 1941. – 23 июня. – С. 2.
2
Ею занимались славянофилы и некоторые историки, но сделать ее мейнстримом науки и общественного сознания не удалось.
3
«Историческая политика» – многозначный термин, употребляемый в разных значениях. Некоторые исследователи видят в исторической политике «набор практик, с помощью которых отдельные политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие, отличающихся в посткоммунистических обществах особым своеобразием» [25, с. 10]. Существует другая точка зрения на историческую политику: ее предлагают не сводить к официозной трактовке истории, но трактовать в широком смысле – как процесс «формирования общественно значимых исторических образов и образов идентичности… которые реализуются в ритуалах и дискурсе, претерпевая изменения со сменой поколений или по мере эволюции социальной среды» [36, с. 90]. В этом значении «историческая политика» практически неразличима с «политикой памяти» – так называют практики общественного бытования истории. Говоря об исторической политике, я имею в виду не «политику памяти» вообще и не использование истории в политических целях, а более частный случай: государственную политику «формирования» общественного исторического сознания и коллективной памяти, государственную пропаганду официальной версии истории, влияние государства на политику памяти и исторические исследования с целью собственной легитимации и укрепления господства.
4
Одной из причин появления этого текста было удивление тем, какую власть над умами многих наших людей имеют слова «миф», «фальсификатор» – в особенности в отношении Отечественной войны.
5
Миф – «один из древнейших, опробованных временем типов социального кодирования, свойственный не только традиционному обществу, но и всем этапам развития человеческой цивилизации. Мифы “живут” и “вымирают”, но и заново возникают, и степень их значимости все время меняется» [4, с. 10–11]. Начало изучения мифа и мифического (мифологического) сознания было положено трудами Э. Дюркгейма, А. Юбера, М. Мосса; классический статус ему придали работы М. Элиаде, Г. Беккера, С. Брэндона и др. Заметный вклад в развитие темы внесли российские авторы – Е. Мелетинский, С. Аверинцев, В. Иванов, С. Токарев, В. Топоров и др.
6
Милитаризация, в интерпретации И.М. Клямкина, «это выстраивание не только военной, но и мирной повседневности по военному образцу, это насаждение определенного образа жизни» [23, с. 275]. Здесь важно учитывать следующий момент, на который указал при обсуждении концепции Клямкина А. Пелипенко: «Милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах».
7
Этот термин встречается в некоторых современных исследованиях, посвященных Отечественной войне. Немецкий историк И. Хёслер, например, отмечает: «Наряду с мифом об основании Советского Союза вторым столпом легитимности стал миф о “священной войне”» [34, с. 90]. Российский исследователь И. Кукулин пишет: «Война стала легитимирующим “мифом основания” – она-то и должна была обосновывать советскую идентичность» [19, с. 333]. С конца 1980-х годов широко употребимым стало понятие «государственный миф о войне» – это основополагающий элемент советской исторической мифологии, подменявшей реальную историю [27].
8
Попутно заметим, что «слово… Родина (в значении “родная страна”) первым начнет употреблять Г.Р. Державин лишь в конце XVIII столетия» [9, с. 203].
9
Заметим, что категория «священная война», активно использовавшаяся в текстах о 1812 г., взята из лексикона западной культуры. В круге этих материалов тиражировались также метафоры «Россия – Священная империя славянской нации», «Освобождение Европы», русский император – «освободитель народов» [3, с. 216, 217].
10
Современники, кстати, видели связь двух вторжений – монгольского и французского: «Отечество стонет под игом новых татар», – писал патриотический журнал «Сын Отечества» [цит. по: 3, с. 169]. У одного мемуариста известие о появлении французских войск в пределах империи вызвало воспоминание о том, что «Россия была некогда подвластна татарам»; он уже «воображал себя пленником», и «эта участь устрашала» его [5, с. 172]. По аналогии с нападением татар наполеоновская агрессия воспринималась как нашествие – неуклонное, неумолимое, ведущее к установлению «ига»: «Быстрое занятие неприятелем городов внушало опасение, что этот поток ничто не остановит и что он скоро дойдет до нас и поглотит» [там же, с. 173].
11
Интересно, что последний всплеск текстов об Отечественной войне пришелся на начало ХХ в. К 100-летию 1812 г. было собрано и записано немало «передававшихся из поколения в поколение, бытовавших безымянно-устных повествований, близких к историческим преданиям фольклорного типа» [31, с. 63–64]. То есть именно этот пласт источников был в значительной степени мифологизирован. Ими транслировалось то представление о войне, которое утвердилось в культуре, став своего рода нормативным. Оно воспроизводилось и в научных исследованиях [см., напр.: 2 и др.]. «Народная», «Отечественная» – так вспоминали о войне 1812 г. накануне Первой мировой.
12
Управляющий III Отделением Императорской канцелярии и начальник штаба корпуса жандармов граф А.Х. Бенкендорф вспоминал: «Довольно долго русское общество не желало признавать, что Москву сожгли сами русские: еще в начале 1813 г. большинство было убеждено, что московский пожар – дело рук французов. Но с течением времени… полностью изменило свой взгляд.., и “французское вандальство превратилось в жертву, принесенную русским народом… для спасения отечества”» [цит. по: 13, с. 283].
13
Неслучайно, более того, закономерно, что «победа стала основой для официального утверждения легитимирующего мифа о правильности российской монархии и обеспеченного ею социального порядка» [3, с. 223].
14
В.О. Ключевский отмечал важную перемену, «совершившуюся в том поколении, которое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая космополитическая сентиментальность отцов превратилась… в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Ключевский называет это «настроением… поколения, которое сделало 14 декабря» [16, с. 420].
15
Хотя попытки такого рода предпринимались уже во время войны. В «Сыне Отечества», например, для «обращения к простонародью» использовались возможности фольклорной речи и сатирических картинок. Военные истории «стилизовались под народные былины или сказания, сопровождались а-ля лубочными иллюстрациями» [3, с. 160, 161].
16
Эти «грезы» (т.е. тиражные творения социальных конструкторов-соцреалистов) суть самоописания, самопредставления системы. Между ними и реальностью был, конечно, гигантский зазор. Но в том, как система себя описывала, проявлялось ее существо. Она выживала, производя двойную реальность, транслируя идеальные образы себя (фиксировали, какими должны быть народ, власть, их ценности и быт). В «совершенно искусственном, воображаемом сюжетном пространстве» «действовали условия, невидимые, скрытые враги и герои, возникали смертельные угрозы всему целому и избавления от них. Но весь этот мир был принципиально непроверяем, неподконтролен частному опыту, поскольку… держался на непреодолимом разрыве между планом коллективных событий и повседневной жизнью» [7, с. 614].
17
Не случайно главным инструментом продвижения образа в массы являлся киноэкран. По мнению исследователей, кино тех лет, «предвоенный сталинский киноэкран сливался с действительностью, замещал ее… Сознательно высветленное и тщательно профильтрованное киноизображение своей исконной документальностью и убеждающей фактографичностью уверяло, что “жить стало лучше, жить стало веселее” (Сталин)». В рамки «экрана-праздника» 1930-х легко вписалось кино «оборонной тематики». Даже в первые месяцы войны «на киноэкране продолжалась военная игра, где деревенские старушки и дети разоблачали переодетых германских шпионов, в оккупированных городах Восточной Европы действовало мощное подпольное Сопротивление, а в любом фронтовом поединке советский боец легко побеждал неловкого врага» [14, с. 379, 380]. Исключение составлял, пожалуй, только «Невский» (с его «Вставайте, люди русские!»), но он «заработал» во всю силу уже во время настоящей войны.
18
«Советские граждане, – как точно подметили современные исследователи сталинизма, – выработали тонкое искусство укрывать свои частные сомнения или свою внутреннюю сущность за публичным фасадом конформизма. Еще больше людей просто не разбирались в своих позициях» [15, с. 81].
19
При этом для Сталина союз с Германией был явно предпочтительнее войны с нею. Причина – не только в близости природы режимов (антидемократичности, репрессивности, милитарности, популизме) и их лидеров (типа лидерства). Сталин видел сходство в задачах и потенциалах двух стран. Так, в убийстве Рема и других штурмовиков он усматривал окончание «партийного» периода в истории немецкого национал-социализма и начало «государственного» [15, с. 320]. Вероятно, тем же был для него 1937-й год. А после войны Сталин отмечал, что германский и советский народы «обладают наибольшими потенциями в Европе для свершения больших акций мирового значения» [цит. по: 4, с. 453].
20
Историки кино отмечают: в первый период войны «на экране почти нет изображений Сталина. Ни в хронике, ни даже на портретах и плакатах внутри кадров…» [14, с. 379]. До ноября 41-го – только одно обращение: на радио, 3 июля, к «братьям и сестрам» [см.: 29]. Показательно, что реального вождя (как и настоящих полководцев, героев труда и т.д.) в деле мобилизации на Отечественную заменили звезды экрана – даже не киноактеры, а экранные образы, киногерои, бывшие кумирами советской толпы: Чапаев – Б. Бабочкин (киноновелла «Чапаев с нами», 31 июля 1941 г.), Максим – Б. Чирков («Боевой киносборник № 1»), почтальонша Стрелка – Л. Орлова (киносборник № 4) и др. [см.: 14, с. 379]. Фактором мобилизации на реальную войну стала иллюзия: персонификаторы образа изобильной, счастливой, свободной советской мирной жизни теперь поднимали народ на отпор врагу, чтобы отстоять эту жизнь. Бóльшего авторитета, лучшего «агента влияния» в стране победившей иллюзии не было.
21
«В версии православной церкви русский человек в таких обстоятельствах должен терпеть и молиться. Оттого-то Александр I был пассивным наблюдателем происходящего. И он действительно не принимал участия в летней кампании: ждал решения своей личной судьбы, судьбы подданных и… молился. Перелом в ходе войны был воспринят им как божественный приговор Наполеону и прощение России. Лишь после того, как священное решение стало очевидным, император почел себя вправе стать участником военной эпопеи» [3, с. 176].
22
Например, советское кино военных лет, «начав как агитационно-пропагандист-ское», стало «народным киноискусством» [14, с. 387[.
23
Автор, кстати, указывает на изменение с начала войны цензурного режима, благодаря чему только и могли появиться в печати стихотворения К. Симонова, военные песни, поэма А. Твардовского «Василий Тёркин» и др. [19, с. 330].
24
Определение И. Кукулина [19, с. 329].
25
«С политической мифологией связан особый механизм управления людьми: они должны не просто бояться наказания и подчиняться приказам, но искренне и глубоко верить в необходимость и справедливость такого положения вещей, которое обрекает их на жертвы и лишения. Советская литература и искусство талантливо разработали такую тему, как этика и даже эстетика жертвы… Предполагалось, что жертвы не только оправданы, но и необходимы, причем более всего ценилось принесение в жертву самого себя – самопожертвование» [33, с. 48].
26
Русский народ, вообще, приучен к идее чуда (невозможное, если в него верить, обязательно свершится). В народной культуре господствовало сказочное, мифологическое, утопическое отношение к миру. Это продемонстрировала социальная практика ХХ в. Атмосфера чуда оживилась в войну. О чудесном заговорил даже вождь. «Отечественная война показала, что советский народ способен творить чудеса и выходить победителем из самых тяжелых испытаний», – сказано в приказе верховного главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 г. [30, с. 144]. Правда, разговоры Сталина о чудесном имеют вполне практическое объяснение: у чуда нет цены; если победы – следствие сверхъестественных способностей народа, снимается вопрос об ужасающих военных жертвах. Это один из примеров того, как режим «ловил» народ, метя в самое естество, в его представления о себе, как использовал в своих интересах особенности народного миропонимания.
27
В дни войны государственная бюрократия стала основным организатором; партийный аппарат играл только вспомогательную роль [см. об этом, напр.: 20, с. 228]. Милитаризация и «экономизация» партии, ее полное подчинение боевым и военно-экономическим задачам, придание «марксистско-ленинской» идеологии (прежде всего, теории классовой борьбы) инструментального, функционального значения вели к утрате партией властной самостоятельности, ставили под вопрос ее существование как правящего института. Это признавалось и активно обсуждалось в «верхах» после войны [см.: там же, с. 238–239, 550]. Результатом стало окончательное слияние партийного и бюрократического, что вело к обветшанию идеологии и торжеству партбюрократии, все больше переориентировавшейся с социального управления на самообеспечение.
28
Так главную задачу власти в войну определяли М. Геллер, А. Некрич [4, с. 452].
29
«Великое отступление» после 1934 г., т.е. «изменение в сторону… националистического мировоззрения», современные исследователи сталинизма вписывают в более широкий контекст «формирования национальной идентичности на народном уровне» [15, с. 127]. При этом указывают на постепенное возобладание в политике «преемственности» над «сдвигами» [см., напр.: 37, с. 81], апелляцию режима 30-х к дореволюционной великодержавно-патриотической традиции. Весьма распространен следующий взгляд: «В предвоенные годы основой советской пропаганды стала имперско-националистическая идеология в социалистической “перекодировке”, окончательно оформившаяся после заключения “пакта Молотова–Риббентропа”» [см.: 19, с. 329]. Здесь следует указать на три момента. Во-первых, речь шла об «изобретении» / конструировании в интересах режима традиции, которую – в тех же интересах – уничтожали все 1920-е годы. Отождествление сталинского СССР и дореволюционной («вечной», исторической) России – лишь пропагандистский ход. Между ними уже не было связи. Во-вторых, не революция, а реставрация добивает старый порядок. Апеллируя к прошлому и «переделывая» его, Сталин окончательно избавил от него советский народ. И наконец, искусственность и чрезмерность сталинского национализма 1930-х объясняется тем, что он был негативной реакцией на большевистско-коминтерновский интернационализм и экспериментализм 1920-х.
30
Говоря о «реабилитации» Сталиным «русского патриотизма, русского национализма», вернемся к аргументации М. Геллера и А. Некрича: «Завершив создание своего государства, Сталин нуждается в цементирующей идее, которую не мог дать ортодоксальный марксизм с его обещанием “отмирания государства”. Цементирующей идеей становится патриотизм, который называют советским, но который все чаще звучит как русский. Для Сталина важно было, что русский патриотизм имел подлинные корни в русском народе, кроме того, русская история давала материал для воспитания в советских людях некоторых нужных Вождю качеств: верности государству, верности самодержцу, воинской отваги. Сталин выбирает из русского прошлого то, что ему нужно: героев, черты характера, врагов, которых следует ненавидеть, друзей, которых нужно любить… Советская история, препарированная Сталиным, приобретает вид чудовищного гибрида: национализма и марксизма… Схема ортодоксального марксизма о борьбе классов хитроумно увязывается со схемой ортодоксального национализма» [4, с. 289–290]. Собственно, о том же писал Э. Морен: «Исторический гений Сталина заключается в том, что он совершил интеграцию социализм↔нация, одновременно создав религиозную марксократическую власть, аналог власти теократической: и та, и другая являются держателями абсолютной Истины, Авторитета… Сталин понимал значение идей, мифа, контроля за коммуникацией, манипулирования информацией, в то время как марксизм, замкнувшийся на “производительных силах”, был и продолжает оставаться совершенно несостоятельным в этих областях» [26, с. 90, 122].
31
Все элементы этого проекта имели мощный мобилизационный потенциал; при этом по-разному воздействовали на различные социальные слои. Скажем, для выживших «старых элит», а также для менее образованных и более пожилых советских людей более значима была связь с традицией (через культуру и традиционные институты, начиная с православной церкви); для молодых (особенно образованных горожан) – идея социалистического прогресса. И так далее.
32
Национализм, имевший преимущественно милитарный, мобилизационный характер, культивировался властью по причине своей «полезности»: «Сталин использует (берет на вооружение) русский национализм, как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти…» [4, с. 260].
33
Не случайно именно в тот момент, во время битвы под Москвой, «возвращается» власть. Сталинград качнул опять к «Сталин-системе», с лихвой вернул власти растраченную в поражениях властную субъектность. Почти полностью утратив легитимность летом-осенью 1941 г., власть наращивала ее от победы к победе. Она не только вела и направляла, руководя рутинной военной работой, но и «сосредоточивалась», готовясь к новому броску на социум, к новому этапу его «переработки». В этом суть сталинской власти: она не могла не «перерабатывать», используя привычное средство – репрессию, принуждение. Ее проблема была в том, что военно-послевоенный социум «перерос» это средство.
34
О характере этого перерождения см.: 49, с. 76–91.
35
Речь идет о работе Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова «Русская Система» (см.: Политическая наука. – М., 1995. – № 2, 3).