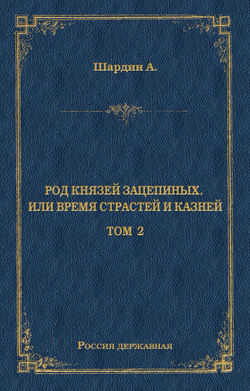Читать книгу Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2 - А. Шардин - Страница 1
Часть третья
I
Медвежья охота
ОглавлениеУтро 8 ноября 1740 года было сквернейшее даже для петербургского климата. То моросило, то падал снег. Было холодно и сыро. По Неве шел лед почти сплошными массами; сообщение города с заречными окраинами прекратилось.
Батальон Преображенского полка, вступавший в караул, разделенный на отряды по постам, без обычной церемонии вышел из новых казарм. Он шел на церковь Симеона и Анны, чтобы там разделиться и одному дивизиону занять караул в Летнем дворце, где жил регент империи, герцог Бирон; другому – караул в Адмиралтействе; а двум последним, при знамени, расположиться караулом в Зимнем дворце, где помещался император, шестимесячный ребенок Иоанн III, и его родители, принц Антон и принцесса Анна Брауншвейгские.
Батальон должен был проходить мимо дома Нарышкина, где временно помещался тогда фельдмаршал Миних, подполковник Преображенского полка.
Солдатики шли, неся ружья вольно и ругая, разумеется про себя, петербургскую погоду. Вдруг они увидели, что, несмотря на эту погоду и на раннее утро, фельдмаршал идет с своим адъютантом Манштейном пешком им навстречу.
– Под приклад, караул, стой, отдать честь! – скомандовал ведущий батальон секунд-майор полка Пушкин, согласно действовавшему тогда уставу о полевой и гарнизонной службе. Батальон остановился.
– Во фронт, слушай, на кра-ул! – продолжал командовать Пушкин.
Солдаты исполняли команду, думая про себя: «Куда это черт его спозаранку несет?»
– А нечего сказать, хоть и немец, а молодцом идет. Смотрите, братцы: идет, словно в рожу-то ему ни снег, ни дождь не хлещут! Внимания он не обращает на эту погоду! Сокол, нечего сказать! Хоть бы нашему брату – русскому…
Фельдмаршал подошел к караулу и поздоровался. Он прошел по фронту, останавливаясь и задавая некоторым из солдатиков полушутливые, ласковые вопросы. На снег и дождь он не обращал ни малейшего внимания, будто в самом деле они его не касались. Солдаты даже повеселели, смотря на бодрое, веселое и добродушное лицо фельдмаршала, говорившего и смеявшегося под снегом и дождем так же спокойно, как бы в манеже или у себя в кабинете.
– Хорошо, хорошо, – говорил фельдмаршал, – молодцы! Видно, что службу любите, и служба вас за то любит! Вот теперь вам будет полегче. Герцог приказал шесть полевых батальонов привести, чтобы в его дворце они караул держали.
– Что ж, ваше сиятельство, разве его высококняжеская честь не верит, что мы службу свою справим? А на тяжесть мы еще николи не жаловались! – буркнул один из стоящих при знамени сержантов.
– Ну нет, думать так не следует! – сказал особым тоном фельдмаршал. – Гвардия должна охранять императора, а он только регент и хочет облегчить… А холодно? – вдруг неожиданно сказал он, пожимая плечами.
– Холодно, ваше сиятельство! – отвечали солдаты.
– Не то что в казарме, что я для вас строил; там хорошо, тепло!
– Точно так, ваше сиятельство, покорнейше благодарствуем!
– Да, да! Старался для вас, ребята! А точно холодно, – прибавил он, морщась. – Распорядись, батенька, – сказал он секунд-майору, командовавшему батальоном, – когда будешь мимо меня идти, вели остановиться! А ты распорядись, – продолжал он, обращаясь к адъютанту, – чтобы солдатикам хоть по чарке водки дали поотогреться. Сегодня погода-то такая же, как, помните, ребята, когда мы с вами за Дунаем мерзли! Выпейте-ка за здоровье молодого императора!
– Ради стараться, ваше сиятельство, покорнейше благодарим, – весело отвечали солдаты.
Фельдмаршал улыбнулся своей открытой улыбкой, отмахнулся и пошел далее. Командующий батальоном повел людей к дому Миниха, где солдатам дали по чарке водки и по калачу. Солдаты на походе, разумеется, поминали угощение добрым словом.
– А ведь регент-то, братцы, значит, и впрямь нам не верит, когда полевые полки зовет! – сказал сержант, набивая рот калачом.
– Ну его к черту, эту чухонскую крысу! – отозвался молодой солдатик, обдувая свободную руку. – Он думает – полевые полки против нас пойдут! Шалит! Не таковской народ, чтобы чухляндию стал отстаивать! Скажет матушка цесаревна – скорее нас пришибут!
– Болтай вздор-то! Смотри, чтобы самого на пристрастии секуцией не пришибли!
Солдатик замолчал, озираясь испуганно:
– Я, дядюшка, ничего, я так…
– То-то ничего; думай про себя, а болтать нечего!..
Караулы разошлись, пришли на места, произошла смена, развели часовых, распустили караул. В Летнем дворце караульная комната оказалась нетопленой и холодной; солдаты, понятно, опять стали ругать Бирона, доедая свои калачи.
– Ишь, русские дрова бережет и караулку-то натопить жаль!
Миних между тем воротился к себе и сидел с премьер-майором Семеновского полка генерал-майором графом Степаном Федоровичем Апраксиным.
– Я хоть и сам немец, – говорил Миних, – но, признаюсь, на такое немецкое царство не согласен! Что это такое? Остерман, Остерман и Остерман! Отдаю справедливость его способностям, но несогласен отдать ему все в руки. Притом где же заслуги Бирона? Что такое он сделал государству?
– За Бирона, ваше сиятельство, из гвардии не станет ни один человек. Командир нашего полка, за малолетством государя императора, наш подполковник, его высокопревосходительство генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков хотя и с большим уважением относится к регенту, но, я уверен, пальцем о палец не ударит, чтобы его поддержать.
– Вы думаете, граф? Я, признаюсь, боялся, что ваш старик очень предан Бирону.
– Э, нет, ваше сиятельство! Я не далее как вчера говорил с его адъютантом Власьевым. Вы изволите знать, что любимец Андрея Ивановича? Из его слов прямо было видно, что, впрочем, я знал и до него, – что наш страшный генерал говорит:
«Всякая власть от Бога; Бирон – Божье наказание!»
– Бог наказует, Бог и милует, так ли? – спросил Миних.
– Я полагаю, что Андрей Иванович так и смотрит. Скажет: «Воля Божья» – и станет так же усердно оберегать новую власть, как теперь оберегает Бирона. Он скажет: «Рассуждать не наше дело, наше дело – повиновение!»
– Стало быть, по русской поговорке: кто ни поп, тот батька? – с усмешкою проговорил Миних. – И так как немецкий акцент в нем все же слышался, несмотря на то что Миних жил в России уже шестнадцать лет и, в противоположность Бирону, прилагал все усилия к изучению русского языка и с русскими почти всегда говорил по-русски, то поговорка эта на языке Миниха вышла очень смешно; вышло очень похоже на то: кто ни поп, тот патока!
Апраксин улыбнулся, Миних это заметил.
– Что, батенька, – сказал он добродушно. – Выходит, что немец и в могиле сказывается! Ну что ж делать? Мои молдаванцы мне прощали, что нет-нет да и насмешу их каким-нибудь словечком. Они знали, что их фельдмаршал хоть не всегда по-русски говорит, да всегда по-русски делает. Не прячется за шанцами да за их русскими спинами, а сам готов прикрывать их своей немецкой грудью. Ну а здешние-то еще не знают! Ох, не знают! Потому-то я и рассуждаю… Но вы, граф, говорите, что это верно?
– Будьте покойны, ваше сиятельство; у нас ни один человек не пошевельнется.
– А измайловцы, – вы как думаете?
– Ну там другое дело! Хоть оно и точно, что солдатики и там не очень за немцев, но все же командиры все, начиная с прапорщика, с самого начала из курляндцев набраны были. Потом, все же ими командует родной брат герцога, и, сказать нечего, полк им доволен!
– Так что я хорошо распорядился, что большую часть полка отправил за реку. Ну, граф, итак – решено! Выберите вы мне из своих молодцов сотни две на случай… Знаете, из таких, что не задумываются; а из моих преображенцев я уже отобрал; да Манштейн и Кенигфельс с караулами, думаю, распорядились, так что он немного найдет себе защитников…
Вошел адъютант фельдмаршала подполковник Манштейн.
– Ну вот, за семеновцев ручается! – сказал Миних своему адъютанту, указывая на Апраксина. – У тебя все ли готово?
– Все, как изволили приказать, ваше сиятельство!
– Ну, так будь же готов и сам, когда я пришлю; только виду не показывай! А в случае неудачи, господа, – хоть, кажется, неудачи не должно быть, но все же следует сказать, – в случае неудачи вы друг друга и не видали; все на меня вали, дескать, фельдмаршал приказания давал, а нам никакого рассуждения иметь не полагалось!
Этими словами Миних их отпустил и поехал к Бирону.
Но до него еще приехал к Бирону обер-гофмейстер граф Левенвольд. О его приезде доложил дежурный адъютант. Бирон поморщился.
– Верно, опять просьба, – высказал он вслух. – После смерти государыни две награды получил, все мало. Не могу же я всю штатс-контору на одних братьев Левенвольдов отдать! Пусть подождет!
С этим ответом, хотя в весьма вежливой форме, адъютант вышел к Левенвольду.
Левенвольду ответ был не по душе. Он вспомнил, как дружески обратился к нему Бирон во время болезни императрицы, как товарищески и сердечно говорил тогда с ним. «Не прошло и трех недель, а теперь не то, – подумал он. – Совсем не то. Даже не то, что при государыне было! Тогда все же была узда, а теперь, – теперь… Напрасно, напрасно, – не годится в воду плевать, пить захочешь!» – подумал Левенвольд. Но, поморщившись, он только прибавил:
– Доложите его высочеству, что я по весьма важному делу от графа Андрея Ивановича Остермана!
Адъютант доложил. Бирон нахмурился.
– Что бы такое? Ну зови! – сказал он.
Левенвольд вошел.
– Что такого важного? – спросил Бирон, откидываясь на своих герцогских креслах, как властелин перед своим кнехтом.
Левенвольд был далеко не так сдержан, как генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, и высокомерный прием герцога его очень озадачил. Он покраснел даже – но что же делать? Пока он регент… Притом что там будет, а теперь от него зависит помочь Левенвольду в его тесных делах! Этим рассуждением Левенвольд старался себя успокоить.
– Граф Андрей Иванович, будучи нездоров, поручил мне обратиться к вашему высочеству…
– Граф Андрей Иванович вечно нездоров! Признаюсь, это становится скучно… Я просил графа Андрея Ивановича приготовить мне декларацию для французского посланника. И вот уже третий день жду! – недовольным тоном сказал Бирон.
– Может быть, потому-то граф и поручил мне обратиться к вашему высочеству, прося вашего внимания. Он говорит, что замечает с некоторого времени ваше неудовольствие к нему и какую-то холодность, тогда как он с искреннейшей и нижайшей преданностью готов служить вашему высочеству, как и служил всегда по мере своего уменья и разума. А теперь, кроме всех внешних отношений, он был весьма озабочен вопросом о внутреннем укреплении и возвышении самодержавной власти вашего высочества, как регента империи.
От этих слов герцога передернуло. «Что-нибудь да есть, когда с этим присылает Остерман», – подумал он.
– Что же такое? – спуская тон ступенью ниже, спросил герцог.
– Граф Андрей Иванович, рассматривая практическое положение дел, поручил мне доложить вашему высочеству, что в утверждении и укреплении положения вашего высочества он встречает важный противовес и что от удаления такого противовеса зависит…
– То есть кто же это? Принц Антон?
– Никак нет, ваше высочество, есть некто более опасный человек… Доложить об этом граф Андрей Иванович счел своею обязанностью: этот опасный человек – фельдмаршал граф Миних.
При первых словах о внутреннем укреплении и возвышении лицо Бирона вытянулось, и он уже завертелся в креслах. Когда же Левенвольд окончил, то перед ним сидел уже совсем другой человек. Вместо высокомерного и неприступного герцога перед ним сидел искательный, ласковый и пронырливый курляндец, готовый служить и нашим и вашим.
– Э, граф! – сказал в ответ Бирон. – Неужели вы и граф Андрей Иванович думаете, что я это не вижу? Да садитесь же, что вы стоите? Мне давно хотелось поговорить с вами и с Андреем Ивановичем по душам! Мы, немцы, здесь, на чужой стороне, должны держаться дружно; должны друг за друга стоять! А граф Миних точно что гнет как-то на сторону… Да что я с ним сделаю? Изобличить его не в чем; а ведь не могу же я ни с того ни с сего вдруг велеть арестовать фельдмаршала. Садитесь же! Ведь вы обедаете у нас? Герцогиня и так уже мне замечала: что это граф Рейнгольд с самой кончины императрицы у нас только один раз обедал.
– Я всегда в распоряжении вашего высочества, – отвечал Левенвольд, – но полагаю, что вы, выслушав различные соображения, которые граф Андрей Иванович просил меня представить на ваше усмотрение, изволите дать приказание отправиться к нему, тем более что, на его взгляд, дело это крайне нужное и спешное, так как от него зависит спокойствие империи и вашего высочества.
– Так, так, благодарю графа Андрея Ивановича и вас! Разумеется, дело прежде всего! Что же Андрей Иванович говорил вам о Минихе?
– Граф просил вам передать, что почетное назначение, как вашему высочеству небезызвестно, бывает иногда то же, что ссылка. Граф Ягужинский, когда его послали в Берлин…
– Да! Но граф Ягужинский был не фельдмаршал…
– Можно составить предположение о торжественном посольстве к французскому королю…
– Миних не примет звание посла.
– Тогда генерал-губернаторство. Он желал быть генерал-губернатором Малороссии. Если этого будет для него недостаточно, то граф Андрей Иванович находит, что для него можно восстановить гетманство. Этим он, наверное, удовольствуется, особенно если оно будет утверждено наследственным…
– Да! Ему хотелось чего-то в этом роде! Но что скажут русские? Ведь это значит потерять Малороссию!
– Андрей Иванович говорит, что лучше потерять часть, чем рисковать всем! А русские будут довольны, что им на шею не станут сажать хохлов. Духовенство в этом отношении полностью все будет на вашей стороне.
– Будто уже он так опасен?
– Всенепременно, ваше высочество! Хоть в войске его и не любят, но ценят и привыкли слушать. А вот уже сколько дней, как он приглашает к себе отдельных начальников то тех, то других частей. Цесаревна…
– Ну в рассуждении цесаревны я спокоен. Вот принц Антон и принцесса? Вообще безмерное честолюбие Миниха точно опасно! Но, я полагаю, что между преображенцами майор Альбрехт…
– Альбрехта обходят, ваше высочество! Граф фельдмаршал приглашал к себе из преображенцев Салтыкова, Шипова, Готовцева, из семеновцев – Апраксина, Девьера; из конного полка тоже… Разговоров особых он не ведет, придраться не к чему, но, видимо, выспрашивает, наблюдает. А тут два дня сряду он имел горячий разговор с принцессой. Граф Андрей Иванович полагает, что для безопасности вашего высочества удаление его существенно необходимо.
– Да! Поезжайте к графу Андрею Ивановичу, скажите, что я искренне его благодарю и прошу приготовить все бумаги по его предположению о гетманстве. Быть гетманом он не откажется! Жаль делить так русское царство, да что делать-то, своя рубашка, говорят, к телу ближе!
В это время вошел дежурный адъютант и доложил: его сиятельство фельдмаршал граф Миних!
Бирон и Левенвольд переглянулись.
– Проси! – сказал Бирон.
– Я не к вам! Не хочу отнимать у вашего высочества ваше драгоценное для всех нас время, хотя, разумеется, как и всякий верноподданный, счастлив видеть своего всемилостивейшего регента… но все же не к вам, а к моей прекрасной покровительнице герцогине Бенигне! – говорил весело и с улыбкой Миних, принимая протянутую к нему руку Бирона. – Очень рад встретить вас, граф, у распорядителя судеб наших! – прибавил он, обращаясь к графу Левенвольду и тоже пожимая ему руку. – А я, признаюсь, уже думал, что вы совсем изменили нам и передались на сторону принца Антона. Ну что наш достопочтенный оракул, ваш неизменный друг граф Андрей Иванович, хворает?
– Да, он нездоров! – отвечал Левенвольд, смутившись несколько от напоминания о принце Антоне. Однако ж он сейчас же ободрился, заметив, что Бирон не обратил на замечание Миниха никакого внимания, а, напротив, с полной благодарностью обратился к нему, проговорив – Очень, очень, благодарен вам, мой друг! Поезжайте же и просите графа Андрея Ивановича распорядиться, чтобы не дальше как завтра можно было приступить к делу Завтра же, надеюсь, я и вам докажу мою признательность. – При этих словах герцога Левенвольд откланялся.
– Жена моя будет рада видеть нашего победоносного фельдмаршала, – продолжал Бирон, обращаясь к Миниху, – нашего героя, от которого, говорят, молодой прусский король до того без ума, что план нашей ставучанской победы приказал нарисовать и повесить у себя над письменным столом. Садитесь, граф, позвольте вашу шляпу и шпагу! И у меня, и у жены моей вы всегда дорогой гость!
– Да и я, ваше высочество, как изволите сами знать, всегда ваш всепокорнейший и всеусерднейший слуга! Я думаю, за то солон прихожусь я вот этим остермановским господчикам, которым ваше регентство стало поперек горла. Им всем так хотелось принца Антона да совета, в котором Остерман бы царил, а принц Антон бы подписывал. Ну да мы с вами давно поняли остермановскую музыку и на их дудке играть не хотим! Но – можно видеть ее высочество, очаровательную герцогиню? Ведь, простите, я сегодня гость надолго! Герцогиня при всякой встрече упрекает меня, что я не приезжаю обедать. Я дал слово исправиться. И вот сегодня мои все обедают у брата, тайного советника барона Христиана Антоновича, а я, по известной всем немецкой экономии, чтобы, как говорят, не разводить огня, отправился к своей милостивой герцогине, чтобы сдержать слово.
– Благодарю, благодарю, и за себя и за жену благодарю, – сказал Бирон и позвонил.
– Доложите герцогине, что его сиятельство господин фельдмаршал желает ее видеть!
– Засвидетельствовать свое высокое уважение и поцеловать ее добрую ручку! – прибавил от себя Миних.
Герцогиня прислала просить. Миних обедал у них и болтал особенно весело, любезничая и ухаживая как за сорокапятилетней рябой герцогиней Бенигной, так и за молоденькой Гедвигой, говоря обеим комплименты, выпрашивая беспрерывно у обеих позволения поцеловать ручку и в то же время любезно подразнивая молодых принцев.
Обедал еще Новосильцев, один из самых близких клевретов Бирона. Слушая болтовню и шутки Миниха и видя особую любезность к нему как герцога, так и его жены, он подумал: «Вот тебе на! Я думал, что они враги, и хотел было сегодня кое о чем предупредить герцога, а они такие друзья, что их, кажется, и водой не разольешь!»
Левенвольд между тем прибыл к Остерману и нашел у него принца Антона, отца императора, который приехал к Остерману в наемной карете и задним ходом прошел в кабинет, так что в доме этого никто не знал, и потому на вопрос графа Левенвольда «Никого нет у графа Андрея Ивановича?» – отвечали: «Никого!»
– Ну что? – спросил Остерман, когда Левенвольд вошел. – Вас-то мы и ждем. Удалось ли вам убедить зверя, что для него опасен другой зверь?
– Да! Он просил приготовить! И представьте, в это самое время вдруг этот зверь и приехал.
– Кто? Миних? – в один голос спросили Левенвольда как Остерман, так и принц Антон, с той разницей, что в восклицании первого слышалось как бы удовольствие, – дескать, зверь сам на приманку лезет; а принц Антон при своем восклицании побледнел, думая: не приехал ли он рассказывать Бирону все, что он и его жена, принцесса Анна Леопольдовна, говорили Миниху.
– Да! Он обедает у них! И, кажется, не подозревает, что ему готовится или почетная ссылка, или арест. Однако ж мне показалось, что он на нас будто косится, и даже упрекнул было меня моею преданностью к вашему высочеству, – прибавил Левенвольд, обращаясь к принцу Антону.
– Пусть только примет назначение и уедет, – сказал Остерман. – Без него, ваше высочество, можете надеяться составить себе партию, пока же он тут, мы поневоле должны смотреть ему в руку!
– Герцог просил предположение о гетманстве, если возможно, сегодня же ему приготовить.
– Оно готово! – отвечал Остерман. – После обеда свезите к нему! Я обыкновенно не начинаю говорить о деле прежде, чем все по нему не будет приготовлено.
– Боже мой, только бы он не вздумал рассказывать герцогу о том, что мы говорили, – проговорил принц, с ужасом вспоминая сцену, которую он должен был выдержать в совете.
– Не беспокойтесь, ваше высочество, не расскажет! Он знает, что герцог будет подозревать и его самого, – ответил Левенвольд.
Доложили о прибытии вольфенбютельского посла графа Кейзерлинга.
Остерман велел просить его в кабинет, и началось серьезное совещание о том, как свалить Бирона, если Миних уедет, чтобы принцу Антону получить регентство, Остерману быть первым министром, а Левенвольду устроиться, получив в управление штатс-контору и быть кабинет-министром.
Между тем и Бирон за обедом закинул Миниху вопрос: «Хотел ли бы он быть малороссийским гетманом?»
– Как это гетманом? – спросил Миних. – Ведь гетмана нет! А на место Шаховского…
Говоря это, он подумал: «Эге, мне готовят ссылку, хорошо! Послушаем, какую песенку петь станут».
– Ну, кто же предложит вашему сиятельству идти на место Шаховского? Нет! Гетманом настоящим, каким был Мазепа, только еще с наследственными правами.
«Вот что!» – подумал Миних, но отвечал не задумываясь:
– Таким гетманом почему и не быть? Только, по-моему, это гетманство очень вредное для России дело! Оно ведет к раздельности, обособленности, розни! А русскому государству нужно объединение, сплоченность! Положим, что пока буду гетманом я, то по моей преданности царствующему дому и нашему всемилостивейшему регенту я не захочу отделиться от России, но из будущих гетманов нет-нет да и найдутся второй Мазепа или второй Дорошенко. Начнут сноситься с турками и с поляками, а для России это будет большой вред!
– Ну что, ваше сиятельство, нам толковать о будущем? Казаки просят; отчего и не сделать то, о чем они просят? – ответил герцог. – Вопрос теперь в том, кого выбрать гетманом? И если ваше сиятельство изволите признать удобным принять для себя это звание, то я завтра же распоряжусь…
«Вот как, – подумал Миних, – а дело-то у них уж наготове! Хорошо, мой милый, что завтра тебе не придется делать распоряжений!.. Наследственный гетман… оно было бы точно нечто новое, да только прежде всего как хохлы эту новость примут; а во-вторых, лучше в своих руках всю Россию держать, чем Малороссию». Но, думая это, он сказал:
– Наследственный гетман, это будет то же, что владетельный князь! Милость вашего высочества к моему дому всегда была беспримерна, и если… Да я у герцогини расцелую ручки! Мне не для себя, но для сына, который столь же предан России и вашему высочеству, как и ваш нижайший слуга!
Обед кончился. Миних стал прощаться. Герцогиня стала уговаривать его провести у них вечер.
– Старику отдохнуть немного нужно, ваше высочество, моя милостивая покровительница. Признаюсь, полюбил я эту русскую привычку после обеда немножко дань Морфею отдать. А уж если доброта ваша ко мне желает превзойти все пределы, то позвольте съездить уснуть часочек, а вечерком и стать как лист перед травою. А то кто тут что ни говори, а шестьдесят лет сказываются!..
Нужно было согласиться. Но герцог и герцогиня просили, если только он будет в силах, доставить им удовольствие приехать вечером.
Миних уехал, но не лег спать. Он позвал своего старшего адъютанта подполковника Манштейна.
– Что, Манштейн, вы были в Зимнем дворце, говорили с офицерами?
– Был, ваше сиятельство, говорил!
– Ну что ж?
– Все с радостью готовы, ваше сиятельство!
– Так все готово?
– Готово, ваше сиятельство!
– Приезжайте же ко мне в два часа ночи.
Манштейн раскланялся, а Миних стал писать.
Вскоре после отъезда Миниха к герцогу приехал Левенвольд и привез проект положения о малороссийском гетманстве, манифест о дозволении приступить к его избранию и, наконец, конфиденциальное сообщение всем влиятельным лицам, что правительство желает, чтобы избрание пало на фельдмаршала Миниха и чтобы малороссийский народ, будто бы ради своего особого уважения к Миниху, ходатайствовал о предоставлении ему в гетманстве наследственных прав.
Герцог пошел к себе рассматривать привезенные бумаги, потребовать переводчика, так как по-русски он понимал плохо, а читать вовсе не умел. Вечером приехали еще генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой, барон Пален и банкир Липман, Пален был с женой и дочерью. В ожидании герцога сели играть. Через час приехал и Миних.
– Вот и я! – сказал он. – Свеж и бодр, будто двадцать лет с костей сбросил. А герцог за работой? Тем лучше! Я имею случай без него объясниться в любви перед вами, очаровательная герцогиня, а потом… потом перейти к баронессе!
Началась веселая болтовня. Гедвига спела немецкую балладу из Уфланда под аккомпанемент арфы. Скоро пришел и герцог. Болтовня продолжалась, но герцог мало принимал в ней участия. Он был как-то особенно задумчив, будто его что тяготило. «Если он откажется, я его арестую, – думал он. – Прямой повод, и…»
Мало принимал участия в общей болтовне и Левенвольд. Он тоже сидел задумавшись. «Что бы это было такое? – думал он. – Миних сегодня приехал второй раз, и все так веселы!»
Он слышал, что Бирон говорил Миниху о гетманстве, говорил, что завтра же он подпишет все бумаги и отправит; самое же положение пришлет ему на предварительный просмотр.
Он видел, что Миних не отказывался и благодарил. Стало быть, принимает, едет, и завтра все будет кончено. Ему, конечно, нужно будет уехать сейчас, чтобы наблюдать за ходом выборов; стало быть, он мешкать не будет. И все должно решиться завтра, а до завтра одна ночь.
– А что, ваше сиятельство, – спросил он у Миниха, – случалось ли вам проводить когда решительные атаки на неприятеля ночью?
Вопрос этот как бы кольнул Миниха. Но фельдмаршал был не из тех, которые смущаются.
– Право, не помню, чтобы я предпринимал против неприятеля ночью что-нибудь особенно важное, – отвечал Миних. – Но у меня правило: пользоваться всяким благоприятным обстоятельством, не упускать случая ни днем ни ночью.
Левенвольду на это сказать было нечего, он замолчал. В одиннадцать часов ночи все гости разъехались по домам.
Возвратясь домой, Миних начал приводить к осуществлению задуманное предприятие. Он пригласил нескольких лиц, в мыслях и убеждениях которых был уверен, и раздал этим лицам различные поручения в предположении, что дело непременно должно удаться. Нужно было приготовить манифест о принятии на себя правления принцессой Анной Леопольдовной, сделать распоряжение о Бироне, о принятии присяги новой правительнице… К двум часам ночи все было готово.
В два часа ночи приехал Манштейн. Миних сел с ним в карету и поехал в Зимний дворец.
– Вы сами, Манштейн, проверяли караул по списку, который я вам дал?
– Сам проверял, ваше сиятельство; будьте покойны, ни один человек не изменит!
– А караул в Летнем дворце?
– Тоже все люди надежные, и выбраны большею частью те, которые были оскорблены герцогом. Стоять за него не будет никто.
– Кенигфельс нас ждет?
– Как же, ваше сиятельство, у Зеленого моста; при нем отряд в тридцать человек.
В это время карета въезжала на Зеленый мост. Близ самого моста стояла стройная фигура Кенигфельса, а на откосе берега (тогда набережные еще не были в граните) внизу, у самой речки, в темноте ночи, чуть виднелись черные силуэты притаившихся людей.
Проезжая мимо Кенигфельса, Миних сказал: «Будьте готовы!» – Кенигфельс отвечал поклоном головы.
Подъехав ко дворцу, Миних и Манштейн вышли из кареты и прошли на заднюю лестницу к квартире Юлианы Менгден. Войдя черным ходом на кухню фрейлины, они насилу добудились кухонного мужика, которому велели вызвать камер-юнгферу. Мужик разбудил ее скоро, но та не шла. Они слышали, что она допытывается, кто такие?
– А черт их знает кто! Один такой высокий, старый, будто его когда видал, а другой пониже и поплотнее будет!
– Ты бы спросил кто.
– Станешь тут много разговаривать – и так что потолще-то и помоложе шпагой плашмя так меня огрел за то, что я долго не вставал, ажно искры из глаз посыпались.
– Ах, боже мой, да уж не разбойники ли?
– Ну вот, какие разбойники; офицеры, должно быть!
– Офицеры. Час от часу не легче! Ну как они меня или фрейлину увезти хотят? Ведь между ними разные озорники бывают!
– Еще что выдумала. Кто на тебя, на кралю эдакую, соблазнится. Вороне сродни, а тоже, увезут!.. Вишь ты!
Миних не выдержал и сам вошел в комнату камер-юнгферы.
– Беги сейчас, скажи Юлиане Густавовне, что фельдмаршал Миних ее дожидает!
Та струсила, но вдруг в ней явилось жеманство.
– Позвольте-с, сейчас доложу-с, позвольте одеться! Извольте выйти!
– Ну, милая, я не смотрю, одевайся, – начал было Миних с всегдашней добродушной улыбкой, но Манштейн не был так терпелив.
– Пошла! – крикнул он. – Иначе я тебе таких шелепов надаю, что ты у меня до второго пришествия одеваться забудешь!
А тут, как нарочно, на гвоздике висел хлыст для верховой езды Юлианы. Манштейн снял этот хлыст и хотел на деле показать, как это заставляют забывать об одеванье. Горничная, увидев в руках офицера хлыст, вскочила живо и в одной рубашке, босиком убежала.
Юлиана Менгден выскочила к ним тоже только в юбке и кофте.
– Что случилось? – спросила она.
– Ничего, прелестная наперсница! Нужно только разбудить принцессу. Проводите нас к ней, – сказал Миних.
Юлиана провела их через свою спальню в уборную Анны Леопольдовны.
– Скажите принцессе, чтобы она выходила скорей; пускай и принца разбудит! Она должна принять офицеров, которых я ей представлю. Мы сейчас же арестуем герцога.
Юлиана сперва разинула было рот от удивления, но, не сказав ни слова, убежала.
Разбудив принцессу и рассказав, в чем дело, Юлиана выразила свое мнение, чтобы принца не будить, а то он, пожалуй, как муж и отец императора, заявит претензию быть правителем самому, даст знать Остерману, а тот выдумает в его пользу какой-нибудь крючок, и все старание их пропадет даром.
Принцесса согласилась и приняла Миниха одна. На выраженное им желание представить офицеров она изъявила согласие. Миних приказал Манштейну позвать командующих караулом и тех, кто заранее был подготовлен.
Через несколько минут офицеры были введены, и нечего сказать, молодец к молодцу, испытанной храбрости, полные отваги и силы. Их было вместе с Кенигфельсом шесть человек, седьмой Манштейн. В карауле находилось сто двадцать рядовых. Решили – сорок человек из них оставить при знамении во дворце, а восемьдесят человек взять с собой, оцепить дворец Бирона и арестовать его. У Миниха подготовлено было еще два отряда в тридцать и двадцать человек. С этими-то силами Миних решил арестовать главу государства и сделать переворот в правительстве. Правда, у него были подготовлены единомышленники среди преображенцев и семеновцев, но они о предприятии этой ночи ничего не знали.
Миних посоветовал принцессе что-нибудь сказать офицерам, пожаловаться на герцога и просить их защитить ее и императора от насилия.
– Господа, – произнесла она, – я призвала вас сюда, чтобы попросить вас защитить меня и вашего императора от насилия, которым ежечасно грозит нам герцог Бирон. Вы присягали охранять императора; защитите же его под начальством вашего славного фельдмаршала. Более, спасите его и мою жизнь, которой герцог угрожает.
Нужно сказать, что принцесса, не изуродованная костюмом, которого она никогда не умела выбрать к лицу, в белом с розовым капоте и с распущенными волосами была так хороша, как никогда не была хороша в своих великолепных нарядах.
Офицеры перебили ее речь выражением общего восторга и готовности умереть за нее.
– Мне стыдно, как матери вашего императора мне нельзя сносить все эти обиды! Поэтому прошу вас, господа, во имя вашей чести, во имя преданности вашей государю и отечеству избавьте нас от этого общего врага; пора прекратить эти пытки и казни, остановить льющуюся кровь… Вспомните о ваших товарищах: Ханыкове, Аргамакове… Мой секретарь, адъютант принца, одним словом, все… – Принцесса запуталась в своих словах и, стараясь поправиться, протянула руку… – Я поручила фельдмаршалу арестовать нашего врага, помогите ему, господа!
Караулом командовал старый служака и рубака секунд-майор Пушкин.
Крутя свои рыжеватые усы, которые он носил вопреки уставу, и посматривая на принцессу как на ребенка, которого тиранят злодеи, он не выдержал, схватил ее протянутую руку, горячо поцеловал и сказал:
– Матушка государыня, принцесса, великая княгиня, мы уже сказали, что готовы умереть за тебя! Нам и самим тяжело смотреть на этого проклятого немецкого ферфлюхта, что пьет русскую кровь! Вели вести нас, мы в огонь пойдем!
Вслед за Пушкиным подошел другой офицер к ее руке, за ним третий, последним подошел Манштейн.
– Идите же с Богом! Фельдмаршал вас поведет и укажет! Слушайте его приказания, они идут от вашего императора, и передает их вам его мать. С Богом! Дайте я перецелую вас на прощанье.
И она подарила Манштейну свой первый поцелуй, а потом по очереди перецеловала всех остальных.
Затем все вышли во двор и сделали расчет караула, восемьдесят человек под командой самого Миниха отправились в Летний дворец. Пушкин с отрядом в сорок человек должен был оцепить дворец; Манштейн с отрядом в двадцать человек и субалтерн-офицером проникнут во внутренние покои и произведут арест; двадцать человек при Минихе должны были оставаться в резерве. Два отдельных отряда должны были арестовать братьев Бирона, Карла и Густава, его зятя – генерала Бисмарка и кабинет-министра Бестужева.
Миних не сел в карету, а пошел с людьми. Карета следовала за ним.
Около дворцовых оранжерей отряд остановился. Миних послал Манштейна вперед переговорить с караульными офицерами. Утром караул этот он видел сам, назначение его было обдумано вперед, поэтому он знал, что противодействия с его стороны не должно быть; но во избежание всякой случайности, как осторожный главнокомандующий, он хотел все же вперед произвести рекогносцировку. Пушкину с его отрядом Миних велел обойти дворец кругом, к каждому выходу приставить двух часовых с примкнутыми штыками и не выпускать никого.
– Чтобы птица пролететь не могла, так окружи, Пушкин! Знаешь, по-моему, по-военному: кто покажется – забирай, не дается – коли! Я отвечаю за все!
Манштейн вошел в комнату к караульным офицерам и нашел, что двое из них спят, один в кресле, другой на диване, а третий при сальном огарке пишет кому-то письмо.
– Господа! – сказал Манштейн, хотя из этих господ мог слушать его только один. – Скажу вам радость! Я прислан арестовать Бирона!
– Что-о? – вскрикнул пишущий с изумлением и выронил из рук перо.
– Да, арестовать! Принцесса сама выходила и приказывала, и фельдмаршал с нами. Вы нам не помешаете?
– Мы! Да если вы пришли его повесить, так мы веревку приготовим!
– А господа?
– Само собой, обрадуются! Слушай, вставай! – начал офицер расталкивать своих товарищей. – Радость: герцога повесить хотят!
– Что? А? Эх, братец, разбудил! Ты смеешься, а я такой сон хороший видел, – видел, будто его в самом деле повесили!
Оба офицера, однако, проснулись и, выслушав Манштейна, заявили предложению об аресте регента свое полное сочувствие. Все в одно слово говорили, что такой радости и не ждали; что не только за себя, но и за солдат своих ручаются; что когда герцога арестуют, то для всех для них будет праздник.
С этим ответом Манштейн отправился к Миниху. Тогда Миних приказал ему идти с отрядом в двадцать человек и взять Бирона.
– Манштейн, – сказал он, – живого или мертвого, но ты должен его представить! Помни, что ты играешь на свою и на наши головы!
– Будьте покойны, ваше сиятельство, живого не выпущу! – С этими словами Манштейн вернулся во дворец.
Войдя в караульную комнату, он стал совещаться с офицерами о том, как бы дать знать часовым, чтобы те его не окликали и не задерживали. Сперва думали было произвести смену часовых, а новым сделать внушение, но на это требовалось много времени, да и могло возникнуть подозрение, зачем не вовремя смена? Наконец решили, что Манштейн пойдет один с их ефрейтором. Часовые, видя старшего адъютанта фельдмаршала с их ефрейтором, разумеется, будут думать, что он идет с донесением, и беспрепятственно пропустят их. Отряд же будет следовать за ним шагах в двадцати; о пропуске его уже будет заботиться ефрейтор.
Так и сделали. Манштейн прошел все караульные посты без всякого затруднения и вошел во внутренние покои.
Но, войдя туда, он невольно остановился.
«Где же спальня герцога? – подумал он. – Как бы не запутаться?»
В комнате было три двери. Манштейн остановился. Ему невольно пришел на мысль эпизод из индийской сказки, облетевшей в народных преданиях целый мир, где рыцарь, отыскивающий свое счастие, должен был остановиться на перекрестке трех дорог и прочитать надпись: «Пойдешь направо – с голоду помрешь; пойдешь налево – коня уморишь; пойдешь прямо – оба будете сыты и оба биты».
«Здесь, положим, с голоду не умрешь; коня со мной нет, так и морить некого; зато ошибешься, так не только прибьют, а в застенке у Андрея Ивановича все кости переломают, всю душу измают, и в конце концов голову на колесе сложить придется!»
При этой мысли Манштейн вздрогнул. Он заколебался было. Но всего лишь одно мгновение. Он сейчас же ободрил себя: «Из дворца не уйдет! Фельдмаршал не оставит, коли пошел! – С этою мыслью он приоткрыл первую дверь – она вела в коридор. – Не может быть, чтобы они по коридору в спальню ходили, – подумал он; приоткрыл вторую: видимо – тафельдекерская, в ней на кушетке спал дежурный лакей. – Разбудить и спросить? А если он поднимет шум? Если с умыслом укажет не туда, а сам побежит предупредить? Герцог, разумеется, спрячется, и хлопот будет много. Нет! Иду на счастье, была не была!»
Третья дверь вела в великолепную гостиную. «Надобно думать – сюда, – рассуждал про себя Манштейн и махнул рукой ефрейтору, заставив его стоять перед входом во внутренние комнаты, чтобы указать отряду, куда идти, когда он позовет. – Верно, спальня идет по линии фасада», – думал Манштейн и шел дальше, не затворяя за собою дверей.
Пройдя комнаты две или три, он вошел в небольшую комнату, из которой вела только одна дверь. Он хотел войти в эту дверь, но оказалось, что она заперта изнутри. Манштейн опять поневоле остановился.
Опираясь на эту дверь и шевеля тихонько ручкой, он стал раздумывать, что делать: «Идти кругом, поставив здесь часовых, или попробовать из сада влезть в окно – все это трудно и рискованно! А что спальня здесь, в этом нет сомнения». Но он вдруг почувствовал, что от его давления дверь подается. Он надавил сильнее – и дверь отворилась. Ни верхняя, ни нижняя задвижки не были задвинуты. Манштейн вошел.
Перед ним действительно была спальня герцога. К одной из стен примыкал альков, драпированный дорогим штофом и украшенный гербами Курляндии и Семигалии, золотыми шнурами, кистями и бахромой. Занавесы алькова были опущены. Приподнимая осторожно одну из этих занавесей, Манштейн увидел стоявшую на возвышении низенькую, но широкую, двухспальную кровать. Герцог и герцогиня оба крепко спали. Случайно он подошел с той стороны кровати, на которой спала герцогиня.
Герцог спал крепко. Он только недавно заснул. После того как от него уехал Миних, он долго говорил с Левенвольдом, который доказывал ему, до какой степени Миних опасный человек для его регентства, повторяя, разумеется, те доводы, которые успел внушить ему Остерман. Он говорил, какое сильное влияние может иметь на войско фельдмаршал, особенно фельдмаршал победоносный, напоминающий войску времена и славу Петра Великого. Он указывал на его уменье говорить с солдатами, на его мастерство показать, что он о них заботится, разделяет их труды и опасности, которые действительно, по своей беззаветной храбрости, он всегда разделял, будучи всегда впереди и всегда на виду.
– Говорили, – продолжал Левенвольд, – что он не жалеет солдат в битве и покупает свои победы их кровью. Но войско никогда не жалеет об убитых в сражении и любит славу победы. Оно знает, что госпитали, дурная стоянка и бездействие уносят больше жертв, чем самые кровопролитные битвы. А никто не может сказать, чтобы Миних, согласно существовавшим тогда понятиям, не заботился о госпиталях, о провиантах или чтобы оставлял войско в бездействии. Довольно сказать, что солдаты забыли видеть в нем иностранца, они смотрят на него как на русского! – говорил граф Левенвольд. – У них теперь граф Христофор Антонович Минихов такой же отец командир, как до того был князь Михайло Михайлович Голицын, с которым они охотно лезли на стену! А, разумеется, общая любовь войска для вашего высочества, как человека невоенного, не может не быть опасной…
Герцог слушал внимательно.
– Но кроме войска, – говорил Левенвольд, настроенный Остерманом, – Миних популярен и в народе. Народ чувствует пользу, которую ему принес Ладожский канал: хлеб подешевел, без дров не сидят, мясо и живность стали дешевле. «А все это Минихов сделал, дай бог ему здоровья!» – говорит народ. Каждое сооружение, которое он производит, вызывает его благодарность к нему, тем более что он очень доступен, каждому объясняет, с каждым говорит. Народ любит его за эту простоту, как войско – за беспримерную отвагу. Что же, ваше высочество, вы хотите сделать против такого человека, который притом так лукав, что умел сойтись и с здешними старинными гордыми домами. Голицыны, Головкины, Куракины, Зацепины, Ростовские, Нарышкины, Лопухины, Долгорукие – все приятели с Минихом, все признают приносимую им государству пользу.
– Точно опасный человек, и его нужно убрать во что бы то ни стало! – сказал герцог как бы про себя. – Он же нынче и с молодым двором начал заигрывать! Да! А это при положении его сына, как гофмейстера, и его брата, как постоянного партнера, делает его сильным и весьма опасным. С Менгденами же они свои! Делать нечего, решаюсь! Пусть принимает гетманство. Завтра же вручу ему все бумаги. Если же он не захочет, о – тогда я знаю, что я сделаю!.. – и Бирон судорожно и злобно перекосил губы.
– Он говорил, что принимает и будет очень доволен, – сказал Левенвольд. – Ведь еще при жизни покойной государыни он хотел, чтобы его сделали украинским герцогом.
– Да, и государыня отвечала: «Миних очень скромен, просит сделать себя герцогом украинским; не хочет ли он, чтобы я его сделала великим князем московским?» Она отвечала это потому, что знала, что Малороссия тогда будет потеряна для России! – проговорил мрачно Бирон.
– Это еще бог знает, ваше высочество! Прежде всего как еще он управится с ней и долго ли проживет? Потом, согласитесь, что сын его не смотрит таким орлом-главнокомандующим, как его отец. А главное, чтобы теперь-то он уехал и чтобы ваше высочество могли быть покойны и в вашем высоком положении могли себя укрепить. Кроме Миниха, здесь некому поднять голос против вашего высочества. Говорят о принце Антоне… Да разве он может что-нибудь один? Нет ни одного генерала, пользующегося сочувствием войска; а ведь военные – это сила.
– Прочтем бумаги, которые заготовил Андрей Иванович; читай ты! – сказал герцог Левенвольду. – Хотя нужно сказать правду, мы оба с тобой по части русского языка – швах! Но это ничего, мы поймем главное, а завтра приедет Бестужев и отделает подробности.
Левенвольд стал читать.
– «Понеже малороссийский народ, отличаясь всегда верностию нашему царскому и императорскому дому, на службе своей нам оказывал неоднократно многие примеры своего усердия и преданности, какими надеемся и впредь отличаем быть имеет, и как отсутствие гетмана и управление посредством особо учрежденной комиссии многие неисправности и упущения производит и наивящше на войсковую казну тягчайшим обременением ложится, и таких непорядков по неназначению гетмана ни исправить, ни наблюсти невозможно, то мы заблагорассудили…» – далее говорилось о предоставлении малороссийскому народу права избрать себе гетмана «из известных своею преданностию и честию из находящихся при нашем дворе знатных особ».
И долго еще сидели Бирон с Левенвольдом за этим сочинением, пока наконец окончили и распростились. Герцог пошел спать, а Левенвольд поехал к Остерману сообщить о результатах своей беседы. Там он нашел принца Антона, который тоже ждал его возвращения.
– Ну что? – спросил принц Антон, будучи не в силах скрыть свое нетерпение, в то время как Остерман сделал Левенвольду тот же вопрос, только одним взглядом.
– Все готово! Миних сказал, что будет рад быть наследственным гетманом; определение о том и манифест завтра же будут внесены в кабинет.
– Виват! Браво! – вскрикнул принц.
– Да, виват, браво, – прибавил Остерман спокойно. – Обещаю вам, что через неделю после того, как Миних уедет, ваше высочество, как отец императора, будете нашим регентом и повелителем. Дайте-ка рейнвейну выпить за здоровье принца.
Рейнвейн явился, и общие пожелания выразились в общем тосте выпитого дружно старого, букетного немецкого вина.
Взглянув на спящих герцога и герцогиню, Манштейн живо воротился к дверям, чтобы знаком ускорить движение отряда. Когда он подошел вновь, то герцог, утомленный работой, спал так же крепко; герцогиня же начала просыпаться и тихо, сквозь сон, спросила:
– Кто тут?
Манштейн промолчал. Он думал, может быть, она снова уснет. Но матовый свет фарфорового ночника ударил ей в лицо; она услышала дыхание постороннего: ей стало страшно. Она приподнялась и спросила уже громко:
– Кто тут?
– Не беспокойтесь, герцогиня, – сказал Манштейн, желая протянуть время. – Нужно видеть герцога.
Но герцогиня была не в силах вслушаться.
– Что такое? Кто? Караул! Караул! – завизжала она в совершенном беспамятстве.
– Я много караульных привел, не извольте беспокоиться! – отвечал Манштейн.
Манштейн стоял у кровати со стороны герцогини. Он хотел было через кровать схватить герцога за руку или за ногу, чтобы удержать его на постели до прибытия солдат, но герцог проснулся и вскочил. При взгляде на Манштейна первою мыслью его было спрятаться под кровать, но Манштейн успел обежать вокруг кровати и схватил его поперек. Герцог попробовал было отпихнуть его, наконец ударил его в бок, думая, что Манштейн выпустит его. В то же время он громко во весь голос крикнул:
– Люди! Караул!
Герцогиня визжала страшно, стоя на постели на коленях и вцепившись в Манштейна. Манштейн держал Бирона крепко и тоже закричал.
– Скорее, скорей, уйдет!
Солдаты, услышав общий крик, бросились бегом в спальню. Двое из них, вбежав первыми, схватили герцога и ударом кулака освободили Манштейна от ногтей герцогини.
Началась свалка. Герцог хотел отбиться кулаком. Солдаты в свою очередь не жалели его и начали дуть кулаками и прикладами. Подбежало еще трое солдат.
– Вот тебе за Волынского! – проговорил молодой солдатик, нанося ему удар прямо в глаз, так что тот отек и закрылся. Другой солдат ударил Бирона под бок; кто-то ударил его прикладом в спину. Бирон чувствовал, что силы его слабеют. А тут подбежали еще двое. Один ударил его в лицо, так что удар раздвоил нижнюю губу и вышиб зуб. Изо рта и носа у него полилась кровь, руки его держали как в тисках. Вошло еще десять человек с ружьями и стали у дверей. Манштейн расставил из них часовых.
С Бироном возилось шесть человек. Он все еще не сдавался; ему удалось бросить свои карманные часы в зеркало, и оно разбилось вдребезги. От нового удара в лицо Бирон упал. Тут он пробовал было опять залезть под кровать, но почувствовал, что его кусает неизвестно каким образом пробравшаяся туда собака. А солдаты тащили его за ноги и били прикладами ружей. Вне себя он закричал изо всех сил. Придворные, как крепко ни спали, утомленные дневной службой, начали показываться у других дверей спальни, ведущих в гардеробную. Их встретили часовые с примкнутыми штыками, и Манштейн распорядился их прогнать, хотя ни в одном из них не было заметно даже желания защищать герцога.
Наконец солдаты забили его рот платком, взяли офицерский шарф и начали крутить лежавшему герцогу руки, упираясь в грудь и бока коленями и сапогами, чтобы не дать ему подняться. Манштейн отдал им еще свой шарф; этим шарфом они связали ему ноги. Тогда они подняли распухшего, избитого герцога и поставили его на ноги. В это время молодой солдатик нанес ему еще удар в другой глаз, поставив громадный фонарь и проговорив:
– Вот тебе за Ханыкова!
Манштейн распорядился, чтобы его больше не трогали, так как он связан; но не обошлось без того, чтобы озлобленные солдаты исподтишка не дали ему еще нескольких горячих тычков. Бирон только стонал, насколько допускал забитый платком рот.
– Ну вали его и тащи! – приказал Манштейн, и солдаты, накинув на него сверх рубашки солдатскую шинель, схватили за плечи и за ноги и понесли.
Когда они уже подошли к лестнице, навстречу им бросилась девушка в кофточке с распущенными волосами.
– Изверги, злодеи, что вы делаете? – вскрикнула девушка, бросившись прямо на двух шедших впереди и несущих ноги герцога солдат.
Но один из них с словом: «Прочь!» – ударил ее кулаком в грудь изо всей силы, и она покатилась кубарем по лестнице вниз.
Это была Гедвига Бирон. Принцы Петр и Карл сидели в своих комнатах запершись. К ним Манштейн поставил часовых.
– Постойте, постойте! – кричала герцогиня. – И меня и меня! – Но на ее крики никто не обращал внимания. Медведя свалили, медведица и медвежата были не опасны.
Герцога, как есть связанного, посадили в карету Миниха, с ним сел офицер; на козлы и запятки посадили конвой и повезли так в Зимний дворец.
Бисмарк и Бестужев также были арестованы. Когда Бестужева брали, он спросил у Кенигфельса, который пришел его арестовать:
– За что же его высочество регент-герцог на меня гневаться изволит? Я служил ему, кажется, всеми силами.
– То-то и есть, что всеми силами, – но это не мое дело! Там разберетесь, – отвечал Кенигфельс.
В шесть часов утра Миних, торжествующий, прибыл в Зимний дворец. Все было кончено и не пролито ни капли крови, если не считать той, которая вылилась из герцогского носа, угощенного солдатским кулаком.
– Тако да погибнут нечестивии, – говорила Новокшенова в своем кругу, сердитая на Бирона за то, что он велел всех шутов и шутих императрицы Анны выгнать из дворца помелом. Она не сообразила, что этот, и только этот поступок Бирона и занесет на свои страницы русская история, как действительно доброе и полезное в общем развитии человечества дело. Более его добром помянуть не за что.