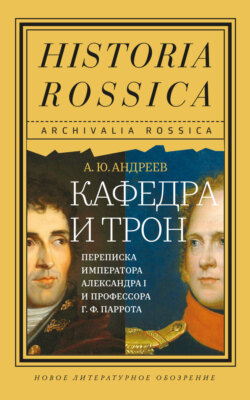Читать книгу Кафедра и трон. Переписка императора Александра I и профессора Г. Ф. Паррота - А. Ю. Андреев - Страница 4
Исследование
Паррот на пути в Россию и к профессорской кафедре
ОглавлениеГеорг Фридрих Паррот родился 5 июля 1767 г. в Монбельяре – столице одноименного графства, наследственного владения герцогов Вюртембергских. Отделенное от основной территории Вюртемберга и со всех сторон окруженное Францией (с которой в итоге слилось после 1796 г. вследствие революционных войн), оно располагалось на левом берегу Рейна, неподалеку от границ Швейцарии, в исторической области Франш-Конте. В XVIII в. Монбельяр представлял собой спокойный городок у подножия Юрских гор с населением около трех тысяч человек, преимущественно лютеран по вероисповеданию, занимавшихся ремеслами (славились кузнечное и часовое дело), обработкой сельскохозяйственных культур – льна и конопли, торговлей и даже немного контрабандой (в силу своего изолированного географического положения). Над городом еще высился рыцарский замок – последний свидетель независимости средневекового графства, но казалось, что в новые времена история выбрала для себя другие дороги и ее события никогда уже не будут развиваться в этом укромном уголке Европы. Правда, это ощущение поколебалось в 1769 г., когда в замке поселился со всем своим двором младший брат правящего герцога Вюртембергского, Фридрих Евгений, а с ним и его старшая дочь, десятилетняя София Доротея. Для веселого времяпровождения своей семьи Фридрих Евгений тут же приказал выстроить летний дворец Этюп, молва о прекрасных садах которого разлетелась далеко за пределы этих мест (вся герцогская резиденция будет потом уничтожена революционными властями). Именно здесь прошло беззаботное детство и юность Софии Доротеи, которая еще не знала, что войдет в историю под именем русской императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I и матери Александра I. Будущий дерптский профессор и мать его обожаемого друга, российского императора, оказались земляками – на такие удивительные и знаменательные совпадения всегда богата история!
Семья Паррота по преданию вела происхождение от шотландских протестантов, но ко времени его рождения уже полностью слилась с местной средой. Отец, Жан-Жак Паррот, был хирургом, а позже стал лейб-медиком герцога Вюртембергского, также ведал инспекцией дорог и даже избирался бургомистром родного города; мать, Мария Маргарита, происходила из семьи фабриканта льняной и тиковой ткани по фамилии Буажоль; многочисленные родственники будущего профессора также служили в Монбельяре и появлялись при герцогском дворе – среди них, вероятно, и его старшие братья, ибо сам он родился последним ребенком в большой семье, после более чем двадцати лет брака родителей. От матери Паррот воспринял религиозность и то представление о христианском благочестии, которое, по собственному признанию, оказало влияние на всю последующую его жизнь. Отец же мало участвовал в его воспитании, занимаясь городскими делами, но показал сыну важность служения общему благу[5].
Интересным и важным является вопрос о языковой идентичности Паррота. Очевидно, что он рос в среде, где постоянно говорили и по-французски, и по-немецки, но тем не менее непосредственно он был окружен именно французским обиходом – его мать носила французскую фамилию, а отец – французское имя, так что, строго говоря, и сам он в детстве и юности привык именоваться не Георг Фридрих Па́ррот, а Жорж-Фредерик Парро́. То, что французский язык был для него родным, ярко отразилось в письмах к Александру I, где Паррот демонстрирует виртуозное владение всеми красками и силой слова – но в то же время являет и значительную «неприглаженность» правописания (см. следующий очерк). Последнее, возможно, происходило от того, что в Монбельяре использовался местный диалект французского языка, так что на письме потом приходилось переучиваться. В ходе же дальнейшей жизни Паррот потеряет связь с родной языковой средой: тридцать лет в Лифляндии его будут окружать люди, говорящие только по-немецки (в том числе в его собственной семье), на этом языке он продолжит изъясняться в Петербурге и на этом же языке в конце жизни будет составлять мемуары.
После учебы в местной гимназии (где Паррот встретил земляка, который станет на многие годы не только его другом, но и собратом по ученым трудам, – знаменитого естествоиспытателя Жоржа Кювье) в 15 лет Жорж-Фредерик покинул родной город и был послан родителями продолжать образование в Карловой академии в Штутгарте – главной и самой привилегированной высшей школе Вюртембергского герцогства. Здесь Паррот впервые стал Георгом Фридрихом, выучил немецкий язык, а главное, приобрел весьма основательную подготовку по широкому спектру наук. Высшая школа в Штутгарте, преобразованная из военной академии, в 1781 г. получила все традиционные привилегии университета, но преподавание в ней отражало новые тенденции просветительской мысли. Помимо обычных факультетов – медицинского, юридического и философского – были открыты для обучения прикладным навыкам будущих профессий новые факультеты – искусств, военного дела и экономических наук[6]. Именно последним, т. е. политической экономии, и учился Паррот (о чем несколько раз будет вспоминать в переписке с Александром I, выдвигая предложения по финансовым реформам) – однако лишь «pro forma, склонности же влекли его к математике и физике»[7]. Одним из ближайших его друзей по обучению стал И. А. Пфафф (будущий выдающийся немецкий математик, профессор Гельмштедтского университета и учитель К. Ф. Гаусса), который живо поддержал интерес юного Паррота к исследованию природы. В этом же с ним был солидарен и Кювье, поступивший в академию и присоединившийся к дружескому кругу Паррота двумя годами позже.
Помимо собственно научных знаний, необходимо учесть, что среда Карловой академии также влияла и на формирование личности и мировоззрение Паррота: она была проникнута идеями зарождающегося немецкого романтизма, течения «Бури и натиска». Достаточно вспомнить, что несколькими годами раньше здесь учился Фридрих Шиллер, который именно в Штутгарте принял окончательное решение посвятить себя поэзии (после чего бежал с учебы), и почитание автора «Разбойников», рассказы о нем сохранялись в студенческой среде.
О ранних проявлениях у Паррота «культуры чувств» в ее романтическом понимании свидетельствует эпизод, который одновременно можно счесть вторым из знаменательных пересечений его юношеской биографии с Россией (впрочем, тесно связанным с предыдущим). Великая княгиня Мария Федоровна и ее супруг, великий князь Павел Петрович, совершая заграничное путешествие, не могли, конечно, миновать Монбельяр, а уже на обратном пути остановились в Штутгарте, где 25 сентября 1782 г. нанесли визит в академию. Предание, рассказывавшееся в семье Паррота, гласило, что тому выпала честь от имени студентов выступить перед почетными гостями с речью, в которой бы доказывалось бытие Божие. Но Паррот неожиданно объявил во всеуслышание, что не может этого сделать. На вопрос великого князя, не отрицает ли он, что Бог существует, 15-летний юноша ответил: «Я не отрицаю бытие Божие, я чувствую его. Это больше, чем логическое умозаключение»[8].
В апреле 1786 г. Паррот закончил обучение в академии и поспешил принять предложение, сулившее хороший заработок, – место домашнего учителя в одной из богатых семей Нормандии. Ради скорейшего отъезда туда он даже отказался от получения ученой степени в Штутгарте, на которую вполне мог рассчитывать. Друзья провожали его с сожалением, но приветствовали обретенную им свободу (чему посвящено шуточное стихотворение, которое при расставании преподнес другу Кювье)[9].
Во время двухлетнего пребывания во Франции (1786–1788) Паррот воспитывал сына графа д’Эриси и жил попеременно летом – в семейном замке Фикенвиль, а зимой – в городе Кане у берегов Ла-Манша, где получил возможность бывать на собраниях лучшего дворянского общества. Впрочем, Паррот чувствовал себя там (несмотря на безукоризненное владение языком) немцем и вюртембержцем; его даже называли «любезный германец». Вероятно, некоторое отчуждение развило его привычку к долгим одиноким прогулкам, во время которых Паррот наблюдал за природой Нормандии, а также за занятиями ее жителей на земле и на воде (именно тогда, например, он с интересом изучал в близлежащем Шербуре укрепления для защиты города от разгула морской стихии – о чем позже упомянет в письме Александру I, посвященном спасению Петербурга от наводнений). Результаты своих наблюдений Паррот заносил в специальный дневник, озаглавленный «Заметки о механике». Первая научная работа Паррота по математике (курс начал арифметики), посланная им в Париж, летом 1788 г. удостоилась одобрения известного французского академика, астронома Ж. Лаланда. При этом в личных письмах из Нормандии Паррот сознательно рисует образ «нежного и преданного друга, оказавшегося в чужих краях», в них уже тогда культивируется романтический идеал дружбы, и легко найти выражения, подобные тем, которые он будет позже писать Александру I, например: «Дар от единственного друга для меня бесконечно дороже всеобщего признания». А в заметках той поры находится составленный для самого себя «рецепт счастья», куда входят «ингредиенты», почерпнутые из трудов Сократа, Катона, Фенелона и Руссо: трудолюбие, терпение, истина, польза, любовь[10].
Два благополучных года в жизни Паррота вскоре сменились периодом испытаний. Еще во время обучения в академии он обручился с невестой, Сюзанной Вильгельминой Лефорт, дочерью одного из профессоров, который вскоре скончался, что ввергло всю семью в нужду. Узнав об этом, Паррот принял решение досрочно оставить свое место (передав его из рук в руки Кювье) и осенью 1788 г. вернулся на родину, чтобы поскорее подготовиться к бракосочетанию, которое было совершено в апреле следующего года. Супруги обосновались в Карлсруэ, столице Бадена, где жили родственники жены Паррота. Вскоре родились два сына: Вильгельм (1790–1872), позже – пастор в Лифляндии, и Фридрих (1791–1841), который в свое время сменит отца на кафедре физики Дерптского университета. Однако молодая семья никак не могла обрести финансового благополучия: в Карлсруэ Парроту не нашлось подходящей должности для ученых занятий, к которым он стремился, и ему пришлось зарабатывать на жизнь частными уроками математики. Научные работы он теперь писал на немецком языке, сперва даже вынужденно извиняясь за то, что еще не владеет им в должной степени, но ими не удавалось заинтересовать публику, хотя Паррот обращался к темам, сулившим различные практические применения (он предложил теорию и новый способ конструкции ветряных мельниц, затем опубликовал работу по теории света и его разложения на цвета).
В 1792 г. Паррот переехал в Оффенбах, город на Майне, возле Франкфурта. Здесь жизнь была дешевле, чем в Карлсруэ, но начинающему ученому опять не удается получить место в учебном заведении, на которое он рассчитывал, и он продолжает жить частными уроками, а также надеждами на успех научных трудов. В Лондон на конкурс Общества улучшения кораблестроения Паррот выслал работы о защите кораблей от пожаров и о спасении судна, получившего пробоину, во Франкфурте-на-Майне опубликовал книгу, посвященную теории и практике очищения воздуха в помещениях, а также небольшой, но ценный по содержанию трактат «Дух воспитания, или Катехизис отцов и наставников». Одновременно Паррота одолевали бытовые трудности: он вынужден был ютиться в двух комнатах вместе с женой и маленькими детьми, за обедом не хватало мяса, все члены семьи болели. А происходившие вокруг политические события не обещали никаких радостных перспектив. Во Франции наступала эпоха Террора, что делало абсолютно невозможными поиски там места для службы. На Среднем Рейне, сравнительно недалеко от города, где жил Паррот, уже начались боевые действия, обернувшиеся поражением войск первой антифранцузской коалиции. В соседнем Майнце вообще была провозглашена республика по революционному образцу, а с октября до декабря 1792 г. знамя революции временно развевалось даже над Франкфуртом, куда вошли французские войска. Надо полагать, что, хотя прямых высказываний Паррота о Французской революции не сохранилось и как человек, воспитанный на идеях Просвещения, он, скорее всего, приветствовал ее, в дальнейшем Паррот весьма серьезно страдал от ее непосредственных следствий, а более всего – от полной неопределенности будущего, которая ощущалась в близких к Франции немецких землях.
Именно поэтому Паррот без раздумий ухватился за приглашение, которое в начале осени 1793 г. прислала его сестра Клеманс, – отправиться домашним учителем в Лифляндию[11]. Уже в октябре он вместе с семьей покинул Оффенбах, несмотря на то что его жена едва оправилась от долгой легочной болезни. Но в Байройте, спустя лишь пару дней пути, ей стало хуже. Путешествие остановилось, больная не могла ехать дальше ввиду надвигавшейся зимы, а через несколько недель она скончалась. В своем дневнике Паррот записал: «12 декабря 1793 г. был несчастнейший день моей жизни. В этот день я потерял супругу, которую почти семь лет влачил за собой на цепи из моих бедствий. Она скончалась ровно в то время, когда казалось, что проблеск надежды обещает мне лучшее будущее, разделить которое с Вильгельминой было бы для меня неизъяснимым счастьем»[12]. Смерть любимой жены стала тяжелым испытанием для Паррота, в котором тот выстоял и потом бережно хранил память о ней в течение всей жизни, а также передавал эти воспоминания своим сыновьям.
В Байройте Паррот оставался полтора года. Собственно, возвращаться ему было практически некуда: Баден и Вюртемберг были в это время уже серьезно затронуты революционными войнами, а Монбельяр оккупирован французами, так что родного брата Паррота, служившего прежде в финансовом управлении графства, якобинцы занесли в список подозрительных лиц, и тот едва смог спастись бегством. По поручению же прусских властей, к которым Байройт отошел с 1792 г., Паррот занялся устройством громоотвода на местном замке, познакомившись при этом с Александром фон Гумбольдтом, выполнявшим здесь функции главы горного ведомства. Как и прежде, Паррот много путешествовал по окрестностям, изучая природу, быт и занятия людей, и в качестве результатов наблюдений опубликовал работы об улучшении мельничного колеса (впервые показав, что для его вращения важнее не вес падающей воды, а ее импульс), а также о физических принципах устройства более экономной печи.
Весной 1795 г. счастье повторно улыбнулось Парроту. Он вновь получил приглашение в Лифляндию, от Карла Эберхарда фон Сиверса из замка Венден, предложившего молодому ученому стать воспитателем его младших сыновей, девяти и тринадцати лет. 28 апреля Паррот выехал из Байройта в Любек, а оттуда на корабле – в Ригу. Плавание было долгим из-за штормов на Балтике, за это время будущий профессор успел дать несколько уроков математики корабельному штурману. 12/23 июня 1795 г. Паррот с двумя своими детьми ступил на берег Лифляндии, которая для всех троих станет второй родиной. Почти сразу по прибытии Паррот узнал о смерти отца, и тем самым порвалась главная нить, еще связывавшая его с местами, где началась его жизнь. Теперь он чувствовал себя в полном одиночестве, на новой земле, лежавшей «почти за пределами Европы»[13].
Однако эта земля оказала ему неожиданно теплый прием. Карл Эберхард фон Сиверс (1745–1821) принадлежал к видным представителям остзейской знати, служил с честью в голштинской, австрийской и русской армиях, а в 1798 г. был возведен в графское достоинство вместе со старшим братом, выдающимся деятелем екатерининского времени, новгородским генерал-губернатором, дипломатом, сенатором Якобом Иоганном (Яковом Ефимовичем) фон Сиверсом. В 1777 г. Карл Эберхард приобрел во владение заброшенный замок ливонских рыцарей Венден, а затем отстроил его в соответствии со вкусами новой эпохи и превратил в центр дворянской салонной культуры. Летней же своей резиденцией он избрал усадьбу Альт-Оттенхоф в идиллическом природном уголке, на берегу озера Буртнек, где к тому же совсем неподалеку в своем имении часто и подолгу бывал его знаменитый брат. Именно в Альт-Оттенхоф Паррот сразу направился из Риги и дальше большую часть времени проводил там или в Вендене. Таким образом, он с самого начала попал в среду местных просвещенных дворян, получил возможность завязать с ними дружеские отношения и в том числе наблюдать их усилия по налаживанию хозяйства в имениях и улучшению условий труда крестьян. Один из старших сыновей Карла Эберхарда, граф Георг (Егор Карлович) фон Сиверс, перед тем как сделать блестящую военную карьеру на русской службе, пройдет курс обучения в стенах Гёттингенского и Дерптского университетов, где Паррот будет читать ему физику, но еще до этого, со времени первой встречи в Альт-Оттенхофе, их уже связала крепкая дружба. Наконец, в одной версте от Альт-Оттенхофа лежала соседняя усадьба, Ной-Оттенхоф, где молодой ученый был не только гостеприимно принят, но и дочь хозяина, Амалия фон Гаузенберг, согласилась стать его женой и матерью для малолетних сыновей (второй брак Паррота был заключен в Риге в феврале 1796 г.).
Впрочем, Паррота недолго прельщала сельская жизнь, поскольку он всегда стремился найти точку приложения для своих научных занятий. В 1795 г. в Риге с разрешения Екатерины II, благодаря пожертвованному капиталу, открывалось Лифляндское общеполезное и экономическое общество, которое должно было объединять 13 членов, представлявших лифляндское дворянство, и ежегодно отчитываться перед ландтагом (дворянским собранием) о своих достижениях. Обществу был нужен постоянный секретарь, и Паррот прекрасно подходил на эту должность, рекомендовал же его туда еще один новообретенный друг из рода Сиверс, Фридрих Вильгельм (1748–1823), предводитель дворянства Лифляндской губернии. 11 декабря 1795 г. Паррот выступил с речью перед ландтагом, в которой среди прочего призвал помещиков облегчить участь крестьян-латышей через улучшения в сельском хозяйстве, и был единодушно избран секретарем общества, а 10 января 1796 г. состоялось его первое заседание[14].
Должность секретаря принесла Парроту немалое годовое жалованье в 500 альбертовых талеров (что составляло около 700 рублей серебром), а также бесплатную квартиру в съемном доме общества, снабженную всем необходимым. Это позволило ему вновь начать семейную жизнь – его второй брак оказался не только счастливым, но на этот раз и материально обеспеченным. Место домашнего учителя в семье Сиверс он, естественно, оставил, что вовсе не означало прекращения их дружеских связей. В Риге у Паррота появились и новые друзья: его свояк, архитектор Иоганн Вильгельм Краузе, который позже также станет профессором университета в Дерпте; пастор и литератор Карл Готлоб Зонтаг, выдающийся педагог, автор многочисленных сборников проповедей и речей, посвященных нравственному воспитанию; молодой аптекарь Давид Гриндель, страстный экспериментатор, будущий дерптский профессор химии и член-корреспондент Петербургской академии наук. Такое расширение круга знакомых Паррота за счет «светлых умов» отражало общий процесс развития в Риге идей Просвещения: в него включилась и элита местного дворянства, рассматривавшая проекты в пользу крестьян, и писатели-просветители – так, именно в 1796 г. была опубликована книга Г. Меркеля «Латыши», значительно повлиявшая на дальнейшее национальное движение. В этом смысле как нельзя более кстати пришлись практические идеи Паррота: он составлял планы по очистке воды из Двины, очистке воздуха в сиротских приютах и больницах, конструированию новых печей, проект медицинского термометра и т. д. Не забывал он и о теоретических трудах: так, в Риге ученый впервые описал физическое явление осмоса, т. е. прохождения жидкостей через тонкие мембраны за счет диффузии, и его влияние на процессы в живом организме (на этих же результатах Паррот позже построит написанную им для Александра I заметку о вреде шерстяных фуфаек). Тогда же вместе с Гринделем Паррот провел первые на территории Российской империи эксперименты по изучению гальванического тока[15]. Кроме того, ежегодно под его редакцией выходили отдельные тетради трудов Лифляндского общеполезного и экономического общества, а родственные по научной тематике экономическое общество в Лейпциге и общество естествоиспытателей в Йене избрали Паррота в свои члены.
Приобретенные за несколько лет пребывания в Риге научные и общественные связи оказались настолько крепкими, что, едва была высказана мысль об основании университета в Лифляндии, кандидатура Паррота рассматривалась для него как само собой разумеющаяся. После того как проект университета, выдвинутый лифляндским, эстляндским и курляндским дворянством, был согласован с Павлом I, с середины лета 1800 г. начались поиски профессоров, которыми руководила комиссия дворянских кураторов, заседавшая в Дерпте. Парроту сперва предложили кафедру «смешанной математики» и военных наук, но тот ответил, что предпочел бы профессуру по чистой и прикладной математике. Его просьба была удовлетворена, и в ноябре Паррот получил официальное приглашение занять кафедру в университете. Однако прежде ему необходимо было завершить свои дела в Риге: Паррот направил членам общества обширное рассуждение, в котором объяснял причины, склоняющие его к принятию новой должности. 10 декабря 1800 г. Лифляндское общеполезное и экономическое общество рассмотрело это рассуждение (а также новую положительную рекомендацию Ф. В. фон Сиверса) и одобрило переход Паррота с должности секретаря на университетскую кафедру – именно с этого дня он потом и будет отсчитывать свою профессорскую службу.
Еще до прибытия в Дерпт Паррот позаботился о том, чтобы формально подтвердить свою научную квалификацию: для этого в апреле 1801 г. он получил от философского факультета Кёнигсбергского университета диплом доктора за свои работы по физике[16]. Конечно, в маленьком Дерпте Парроту будет не хватать круга друзей и общественно значимой деятельности, которые у него были в Риге, а также ее спокойной, обеспеченной жизни. Материальные условия пребывания профессоров в Дерпте были куда более стесненными, а наплыв студентов не предвещал покоя. Чтобы не терять возможности заработка, Паррот уже 25 ноября 1801 г., до публичного открытия университета, состоявшегося 21 апреля 1802 г., открыл в Дерпте свои первые частные лекции по механике. Летом этого же года в университете освободилась кафедра теоретической и экспериментальной физики, которую Паррот охотно принял и оставался на ней в течение всей дальнейшей профессорской карьеры. Ее начало, сопряженное с обустройством кабинетов и лабораторий, строительством университетских зданий, организацией самого университетского управления, обещало быть трудным. Но, конечно, даже в самых смелых мечтах Паррот и представить себе не мог, на какую высоту вознесет его этот путь и какое знакомство ожидает его здесь, в Дерпте, спустя всего месяц после открытия университета.
5
Такие характеристики приведены в автобиографическом письме Паррота, которое тот написал рижскому бургомистру Шварцу в марте 1803 г. (Бинеман. С. 11–12).
6
См.: Uhland R. Geschichte der Hohen Karlsschule in Stuttgart. Stuttgart, 1953.
7
Собственное выражение Паррота из того же письма 1803 г. (Бинеман. С. 14).
8
Этот рассказ впервые прозвучал публично в речи на погребении Паррота: Бинеман. С. 18–19.
9
Бинеман. С. 27.
10
Бинеман. С. 31–36.
11
Бинеман. С. 50–51.
12
Паррот приводит эту цитату из собственного дневника в письме к сыновьям, Вильгельму и Фридриху, от 18 мая 1827 г. Свою общую судьбу с супругой он отсчитывает не от брака (1789), а от даты помолвки (1786), поэтому она и составляет здесь семь лет: Бинеман. С. 51–52.
13
Бинеман. С. 56.
14
Бинеман. С. 61–64.
15
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802–1902). Т. 1. Юрьев, 1902. С. 409–410.
16
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802–1902). Т. 1. С. 407.