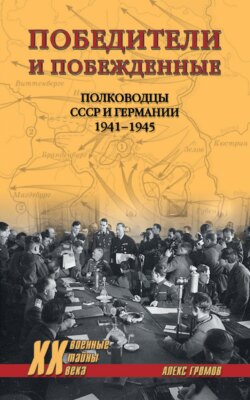Читать книгу Победители и побежденные. Полководцы СССР и Германии. 1941-1945 - Алекс Громов, Алекс Бертран Громов - Страница 7
Победители
Георгий Жуков. Маршал Победы
На подступах к Москве
Оглавление30 сентября танки Гудериана и войска 2-й армии обрушились на силы Брянского фронта. Выждав два дня, пока развернутся бои на Брянском фронте, немцы нанесли удар и по другим фронтам – Западному и Резервному. Особо тяжко Красной армии пришлось в районе Вязьмы – здесь оборона была прорвана сразу в двух местах, севернее и южнее города, в окружение на западе от Вязьмы попали 19, 20-я, 24-я, 32-я армии, значительная часть 16-й армии.
5 октября телеграфный аппарат «Бодо» донес до Жукова срочный вызов Сталина: «…можете ли вы незамедлительно вылететь в Москву?» Причина была серьезней некуда. Из Подольска от коменданта Малоярославецкого укрепрайона комбрига Елисеева поступило экстренное донесение: город Юхнов, в 85 километрах на северо-запад от Калуги, захвачен немцами, танки идут к Малоярославцу, откуда им будет открыта дорога на Подольск…
Расстояние от Малоярославца до Москвы – чуть больше ста километров, причем не по бездорожью, а по отличному шоссе. От Подольска до нынешней МКАД – порядка 30 километров. То есть выход немецких танкистов к Малоярославцу означал, что до центра Москвы им остается два-три часа пути. Войск, способных отразить удар, на этом участке не было. «Противника больше нет», – писал в дневнике начальник германского штаба сухопутных войск Гальдер.
С занятий спешно сняли курсантов двух военных училищ, находившихся в Подольске, – пехотного (две тысячи человек) и артиллерийского (полторы тысячи) и, собрав, какое нашлось, вооружение, отправили оборонять Малоярославец. Отчаянным сопротивлением «красные юнкера» задержали противника, позволив командованию выиграть немного времени.
При таких обстоятельствах Сталин вызвал в Москву Жукова. На аэродроме его встретил начальник охраны Сталина генерал Власик и привез прямо домой к Верховному. Жуков вспоминал, что когда он приехал, Сталин разговаривал с Берией и бросил фразу – на крайний случай нужно разведать возможность заключения мира.
Жуков предположил, что немецкие войска, отведенные из-под Ленинграда, в будущем будут пополнены и переброшены на московское направление.
– Кажется, они уже… – мрачно обронил Сталин.
Жуков заехал в Генштаб, где переговорил с Шапошниковым, и поехал в сторону Можайска, за которым должен был быть штаб Западного фронта. К трем часам ночи он добрался до штаба, там совещались командующий Западным фронтом Конев, начальник штаба фронта генерал Соколовский, член Военного совета Булганин и начальник оперативного отдела генерал-лейтенант Маландин. Впоследствии Жуков напишет, что они выглядели не просто усталыми, а потрясенными. Вид у них был не только усталый, но, как сказано в рукописи Жукова, какой-то «потрясенный».
И неудивительно – к вечеру 7 октября все пути на Москву, по существу, были открыты. Жуков доложил Сталину: «Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской линии. Бронетанковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать войска, откуда только можно на можайскую линию обороны». А сам поехал разыскивать Буденного и штаб Резервного фронта «где-то в районе Малоярославца». Ранним утром в лесу у реки Протвы нашелся штаб, но там никто не знал, где командующий. Начальник штаба фронта генерал-майор А.Ф. Анисов поведал: «Днем он был в 43-й армии. Боюсь, как бы чего-нибудь не случилось с Семеном Михайловичем…»
С Буденным ничего не случилось, если не считать того, что он уже вторые сутки не мог связаться ни с Коневым, ни с собственным штабом. Жуков отыскал его в Малоярославце – в райисполкоме и услышал, что фронта практически больше нет.
– Штаб фронта снялся в мое отсутствие, и сейчас не знаю, где он остановился, – пожаловался Буденный.
– Я его нашел в лесу налево, за железнодорожным мостом через реку Протву. Тебя там ждут. На Западном фронте, к сожалению, дела очень плохие, большая часть сил попала в окружение.
– У нас не лучше, 24-я и 32-я армии отрезаны. Вчера я сам чуть не угодил в лапы противника между Юхновом и Вязьмой. В сторону Вязьмы шли большие танковые и моторизованные колонны, видимо, для обхода города с востока.
– Ну, а кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Малоярославец?
– Когда я ехал сюда, кроме трех милиционеров в Медыни, никого не встретил. Местные власти из Медыни ушли.
Жуков велел Буденному ехать в штаб, а сам отправился в сторону Юхнова, чтобы на месте разобраться в ситуации. То и дело приходилось тормозить и осматриваться, чтобы не угодить прямиком в расположение немецких войск. Наконец, Жуков обнаружил советскую танковую бригаду, которой командовал И.И. Троицкий, знакомый ему еще по Халхин-Голу. Танкисты сообщили, что Юхнов захвачен противником, под Калугой идут бои, а они стоят тут второй день, не получая никаких распоряжений. Жуков велел Троицкому послать вестового в штаб Резервного фронта и развернуть бригаду, чтобы прикрыть дорогу на Медынь.
А сам отправился в сторону Калуги. В пути его разыскал офицер связи, передавший приказ Сталина – 10 октября явиться в штаб Западного фронта. Вернувшись 8 октября в штаб Резервного фронта, Георгий Константинович узнал, что Буденный от командования отстранен, и на его место назначен он, Жуков. Западный и Резервный фронты отныне объединены в один Западный под его руководством.
При этом без очередного сеанса поиска виновных дело не обошлось. В штаб прибыла комиссия ГКО (Молотов, Василевский, Маленков), собиравшаяся обвинить Конева, бывшего командующего Западным фронтом, и забрать в Москву на расправу. Но Жуков не отдал Конева, заявив Сталину, что Коневу надо поручить руководство на удаленном калининском направлении. На прямой вопрос Сталина: «Почему вы защищаете Конева?» – Георгий Константинович прямолинейно ответил: «Мы с ним никогда не были друзьями. Знаю его по службе в Белорусском округе и считаю, что он справится с этими обязанностями. Кроме того, у меня сейчас других кандидатур нет». В результате Конев не стал очередной жертвой поражений Красной армии, а был утвержден заместителем Жукова на Западном фронте.
«Противник сумел пробить 500-километровую брешь в обороне советских войск, – описывает тогдашнюю ситуацию Владимир Дайнес в книге «Жуков». – Ситуация складывалась драматическая. 2-я танковая группа нацелилась на Тулу, чтобы овладеть дорогами для дальнейшего наступления на Коломну, Каширу и Серпухов. 3-я и 9-я армии намеревались уничтожить советские войска, окруженные в районе Дорогобуж, Вязьма. 4-я армия должна была наступать с рубежа Калуга – Медынь в северо-восточном направлении, захватить переправы через реку Протва у Малоярославца и Боровска. На 3-ю танковую группу возлагался захват линии Гжатск – южнее Сычевска. 2-й армии было приказано во взаимодействии со 2-й танковой группой подавить сопротивление в районе Трубчевск, Жиздра и овладеть дорогой Рославль – Брянск».
13 октября на всех участках Западного фронта возобновились ожесточенные бои. Сплошной линии фронта не было, а обстановка менялась каждый час. Жукову было ясно, что слова о том, что от каждого подразделения сейчас зависит судьба Москвы, – не пустая риторика. Но он мог выставить против военной машины вермахта большей частью спешно собранные и подготовленные в ускоренном режиме части.
Немецкое командование было уверено, что войска не встретят серьезного противодействия, и их надо скорее сдерживать, чем подгонять: «Согласно категорическому приказу фюрера и главнокомандующего вооруженными силами войска не должны вступать в центр города Москвы. Границей для наступления и разведки является окружная железная дорога…»
18 октября 1941 года командующий Западным фронтом Жуков представил в Ставку Верховного Главнокомандования план отвода войск с Можайского оборонительного рубежа – на тот случай, если указанный рубеж удержать не удастся, как оно и произошло впоследствии. Крайний рубеж, где надлежало организовать мощную оборону и все необходимое для размещения основной массы артиллерии, был обозначен «по линии Новозавидовский – Клин – Истринское водохранилище – Истра – Жаворонки – Красная Пахра – Серпухов – Алексин». Штаб Западного фронта, в котором в самые критические для обороны Москвы дни находился сам Жуков, был расположен, по разным сведениям, в селе Перхушково или возле одноименной железнодорожной станции в деревне Власиха. В любом случае это место лишь на несколько километров отстояло от находившегося в центре линии поселка Жаворонки.
Жуков, как и в Ленинграде, взялся устанавливать в войсках жесточайшую дисциплину. 21 октября он адресует Военному совету 43-й армии распоряжение: «…В связи с неоднократным бегством с поля боя 17 и 53 стрелковых дивизий приказываю:
В целях борьбы с дезертирством выделить к утру 22.10 отряд заграждения, отобрав в него надежных бойцов за счет воздушно-десантного корпуса.
Заставить 17 и 53 сд упорно драться, и в случае бегства выделенному отряду заграждения расстреливать на месте всех, бросающих поле боя».
А уже ранним утром следующего дня командующему 43-й армией генерал-майору Голубеву предписывается тотчас арестовать командира 17-й стрелковой дивизии, самовольно оставившей рубеж обороны, саму же дивизию «заставить вернуть утром Тарутино, во что бы то ни стало, включительно до самопожертвования».
Но немцы продолжали двигаться к Москве, хотя и не так быстро и легко, как надеялся фюрер. Тем не менее конец октября был печален для Красной армии – пришлось оставить Наро-Фоминск, Волоколамск, Рузу. Рузу, один из стариннейших форпостов Москвы, сдали, можно сказать, без боя. Для виновников это имело самые печальные последствия – командир дивизии подполковник Герасимов и комиссар дивизии бригадный комиссар Шабалов были расстреляны перед строем.
Но тем не менее, группа армий «Центр» не сумела, как планировалось, занять Москву в середине октября. И если раньше немецкие генералы именовали противостоящие им войска армией или группой армий Тимошенко, то теперь на первом плане и для них оказался Жуков.
«Когда мы вплотную подошли к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось… – вспоминал генерал Блюментрит. – Командование русскими войсками, прикрывавшими Москву, теперь принял маршал Жуков. За несколько недель его войска создали глубоко эшелонированную оборону, которая проходила через лес, примыкавший к реке Нара, от Серпухова на юге до Наро-Фоминска и далее на север. Тщательно замаскированные опорные пункты, проволочные заграждения и большие минные поля теперь заполняли огромный лесной массив, прикрывавший западные подступы к столице».
Советская разведка донесла, что немцы подводят к линии фронта резервы, явно готовясь к решающему удару. Очевидно было даже, где это может произойти, – прежде всего со стороны Волоколамска, а также в районе Тулы. Город русских оружейников немцы захватить не смогли, но вполне имели возможность обойти его стороной и ударить сразу на Каширу.
Жуков доложил об этом Сталину. Верховный потребовал сорвать готовящееся наступление противника путем нанесения упреждающих контрударов на самых угрожаемых направлениях. Он настаивал, что следует атаковать немцев около Волоколамска, одновременно ударив во фланг 4-й армии вермахта со стороны Серпухова.
Главком Западного фронта напрягся, услышав такое. Контрудары им запланированы не были, и он знал, что свободных сил для их осуществления нет. Бросать неподготовленные части без поддержки артиллерии и самолетов против сильного противника – означает наверняка потерпеть поражение.
– Какими же силами мы будем наносить эти контрудары? – спросил Жуков. – Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы только для обороны.
– В районе Волоколамска используйте правофланговые соединения армии Рокоссовского, танковую дивизию и кавкорпус Доватора. В районе Серпухова используйте кавкорпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии, – распорядился Сталин.
– Считаю, что этого делать сейчас нельзя, – возразил Жуков. – Мы не можем бросать на контрудары, успех которых сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет тогда подкрепить оборону войск армий, когда противник перейдет в наступление своими ударными группировками.
– Ваш фронт имеет шесть армий. Разве этого мало?
– Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянулась; с изгибами она достигла в настоящее время более 600 километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта.
– Вопрос о контрударах считайте решенным, – отмахнулся Сталин и велел снова обращаться к нему только с готовым планом их проведения. После чего бросил трубку.
Контрудары были организованы, «главным образом действовала конница», и никакого особого эффекта они не принесли. Разве что под Алексином получилось изрядно потрепать 4-ю армию, так что она не смогла потом присоединиться к наступлению на Москву.
15 ноября началось новое наступление группы армий «Центр» на Москву. Основной натиск пришелся на северо-западные рубежи столицы со стороны Калинина, Волоколамска и Рузы. Установившиеся морозы пока еще были скорее на руку немцам, чем во вред, – танки перестали застревать в грязи и не нуждались в дорогах с твердым покрытием.
Войска правого крыла Западного фронта отчаянно оборонялись. Немцы продолжали нажимать. У советского командования начали сдавать нервы. Жуков признавался, что из-за постоянных бессонных ночей иногда даже терялся счет времени. Оно разграничивалось только боевыми донесениями и звонками Верховного. Однажды глубокой ночью Сталин позвонил и спросил: «Вы уверены, что мы удержим Москву?» Жуков ответил утвердительно, но надо еще две армии и две сотни танков. Танки в тот момент взять было негде, но две резервных армии Сталин обещал помочь найти.
28 ноября немецкие войска прорвались к каналу Москва – Волга и форсировали его южнее Яхромы. 30 ноября – заняли поселок Красная Поляна возле станции Лобня Савеловской железной дороги, – менее чем в 30 километрах от Москвы. Но между этими событиями, 29 ноября, командующий группой армий «Центр» фон Бок уже поставил вопрос перед командованием сухопутных войск вермахта о приостановке немецкого наступления под Москвой и переходе к обороне. Жуков не знал о том, что фон Бок предложил прекратить наступление. Но он, видимо, почувствовал, что противник выдыхается. И сам предложил Сталину перейти в контрнаступление. За один день был разработан план, и Сталину была отправлена карта с коротким пояснением.
Предполагалось ударить в направлении на Клин, Солнечногорск и Истру, а на левом крыле фронта нанести удары по группе Гудериана с фланга и тыла. Далеко продвигаться не планировалось – лишь на 60—100 километров; на большее, по мнению Жукова, в данный момент не хватало сил. Сталин план утвердил в первоначальном виде без поправок и подписал прилагаемую карту: «Согласен. И. Сталин».
Перегруппировку перед началом контрнаступления требовалось вести максимально скрытно, одновременно отражая еще продолжавшийся натиск вермахта. Немецкие войска то и дело прорывались на разных участках фронта. Жуков мрачно шутил: «Штопаем тришкин кафтан…»
И вот части германской армии ринулись в наступление в районе Наро-Фоминска – и на восток к Апрелевке, и на север в сторону Кубинки. Жуков помчался на передовую. На опасный участок были переброшены силы из резерва, и натиск удалось отразить. Под Кубинкой немцев остановили, а со стороны Апрелевки вдобавок нанесли контрудар.
5 декабря штаб группы армий «Центр» направил боевое распоряжение командующим 4-й армией, 4-й и 3-й танковым группам: «Начало отхода, для которого, по расчетам группы армий, потребуется две ночи, возможно, будет намечено на вечер 6 декабря, о чем будет сообщено в особом приказе…» На следующий день обещанный приказ действительно был дан. Немецкое наступление на Москву захлебнулось и остановилось.
Советские войска начали свое наступление 6 декабря в три часа утра. 11 декабря была освобождена Истра, на следующий день – Солнечногорск. Группа Гудериана начала отступать от Тулы.