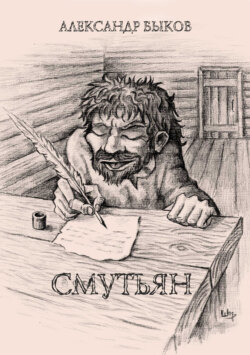Читать книгу Смутьян - Александр Быков - Страница 4
Глава 3
ОглавлениеОднажды в библиотеке Петров наткнулся на книгу священника Верюжского, посвященную жизнеописанию вологодских святых. Его внимание привлекла фигура старца Галактиона, пострадавшего во время разорения 1612 г.
Галактион добровольно истязал себя «во славу Господа», голодал во имя просветления души, добровольно носил тяжелые колодки и цепи-вериги, как бы повторяя мученический путь Христа. Народ смотрел на таких людей с пониманием, но осознавали значение добровольного истязания далеко не все. Церковные власти, хоть и одобряли страдания за веру, но относились к страстотерпцам с известной долей осторожности.
В 1612 г., если верить пересказу жития из книги, Галактиону исполнилось 77 лет. По тем временам он был совсем древним старцем. Проживал Галактион в землянке на речке Содемке на южной окраине Вологды, кроме молитвы, по сведениям жития, промышлял сапожным делом.
Жизнеописание святого утверждало, что Галактион происходил из княжеского рода знаменитых бояр Бельских, потомков литовских князей Гедимина и Ольгерда. В юности, в возрасте 7 лет, он избежал гнева Ивана Грозного и остался жив. Далее в тексте шла история о скитаниях молодого боярина, о его переезде из Старицы в Вологду, женитьбе на простолюдинке, умершей вскоре после рождения дочери, заработке сапожным ремеслом, добровольном пострижении и самоистязании.
Перед канонизацией святого нашлись сведения о двух прижизненных чудесах. Один раз Галактион вымолил в засуху дождь, а другой раз предрек Вологде разорение! Это был целый конфликт с вологодскими «избранными людьми», отказавшими Галактиону в постройке рядом с его кельей церкви и обвинивших старца в стяжательстве и корысти… После этого инок и пророчествовал о несчастье для города, которое вскоре сбылось.
В житии содержался рассказ о чудесном спасении им собственной дочери во время погрома и мученической смерти от рук захватчиков.
Получился целый набор земных добродетелей, необходимый для канонизации святого. Однако, несмотря на несколько попыток канонизации, предпринятой по «свежим следам» в XVII столетии, в Москве не увидели достаточных оснований для канонизации. Более того, вырытую домовину с останками Галактиона, подготовленную для обретения мощей вскрывать запретили и повелели похоронить обратно. Тем не менее, несмотря на официальный запрет Галактион почитался в Вологде и оказался причислен к сонму «местночтимых». Было написано, но не публиковалось и житие старца. Сведения из него неоднократно использовались в церковных публикациях, хотя без канонизации – это не официальный документ, а частное мнение неизвестного составителя XVII в.
Петров подсчитал, если верить житийным сведениям, то Галактион должен был родиться примерно в 1542 г. Как раз в это время случился очередной конфликт в правящей боярской среде при малолетнем великом князе Иване. Первый боярин Иван Федорович Бельский по приказу своих политических противников бояр Шуйских был взят под стражу, подвергнут опале, и сослан на Белоозеро. Там через несколько месяцев люди, подкупленными Шуйскими, умертвили его. Таким образом никакого царского гнева против Бельского не было. Случилось убийство, как следствие борьбы за власть между боярскими группировками.
Получается, что составители Жития оклеветали царя Ивана Васильевича! Но на этом несуразности житийного источника не закончились, более того, Петров и не предполагал, что они только начались!
В пересказе жития Галактиона говорится, что тот чудом избежал царского гнева в семилетнем возрасте. Простое вычитание указывало, что чудом мог избежать смерти не семилетний отрок, а младенец. Кроме того смущало студента само указание на «царский» гнев: во-первых, царем Иван Васильевич стал только в 1547 г., а в 1542 – был еще просто Великим князем Московским и отроком 12 лет, т. е. по существу ребенком, с которым бояре в то время совершенно не считались. Об этом писали все маститые историки, начиная с Карамзина и Соловьева.
Смущала студента и фраза из жития о князе Иване Ивановиче Бельском, отце будущего Галактиона и сыне первого боярина-управителя Ивана Федоровича Бельского. В литературе по генеалогии имелись сведения о женитьбе Ивана Ивановича на Анне Петровне из рода Захарьиных, царской родне по первой супруге Ивана Грозного, и рождении у них первенца Гавриила, будущего Галактиона Вологодского. Упоминания в генеалогических таблицах – не есть упоминания в источниках, для доказательства родства нужны были документы о жизни реального князя Ивана Ивановича Бельского. Петров с утроенной энергией принялся читать сборники документов XVI в.
«Итак, – думал студент, – Гавриил оказался среди простых людей. Он выучился сапожному ремеслу, начал зарабатывать на жизнь скорняжничеством, женился на простолюдинке».
Петров задумался, когда бы это могло быть? Если действительно в 1562 г. Галактиону исполнилось 20 лет, то самое время было жениться. Допустим, что он женился значительно позже, пусть даже в сорок лет, получается середина 1580-х годов, время кончины Царя Ивана Васильевича. Если он был действительно князь Бельский, то почему не явил о себе, когда повзрослел, не вернулся в мир равных? Ведь опалы на его «отца» как таковой не было, а его «дядя» продолжал служить царю, пользовался расположением и трагически погиб вместе со всем семейством, задохнувшись в подклете собственного терема во время Московского пожара 1671 г., случившегося во время набега крымского хана Девлет Гирея. Кстати, тогда же царь Иван Васильевич покинул Вологду из-за печально известного случая с плинфой, большемерным кирпичем, будто бы угодившим в царя во время осмотра строящегося собора. После смерти родственников никто не мешал Гавриилу, если он природный князь Бельский, вступать в права наследства.
«Очень подозрительно, если не сказать, что фатально для всей легенды о происхождении старца», – думал студент-историк.
«Поверим житию в последующих сведениях, – решил Петров. – Итак, жена Гавриила действительно умерла вскоре после родов. Допустим, это было на рубеже 90-х годов XVI в. Тогда дочери, девице, как о ней говорится в пересказе жития, в 1612 г., как минимум, около 20 лет или чуть больше. А если она родилась раньше лет на 20? Тогда ей уже за сорок, и раз нет жениха, то пора задуматься о монастыре? Но из контекста житийного повествования понятно, что речь шла о молодой девушке, над которой желали надругаться захватчики Вологды». Снова неувязка!
Во многое в этом житийном повествовании можно было поверить только с большими допусками. Петров был полон скепсиса в отношении биографических сведений о Галактионе. Дочь старца явилась причиной его гибели. «А дочь ли она ему была? Может и дочь, только духовная, а может быть, все было по-иному? Может, у старика была страсть к юной вологжанке? Петрова начали преследовать смелые фантазии, ведь если знать, как искажалась правда в агиографических сочинениях, то могло быть всякое.
Главная интрига в жизнеописании Галактиона была связана с его проклятием городу.
В житии сказано, что он предвидел гибель города и «являл» об этом городским мужам, заклинал устроить во спасение храм поблизости от своей кельи, но его не послушали. Некто Нечай Щелкунов высмеял старца, обвинив его в стяжательстве. Галактион проклял обидчика и пообещал ему всякие несчастья. Предсказание сбылось. Вологда подверглась нападению поляков, была разрушена и сожжена.
В событиях тех дней тесно переплелись легендарные сведения, исторические факты, и просто вымысел. А как же было на самом деле? Теперь все оказалось в руках историков, от добросовестности которых зависело, узнают люди когда-нибудь правду или нет.
Наступила весна 1984 г. Через пару месяцев долгожданная защита диплома, конец студенчеству и взрослая жизнь. Петров, если честно, был готов к ней. В музее, куда он ходил со второго курса, ждали его на работу. Он подумывал о дальнейшей учебе в аспирантуре. На этом настаивали знакомые специалисты-нумизматы не только из Эрмитажа, куда Петров после той знаменательной встречи с доктором наук Спасским ездил для участия в научных конференциях, но из Московского Исторического музея, того самого, что на Красной площади. Петров трижды выступал там на научных чтениях и заслужил похвалу корифеев науки.
Однако с дипломом не все было благополучно. Фактически Петров был предоставлен сам себе. Профессор Колбасников фактически отстранился от научного руководства работой. Петров понимал, что заслуженному ученому некогда возиться с каким-то студентом. Он весь в «большой науке»: организует работу Археографической комиссии, проводит конференции, редактирует научные сборники. Это с одной стороны, а с другой, он видел, как другой крупный ученый, доцент Василёв, сидит со своими подопечными, читает их пока еще беспомощные работы, делает замечания, ругает и хвалит, если за дело. Ничего этого Колбасников Петрову не предлагал. Он только улыбался и в который раз повторял, что вполне доверяет тому, что пишет студент.
Однажды, когда дипломная работа была уже практически готова, он принес текст на прочтение Колбасникову. Через две недели профессор вернул работу со словами похвалы. Петров стал спрашивать, что научный руководитель думает о том или другом вопросе, и понял, Колбасников диплома не читал, он его даже не открывал, ибо по возвращении рукописи студент увидел, что одна страница случайно была положена вверх ногами. Если читать, то переложить нормальным образом – дело нескольких секунд, но страничка так и осталась перевернутой.
В сердцах Петров пришел к Василёву, с которым он был в хороших отношениях, и рассказал о своей беде.
– Ты знаешь, – ответил ему доцент, – тут ничего поделать нельзя, я тут вмешиваться не могу, я не твой научный руководитель.
– А может, это можно как-то изменить? – спросил наивный студент, не догадываясь, что каждый дипломник – это нагрузка, за которую преподаватель получает деньги и от которой ни за что не откажется, потому как любое «руководство» легче, чем чтение лекций и, уже тем более, чем проведение семинарских занятий.
– Я могу посмотреть, что ты там пишешь, – сказал Василёв, но это не моя тема, и все должно остаться между нами, иначе Петр Андреевич тебя съест и меня вместе с тобой.
Так и договорились. Василёв прочитал работу студента, похвалил за то, что тот работает с непонятными для обычного историка данными кладов, поругал за слабую связь с общеисторическим событиями.
– Если ты хочешь написать хорошую работу, из которой в дальнейшем выйдет научная статья, ты должен знать все опубликованные письменные источники по теме, прочитать не только Соловьева и Ключевскго, но и всех современных историков, включая аграриев, потому что твои материалы выходят на экономические проблемы, а трудов по экономике мало, и все они очень значимы.
Петров кивал головой. Он был счастлив, наконец-то у него появился настоящий научный руководитель, человек, мнению которого он безусловно доверял и с аргументацией которого мог спорить: он знал особенности денежного обращения и разбирался в монетах, а Василёв судил обо всем с позиций историка-источниковеда.
Доценту тоже было интересно общаться с грамотным студентом. Кое-какие детали из истории XVII в. для него открывались впервые. Например, он с удивлением узнал, что слово «пирог» в терминологии тягловых документов, это не просто некая абстрактная единица обложения, она имеет конкретное смысловое наполнение, которое можно просчитать, зная стоимость тех или иных денежных единиц.
Колбасникову доложили о том, что его дипломника часто видят в компании Василёва. Он вызвал Петрова на кафедру и, показав солнцеподобную улыбку, сказал:
– Вы должны понимать, что научный руководитель Вашей работы я, и до тех пор, пока я не дам добро, до защиты Вас не допустят.
– Так я же давал Вам читать, Вы же не стали, – не подумав, выпалил Петров.
– Я все, что надо, увидел, не думаю, что Василёв Вас научит чему-то хорошему, он смотрит на мир через граненый стакан, Вы понимаете, о чем я?
Петрову, конечно, было все понятно, за доцентом водился такой грешок, но к делу это не имело никакого отношения.
– Я понимаю, – сказал он Колбасникову, – мы обсуждаем все, что связано с вологодским разорением, это не имеет к диплому прямого отношения, это в рамках спецкурса.
Профессор снова усмехнулся, он сделал вид, что поверил. Но с этой минуты в отношениях Петрова с Колбасниковым окончательно пробежала черная кошка.