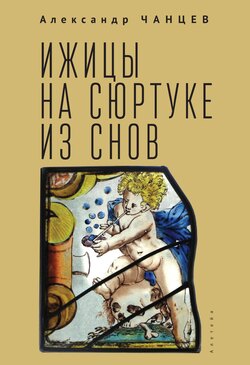Читать книгу Ижицы на сюртуке из снов: книжная пятилетка - Александр Чанцев - Страница 37
Переводное
Юнгер: вахтенный журнал и мобильный телефон
ОглавлениеГельмут Кизель: Эрнст Юнгер. Вехи творчества / Пер. с нем. А. Игнатьева. М.: Тотенбург, 2019. 170 с
В радостной ситуации, когда на русском языке существует уже больше переводов визионера, стилиста и философа Юнгера, чем на английском, давно ощущается потребность в его биографии50 и внятной работе по его, весьма непростому, действительно ломающему все конвенции и задающему свои собственные творчеству. Однако выход именно этой книги порождает больше вопросов, чем ответов.
Начать с того, что из весьма объемного, 700-страничего труда Г. Кизеля перевели очень незначительную часть. Какова цель – этакий препринт, почитайте пока это, пока переводчик трудится (ли?) над целым переводом? Переложены, кстати, главы (части глав!) исключительно теоретические, вся биографическая составляющая оказалась за бортом. Но и здесь не меньшая загадка, чем руководствовался переводчик, отбирая именно эти произведения. Дать теоретическую базу для осмысления уже переведенных на русский книг или познакомить с еще непереведёнными вещами? Так ведется рассказ о тех и этих, а некоторые книги не упомянуты вовсе. И, боюсь, ответ тут следует искать скорее в областях субъективного – таков был выбор переводчика А. Игнатьева…
Не меньше загадок и предположений вызывает и система сносок, в которых поясняются очевидные имена, а о гораздо менее известных не сказано ни слова (риторический вопрос – будут ли штудировать эту книгу те, кто слыхом не слыхивал о Т. Манне, Г. Гессе, М. Вебере и М. Хайдеггере?). Например, на одной странице дана сноска на автора «Заката Европы» Освальда Шпенглера, но ни слова об авторе «Смены гештальта богов» Леопольде Циглере. Не всегда точны и сами пояснения. Так, Вальтер Ратенау – «немецкий промышленник и финансист, с 1915 г. Председатель правления Всеобщей компании электричества. В 1922 г. подписал Рапалльский договор с Советской Россией», но что он был одним из ключевых политиков того времени, договор подписал в качестве министра иностранных дел, умалчивается…
Все это, конечно, досадно, но не беда – настоящая катастрофа происходит с русским языком перевода. Или все же с Google-русским? Забудем о правилах пунктуации, скажем прощай запятым – перед читателем стоит более серьезная задача по дешифровке смысла. «После Второй мировой войны, правда, “Рабочий” выдержал еще три переиздания, но сперва с некоторым замедлением, выхода книги потребовал не большой спрос на нее, а, скорее, документальные основания: в 1964 и 1981 гг. в рамках тогда выходивших изданий трудов и в 1982 г. Как 1-й том “Библиотеки современной литературы Котты”, которая равным образом имела документальный и антикварный характер». Юнгер пишет «сообщение о путешествии» (путевые заметки), состоит «в тесных отношениях» со Шпенглером и «не проявляет заботы, конечно, о ясности и однозначности». Примеры того, как перевод иногда почти полностью затемняет смысл, можно черпать на каждой странице, но, право, не хочется.
Печально, что не все прочитавшие эту книгу могут захотеть потом обратиться к полному изданию Гельмута Кизеля, между тем, оно достойно внимания хотя бы по двум причинам. Во-первых, автор действительно пытается не выносить суда, избежать как восторженных придыханий, так и модных сейчас осуждений Юнгера, во-вторых, это действительно добротное исследование. Где еще узнать, какие маркетинговые и пиар-технологии использовали немецкие издатели, продавая бестселлер «Рабочий. Господство и гештальт» («то, что для стареющего Ницше было еще смутным видением, у Эрнста Юнгера превратилось в грандиозную картину разрушительных и созидательных сил нашего столетия, влияние которой на нашу эпоху не менее значительно, чем книги Шпенглера»)? Или что в отрицательной критике «Рабочего» же было почти хорошим тоном сравнивать его с трудами Ленина, а «Излучения» за его дневниково-эссеистичный характер как то раз назвали «вахтенным журналом»? Или как именно Юнгер собирался, но так и не переписал в старости «Рабочего»? Да и если все уже знают, что Набоков изобрел смайлик, не грех напомнить, что в «Гелио-поле» в 1949 году Юнгер писал о прообразе МКС, лучевом оружии, возобновляемой энергетике, видеонаблюдении и мобильном телефоне с функцией навигатора.
С немецкой тщательностью Кизель каждый раз разбирает структуру произведений Юнгера, анализирует композицию, педантично подсчитывая количество тех или иных глав, – не лишне, когда Юнгер легко смешивает философию и вестничество, дневник и полемическое, отчет о снах («записки днем и ночью») и афоризмы. Тем обиднее, что настоящим подспорьем в чтении Юнгера этому изданию вряд ли суждено стать.
50
С тех пор вышла еще одна книга – «Эрнст Юнгер. Иная европейская судьба» Доминика Веннер (2019), но и она имеет существенный минус – автор делает слишком сильный акцент на рецепции Юнгера у себя на родине, во Франции.