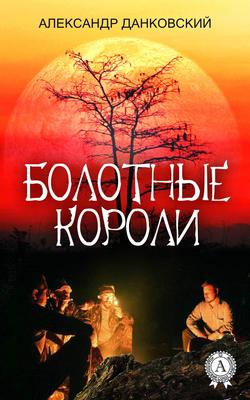Читать книгу Болотные короли - Александр Данковский - Страница 4
Часть первая
Пикник с биологией и не без морали
Глава вторая
Морская свининка
ОглавлениеПервые минут пять после того, как мы забрались в фургончик, – видать, для поддержания во мне боевого духа – Виктор травил разные местные байки, за правдивость которых я не поручусь.
«А лет шесть назад, меня еще здесь не было, была настоящая мирмикоарахномахия. То есть, – перевожу для неучей, незнакомых с языком Эсхила и Софокла – борьба муравьев с пауками. Лето выдалось жаркое, сухое и длинное – уже в конце апреля плюс двадцать два. Поэтому муравьи сменили поколений двадцать. И породили-таки бродячую форму – как в тропиках. Только бестии вымахали здоровенные, с палец. Ползет фаланга этой пакости по лесу – и все на своем пути жрет. Так пауки чего выдумали? Скооперировались и на пути колонны сооружали баррикаду из паутины. Нити такие прочные и липкие, что вся эта муравьиная колонна – а она могла и на полсотни метров тянуться – вязла, как в киселе. А пауки в засаде сидят. Как колонна увязнет – так они выскакивают и обедают. Ну, а если колонна прорвется – то обедают уже муравьи. Говорят, один химик секрет этого клея паучьего раскрыл, и теперь такие сетки будут использовать для ловли преступников. Даже вместе с автомобилями».
Вот-вот, я только подумал было про борьбу с терроризмом….
Впрочем, на последних словах Вадик начал оглушительно и басовито хохотать.
Запросто может оказаться, что про машины с преступниками – вранье ради красного словца, а вот про пауков – правда. Тут еще и не такое бывает. Только поди отдели истину от вымысла. Никто из этой парочки теперь нипочем не признается. А начать расспрашивать других старожилов – дураком себя выставлять. Я пару раз купился. Поверил в легенду о том, что домашние тараканы в ЗПБА переродились в монстров размером с табурет. Задал соответствующий вопрос кому-то из биологичников. И слушал потом издевательскую лекцию об особенностях дыхания насекомых и вообще членистоногих, из которой вынес только, что профессор Толкин наврал и гигантской паучихи по имени Шелоб существовать не могло, а самые большие насекомые в истории были похожи на стрекоз и имели размах крыльев около семидесяти сантиметров. Ну, так высота стандартного табурета – 45 см, вполне мог тараканчик и вымахать…
После второго поворота, когда дорога пошла похуже и на нее то и дело стали выползать ползучие и хватучие плети, оба биолога притихли и собрались. И до меня дошло-таки, что и для них это совсем не расслабляющая прогулка.
– Куда дальше двинем? – спросил Вадик, притормозив и переложив невзначай ладонь с баранки на рукоять двуствольной ракетницы, пристроенной рядом с водительским сиденьем. Тоже, кстати, неплохая вещь для выяснения отношений с недружелюбной фауной. Убить вряд ли убьешь, а пугануть как следует можно. Особенно если знать, чем заряжать, а эти ребята знали…
Витя зашуршал картой, сличая ее показания с картинкой на мониторе ноутбука. Заглянуть туда я со своего переднего сидения не мог. Но, скорее всего, там была либо фотография со спутника, либо интерфейс GPS-навигатора. Странно, зачем тогда бумажная карта?
Виктор перегнул ее пополам, так что я разглядел верхнюю часть, пусть и перевернутую. И с удивлением понял, что это схема Киева до возникновения ЗПБА. Что ж, тогда все понятно. Зона, к счастью для столицы, образовалась на месте достаточно обширного лесного массива между границей собственно Киева и его города-спутника Броваров, накрыв несколько бывших деревень, ставших на заре независимости дачными поселками, и лишь краешком зацепив городские территории. Так как пресловутая повышенная биологическая активность проявилась не мгновенно, населению удалось эвакуироваться (к сожалению, почти без помощи государства) и даже вывезти часть имущества. Правда, не всем было, куда и на чем вывозить. Я видел фото- и киносъемки того периода: длинные вереницы груженых домашним скарбом разномастных легковушек, приседающих на задние колеса, мопедов и даже велосипедов, обвешанных тюками и баулами. Местами эти потоки пытались хоть как-то направлять и регулировать немногочисленные злые даишники, но потом, кажется, бросили это дело. Может, испугались подцепить какую заразу, а может, просто поняли бесполезность и неблагодарность такого занятия. Ведь самые ушлые и безбашенные граждане старались мотнуться в пустеющие микрорайоны по нескольку раз, чтобы вывезти своего барахла побольше, а то и чужое прихватить… Впрочем, потом почти все имущество переселенцев конфисковали для обеззараживания, а их самих – уже силами не только милиции, но и военных, причем натовских (местные мало на что годились, а Европа успела испугаться) – пытались выявлять и сгонять в карантинные лагеря. К счастью, оказалось, что никакой опасности люди из ЗПБА не представляют, да и обеззараживать особо нечего: самые тщательные бактериологические пробы никакой особой микрофлоры на имуществе не обнаружили. Но вернуть бедным беженцам удалось мало чего. И страховые компании косили под форсмажор. Все как водится в нашем благословенном отечестве.
К счастью, вопрос с жильем для большинства потерпевших удалось решить довольно быстро. Одна из столичных фирм «крутнулась» и под шумок продала городской власти на корню целый микрорайон. Ибо последствия приснопамятного экономического кризиса еще давали себя знать, и спроса на квартиры все не было. Микрорайон оказался недостроенным, площади жилья завышенными – как же без этого? И за махинации с метрами и ценами потом под суд пошли замминистра строительства, вице-мэр и кто-то из руководства той фирмы, возглавляемой почему-то родственником мэра. Но это уже отдельная и не слишком веселая песня. К тому же давно обсосанная в прессе.
А на оставленной территории постепенно, под натиском разбушевавшейся флоры и фауны, разрушались дороги, эстакады, пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажки, канализационные коллекторы, здания цехов давно заброшенных и совсем недавно работавших заводов, трамвайные пути, линии электропередач, наземное метро и прочие элементы городской и пригородной инфраструктуры.
Как ни странно, даже пятиэтажные «хрущобы» не всегда рассыпались грудами бетонного мусора. Порой они сохраняли форму правильных параллелепипедов, хотя окна и двери вываливались (грибок напрочь сжирал деревянные переплеты), а стены целиком скрывались под плотным ковром вьющихся растений. На этажных перекрытиях за пару-тройку лет образовался слой перегноя, на котором буйно росли где трава, где грибы со шляпками размером с суповую тарелку, если не с велосипедное колесо. Фотографии и заспиртованные образцы я своими глазами видел в музее. На одном фото ясно был виден совершенно сюрреалистический пейзаж чьей-то бывшей гостиной. Напротив проросшего поганками дивана на остатках тумбы из стекла и стали все еще стоял древний телевизор с электронно-лучевой трубкой, прямо из полупроводниковых недр которого, проломив пластиковую крышку, росло небольшое деревце, удивительно напоминавшее миниатюрную пальму.
Правда, обнаружить такую пятиэтажную клумбу можно было, либо подойдя вплотную, либо, напротив, пролетев над ЗПБА на вертолете. Ибо деревья тут вымахивали таких размеров и росли так плотно, что секвойи с баобабами должны были помереть от зависти. Обзор они загораживали напрочь, поэтому картографировать все эти площади было ой как непросто. Вот и пользовались старыми картами, при случае корректируя их от руки.
– Давай еще семьсот метров вперед по дороге, а потом влево метров двести. Нас ждет школьный стадион.
Вадик резко крутанул баранку, ныряя в тоннель между стволами (каждый с колонну в хорошем соборе), а потом так же резко ударил по тормозам.
Нам открылось совершенно феерическое зрелище. Часть стадиона уже захватили вездесущие деревья, больше всего напоминавшие сосны, только вышиной едва не телебашню на Сырце[1]. А примерно две третьих покрывал сплошной ковер цветов непередаваемо нежного оттенка. Что-то эдакое с переходом от розового к светло-лиловому. Цветы напоминали львиный зев. А, может, и не напоминали, может, это он и был. Под легким ветром испод бархатистых лепестков чуть приобнажался, и по поляне пробегали мелкие волны цвета сливочного мороженого.
– Красиво, – пробормотал я, совершенно сраженный этим зрелищем.
– А ты, Леха, думал, у нас тут одни ужасы, которые так и норовят тебе откусить… палец? – голос Виктора тоже звучал приглушенно, словно он боялся спугнуть очарование. – Да ради того, чтоб такое увидеть, не жалко и десять раз в рейд сходить. Давай, Вадюша, обратно. Не будем эдакую красоту колесами давить.
Машина мягко сдала назад. Причем я заметил, как слегка примятые бампером растения на краю полянки выпрямились, словно стальные пружинки. И даже, кажется, скрежетнули по пластику обшивки. Здешняя красота умела за себя постоять.
– И часто вам подобные зрелища выпадают?
– Случается, – неопределенно ответил Колосов.
– Но редко, – тут же подхватил-возразил Дорожный. – На моей памяти так в первый раз. Так что, Леша, считай, повезло тебе.
– Ну, в таких масштабах действительно нечасто, – Колосов вынужден был согласиться. – Но отдельные экземпляры встречаются совершенно потрясающие. Такие эпифиты попадаются… Любой коллекционер орхидей за них бы душу продал. Представляешь – цветок размером с футбольный мяч!
– Но, небось, выносить их за пределы Зо… ЗПБА и продавать никто не пытался. Запрещено, биологическая опасность и все такое, – закинул я удочку. Сюжет «чудовище, вырвавшееся из Зоны» неоднократно обкатывала и желтая пресса, и даже создатели трешевых фильмов, выкладываемых в Интернете. Причем чудовища бывали всякие – и животные, и растения, и даже что-то среднее, вроде сказочных шагающих деревьев. Но непременно отталкивающей внешности, жутко опасные и невероятно агрессивные.
– А смысл? Особенность тамошняя в том, что за пределами ЗПБА ее эндемики не выживают. Чахнут буквально в течение нескольких часов. Иначе чего это бы все эти ботаники и прочие грибники с Запада сюда бежали, а не просили выслать им посылку с биологическими образцами наложенным платежом? И контроль по периметру, если приглядеться, не слишком строгий. Так, чтоб праздные любопытствующие сюда не лезли, задницу хищным грибам не подставляли. Ну, и чтоб всяк желающий исследовать флору-фауну честно отстегивал в казну, откуда мы зарплату получаем, а не лез самостоятельно в дебри. А наши подопечные за колючку ни ногой, ни корешком, – Вадик говорил об этом с такой гордостью, словно сам был творцом ЗПБА.
Я об этом обстоятельстве не слыхал. Хотя, если бы дал себе труд подумать, наверняка сообразил бы, что никакими спиралями Бруно и прочими поделками из колючей проволоки, никакими патрульными бэтээрами и конными пикетами невозможно удержать в пределах Зоны ни семена, ни корни, ни даже птичек-бабочек. Разве что крупное зверье, и то не факт. Кстати, надо бы наведаться, посмотреть то место, где ЗПБА переходит в местность с обыкновенной биологией. Наверняка есть там некая полоса отчуждения. Интересно, переход там резкий или имеет место смешения двух систем?
– Ты, Вадя, давай за дорогой следи, – Виктор опять заговорил строго и даже чуть язвительно, словно стесняясь недавно проявленной сентиментальности. – Между прочим, и из тех цветиков-семицветиков могла какая-нибудь пакость явиться.
– Надо было образец взять, – невпопад ответил Вадим.
– Ну, фото я сделать успел. Скажем ребятам из второй лаборатории, пусть специально съездят. Им любопытно будет. Очередная аномалия. Швед этот, Юхансон, небось заинтересуется. Ты ему намекни. А нам, если его на этот поход раскрутим, – премия.
– Каждая вылазка в лес тарифицируется для иностранцев отдельно, – предваряя мой вопрос, пояснил Вадик, следуя, впрочем, рекомендации следить за дорогой в зеркало заднего вида, пока мы пятились сквозь тоннель в лесу. – А тому подразделению, которое нашего дорогого зарубежного гостя на такой вот поход сагитировать сумеет, процент идет. Небольшой, но приятный. Такая вот коммерция на науке.
– Свинство это, – вдруг заявил Колосов, не замечая, что противоречит сам себе. – Ученые всего мира, если они настоящие ученые, должны помогать друг другу, а не пытаться денег слупить за каждый погляд в микроскоп.
Я ничего постыдного в такой практике не видел. Как по мне, говорила в Викторе советская закалка, остатки коммунизма. А ведь будешь так помогать бескорыстно шведскому коллеге, из любви к чистой науке, – глядишь, он Нобелевку огребет, а ты с носом останешься. Тем более, платит он все равно не из своего кармана, а за счет соплеменных налогоплательщиков, которым и так денег девать некуда. Пусть лучше идут на украинскую науку, на зарплату Вадиму с Виктором, чем на пособие по безработице какому-нибудь курду, чей дедушка когда-то перебрался в Стокгольм. По-моему, так. Наука – наукой, коммерция – коммерцией, и они прекрасно уживаются, если ко всему подходить разумно и без фанатизма.
Фургончик, наконец, перестал пятиться и встал на щербатой бетонке, где, наконец, можно было развернуться, пусть и царапая борта о разросшиеся кусты.
– Куда теперь?
Наш штурман, он же научный руководитель, снова зашелестел картой, защелкал клавишами.
– Давай налево, потом вперед метров пятьсот, там перекресток с клумбой круглой. На нем – направо и через двести метров налево. Там автостоянка была. Открытая, забетонированная. Хозяин ее собирался крытой сделать, даже столбы начал по периметру вкапывать, да, вишь, не успел. А нам для доброго дела сгодиться. Ночевать уже пора, а мы все по лесам раскатываем.
Ломая усиленным бампером сухие стебли (под днищем будто рвались мелкие петарды) машина выкатилась на бывшую стоянку, а теперь просто поляну.
– Маски! – скомандовал Виктор сзади. Вадим мгновенно натянул «свиное рыльце» респиратора, а я замешкался, запутался в ремнях и резинках – и тут же почувствовал, как чужие пальцы расправляют их на затылке. Наконец, маска, подогнанная еще перед выездом, заняла положенное ей место, и я засипел сквозь жутко высокотехнологические фильтры, которые призваны были защитить мой организм от всякой внешней бякости. Пропущенный через все эти мембраны и абсорбенты воздух оставлял на языке сильный и достаточно мерзкий привкус – словно в рот насыпали медных опилок пополам со стиральным порошком.
Вадим проверил, насколько плотно задраены окна, и нажал кнопку на приборной панели. Кнопка была крупная, из темно-коричневой пластмассы – небось, еще из семидесятых годов прошлого века. И на каком радиорынке ее нашли? Раздалось мощное шипение, и машина снаружи окуталась серно-желтым дымом, который вырывался откуда-то из-под брюха толстыми и лохматыми, словно корабельные канаты, струями.
Через десять минут дым рассеялся. Вадим посмотрел на экранчик какого-то прибора, торчащий вместо штатной магнитолы, сам себе кивнул и с видимым удовольствием стащил с головы маску. Я последовал его примеру – в ноздри тут же шибануло чем-то аптечно-едким.
– Ничего, – подбодрил меня Витя, видать, рассмотревший в зеркало заднего вида мою гримасу. – Минут пять-десять, и вонь рассеется. Зато меньше пакости кусачей будет вокруг. Я оглянулся на него. Борода после контакта с маской топорщилась особенно хаотически. Странно, вроде ж растительность на лице должна мешать респиратору, как же Виктор с ним управляется?
– Фигня все это, – недовольно заметил Вадик, открывая дверцу. Вонь внутри машины тут же усилилась. – Дышим этой пакостью, страдаем, а здешняя фауна давно на нее внимания не обращает. Разве что комарье.
– Ну, тоже немало, – примирительно сказал Виктор. – Комарье тоже пикник способно испортить.
– Да оно все равно через пару часиков налетит.
– А мы к тому времени уже управимся и с лагерем, и с костром.
Ребята вылезли наружу и стали сноровисто снимать с верхнего багажника какие-то тюки. Вдвоем они управлялись лихо, а я чувствовал себя третьим лишним.
– Чего стоишь? Помогай разматывать да крепить, – обернулся ко мне Витя на правах старшего.
Я не сразу уяснил задачу, а когда уяснил, немало удивился. Тюки оказались свернутым в рулон… забором. Двух-с-половиной-метровые планки крепились к параллельным то ли шнурам, то ли тросам в пластиковой оплетке. Развернув такой рулон и прикрепив его к вертикальным опорам, можно было быстро получить высокую и прочную изгородь, перелезть через которую – во всяком случае, человеку – было сложнее, чем через обычный жесткий забор. Опорами послужили бетонные столбы, которыми хозяин несостоявшейся автостоянки окружил ее территорию.
Я внимательно присмотрелся к планкам. Нет, не дерево, больно ровненько волокна идут. Скорее, похоже на щепаный бамбук – из такого китайцы делают палочки для еды.
– Из чего заборчик?
– Сосна, – ответил Вадик, не прекращая прикручивать жесткой проволокой секцию забора к бетонному столбику.
– Сосна? – недоверчиво переспросил я.
– Ну да. Тут раньше все больше сосняк был. Почвы-то песчаные. Это сейчас растет что ни попадя, да и слой перегноя накопился изрядный, на зависть любому лиственному лесу. Но старая флора не сдается, только мутирует малость. Она ж к почве нетребовательна, растет быстро даже в обычных условиях. Ну, а тут и вовсе как сорняк в огороде после дождя. Вот мы ее и утилизируем с пользой для общества.
– Да будет врать-то, – я обиделся. – Что я, досок сосновых не видал, что ли? У них совсем другой рисунок древесины. Сучки там всякие, разводы. Карманы смоляные…
– Так то ж у обычной сосны, у многолетней, – снисходительно пояснил Дорожный. – А это однолеток, здешний, говоря по-ученому, эндемик. За одно лето дерево вымахивает до седьмого этажа и толщиной становится в мое бедро, если не в два. И никаких тебе годовых слоев. Прочность так себе, зато стволы ровненькие. Регулярно приходится периметр вокруг Базы прореживать. Чтоб добро не пропадало, мы купили пилорамку ленточную и еще кое-чего дереворазделочное.
– Мы – это кто?
– Ну, биологичники. Институт. Кто ж еще?
– Ну, мало ли. Ты да шеф твой.
– Увы, нет во нас коммерческой жилки. Во всяком случае, до этого додумались еще раньше. Есть тут у нас замдиректора. Ильичем кличут. Толковый мужик. Умный, как тот Ильич, который Ульянов-Ленин. А этот Круличев…
Я, кстати, видел этого Круличева. Даже интервью брал – предварительно, в порядке сбора материала. И ни в жисть не заподозрил бы в нем тяги к таким приземленным вещам, как пилорама. Умный дядька, мне понравился, эдакий настоящий профессор. Не чудак из кинокомедии, который постоянно теряет очки и галоши и ни о чем, кроме своей науки, говорить не умеет, а подлинный ученый, пардон за высокий штиль. Эрудированный, подтянутый, всегда в костюме, в отличие от многих своих раздолбаев-подчиненных. Вычитал я как-то слово необычное – «энглизированный». Это вроде как находящийся под влиянием Британии. Причем еще той Британии, которая владычица морей. Королева Виктория и все такое… Так вот, к Круличеву словцо это очень подходило. Джентльмен, в общем. И речь у него несколько старомодная, вежливая – но без вычурности. «Будьте любезны… Вынужден вас огорчить… Не сочтите за труд… Простите мне мое любопытство…». При этом дело свое он, насколько я могу судить, туго знает. И не только биологию, но и смежные вещи – с 3D-моделированием дружит (мне показывал кое-что, правда, я мало что понял) и вообще с компьютером на «ты». В химии сечет, в физике, насколько могу судить. Поэтому и держит в узде всю эту анархическую братию от науки, авторитетом у нее пользуется. Но вот что он еще и организатор дереворазделочного производства, я б не догадался. Впрочем, тут, в ЗПБА, немало интересных и разносторонних личностей. Вот хотя бы спутники мои…
А Вадик между тем продолжил, возя пальцем по гладкому, словно пластмассовому, боку деревяшки.
– Между прочим, на этот рисунок сосны-однолетки давно уже мода пошла в киевских ресторанах – стойки отделывают, столешницы… Неужто не видел?
– Постой, не понял, вы дерево за пределы Зоны вывозите? А как же карантин? – я и не заметил, что брякнул запретное, вернее, нежелательное слово.
– Вадим Витальевич… – укоризненно-сурово проговорил подошедший к концу разговора Виктор. – Ты все-таки не забывай, с кем и о чем треплешься.
– Ой, тоже мне, секрет, – Вадик пренебрежительно махнул длинной рукой. – Помаленьку многое отсюда вывозят – и на сувениры, и с более меркантильными целями. А то же дерево – во вполне промышленных масштабах. С благословения, между прочим, нашего горячо любимого мэра. Часть денег идет, – тут он осекся и попытался вывернуться, – в городскую казну. На благо, так сказать, и во исполнение.
– А как же карантин? – тупо повторил я.
– А что карантин? Ты ж уже ученый. Ну, то есть обученный. Уже знаешь, что местные семена за пределами периметра не выживают, равно как и здешние насекомые, клещи, многоножки и прочие мелкие твари, которые могли бы проникнуть во внешний мир вместе с растительным сырьем. Да и пропариваем мы его. Всем польза, в том числе, между прочим, и охранникам нашим, которые, да будет тебе известно, сидят не на проценте от иностранных ученых, а на голых бюджетных ставках, пусть даже с повышающим коэффициентом в три копейки с хвостиком. А так им приварок идет. Они, кстати, и на пилораме подрабатывают. Только это… не пиши об этом, а? На всякий случай. Наверняка найдется идиот, который затеет проверку. Получится, я ребятам подлянку кинул, в натуре, а это не по понятиям, – в конце он сбился на почти уголовный жаргон, по-моему, просто рисовки ради.
Я неопределенно пожал плечами. Не хочу давать никаких обещаний заранее. А вдруг к слову придется, когда статью писать стану? Пусть и ехал я в ЗПБА вовсе не с целью разоблачать экономические прегрешения ее работников. В конце концов, серым бизнесом в наше время никого не удивишь. А тут ребята и впрямь ничего такого не делают. Подумаешь, лес втихаря пилят. Все равно ж ничейный. Не спилить – сгниет. У нас вон госбюджет пилят все, кто может – и ничего.
По-любому, сейчас уж точно не до того. Выбрался в дикую часть ЗПБА – так надо набираться впечатлений, по сторонам смотреть, а не о чужих бабках думать. Ну, я и смотрел. И видел, как Вадик сперва замкнул периметр ограждения, а потом вытащил из недр машины какую-то совсем уж легкомысленного вида винтовочку и выскользнул с нею в щель в заборе – туда, где «полотнища» из проволоки и планок стыковались внахлест.
– Куда это он?
– А за приварком к ужину, – Виктор не отрывался от процесса разведения костерка, без которого, ясное дело, не обходится ни один приличный выезд на природу. Дров вокруг валялось в изобилии, но все как на подбор либо сырые, либо уже трухлявые. Здешние биологически активные древоточцы сгрызали древесину «на раз». А что не брали древоточцы, то харчили грибы. Эти, как их, ксилофаги (надо же, запомнил-таки ученое слово). Поэтому сброшенные или сломанные ветрами сучья просто не успевали высыхать. А будучи уложенными классическим «шалашиком», гореть не хотели даже понукаемые бензином. Витя злился и отчаянно дул куда-то внутрь дровяной кучи. Дым ел ему глаза, заставлял плеваться и щуриться, но дальше, вопреки известной поговорке, дело не шло.
– За каким приварком?
– За грибами, например. Их тут пропасть, надо только знать, какие съедобные более одного раза.
Ха, кажется, мсье Виктор шутить изволит.
– А ты чего расселся? – вдруг спросил он.
– Так командуй, – я действительно не знал, что делать.
– ВЛКСМ.
– Не понял.
– Возьми Лопату, Копай Себе Могилу, – и Витя довольно заржал. По-моему, несколько искусственно.
Ну да, в какие-нибудь восьмидесятые это, наверное, была ужасно крутая и рискованная шуточка – так расшифровать аббревиатуру, означавшую что-то вроде «Всеобщее Ленинское Коммунистическое Содружество Молодежи». Комсомол, то есть. Я в него уже, ясное дело, не попал, хотя и слышал от родителей и старших товарищей. Но сейчас острОта выглядела замшело. М-да-с, любой юмор стареет быстро, а политический – в особенности.
– Да какую могилу-то. Тут же асвальт везде.
– Асфальт, – педантично поправил меня доктор наук (можно подумать, филологических, а не биологических). – А ты все-таки попробуй.
Я все-таки попробовал. Асфальтовое покрытие давно уже под напором прущей снизу жизни полопалось на отдельные горбатые ломти размером не больше сиденья от стула. Но укладывали его в свое время на совесть. То есть, на подушку из щебенки. Щебенка, правда, была третьесортная, все больше строительный мусор, потерявший за несколько лет нахождения во сырой земле былую твердость. Но даже своротив в сторону серый блин, вырыть в этом месиве сколько-нибудь заметную яму я все равно не смог. Лопата с противным скрежетом натыкалась на камни, обломки кирпича, бетона и даже, кажется, на осколки унитаза. Археологу раздолье, а простому журналисту – мука.
Витя с нескрываемой иронией покосился на мои мучения, хмыкнул, притащил из машины лом и какую-то киркомотыгу (клювастый такой шанцевый инструмент), поплевал на руки и с видом опытного землекопа ткнул железом в каменистое месиво… Звякнуло громко, эффект…. Ну, был кое-какой. Пожалуй, за полчаса он бы такими темпами яму размером в ведро и выкопал бы.
– Ну что, убедился? – не без злорадства спросил я.
– Ладно, хрен с ним, обойдемся, – неопределенно ответил Колосов.
Поясняю для непосвященных (меня самого посвятили только перед выездом, дав почитать отпечатанную на сквернейшей бумаге, серой и шершавой, почти как наждак, брошюрку «Основы выживания в Зоне Повышенной Биологической Активности. Для служебного пользования»). Тем, кому приходилось почему-либо ночевать в ЗПБА, настоятельно рекомендовалось соорудить земляное убежище. То есть, выкопать что-то вроде окопа, накрыть его двумя слоями сетки – москитной и маскировочной на кевларовой нити – и дрыхнуть под этой крышей. Ежели сеток в хозяйстве не было, предписывалось обходиться ветками и бревнами, а в случае дождя – полимерной пленкой.
Вадик, когда я потребовал объяснений, заявил, что эта инструкция, в отличие от большинства подобных ей, имеет право на существование, ибо составлена на основании опыта «живых, вопреки всему, людей». Комары и прочая местная кровососущая дрянь по непонятному капризу взбесившейся природы почти не опускаются ниже уровня почвы, поэтому от них можно при случае укрыться, даже забившись в складку местности. Что может быть весьма актуально, они тут, говорят, дюже злые. Мутанты, тудыть их в качель.
Отбиваться от какой-нибудь хищной пакости, сидя в яме, может быть удобнее, чем из эфемерного укрытия палатки. Особенно при наличии огнестрельного оружия и дистанции между хищником и жертвой. К счастью, особо крупных хищников в ЗПБА нет. «Львов в этих краях повыбили еще во времена Киевской Руси, медведей – чуть позже. Волки, правда, попадаются, да собаки, одичавшие до невероятия. Но им на нашего брата нападать стремно. Повезло, что накрыло тогда эту окраину, а не район Политеха. Представляешь, какой головняк мы бы получили в этом случае? Бегали б по городу страусы с тиграми», – Вадик иронически подмигнул.
Для тех, кто не знает: в районе киевского Политехнического института располагается городской зоопарк. Да и цирк там недалеко. А расхожая студенческая шутка утверждает, что зоопарка целых три. Под двумя остальными понимается сам Политех да еще медицинский институт.
«Ну и, на крайний случай, могила», – подвел тогда итог теме земляного укрытия Вадим. Явно, чтобы попугать меня.
Так что нынешняя фраза Виктора про «копай себе могилу» явно служила продолжением давешнего инструктажа. Но, так как копать не получалось, пан Колосов решил, что ночевать будем в фургончике. Тесновато, ибо он весь был набит инструментами и аппаратурой, но как-нибудь разместимся.
Совсем близко за оградой что-то щелкнуло, и я непроизвольно дернулся. Даже потянулся к кобуре. Но видя, что мой спутник и усом не ведет, и бородой тоже, успокоился. Оказалось, это вернулся Вадим. В заборную щель он протисквался с трудом: руки были заняты. В правой – та самая легкомысленная винтовочка (по-моему, воздушка, и именно ее хлопок я и слышал только что), в левой – тушка какого-то зверька вроде кролика среднего размера.
Оказалось – действительно кролик. Причем не какой-нибудь, а декоративный. Точнее, его пра-пра-прадедушка был декоративным кроликом в живом уголке или зоологическом кружке местной школы, или, может, дома детского творчества, как после обретения нэзалэжности перекрестили дома пионеров. Это зверье, равно как некоторые хомячки и морские свинки, сумело выжить и расплодиться в ЗПБА. В отличие от волнистых попугайчиков и прочей птичьей мелочи, которые наверняка тоже жили в зоокружках, но не выдержали столкновения с суровой реальностью и зимними холодами. Хорошо, что пионэры не держали каких-нибудь анаконд и крокодилов в виду скудости финансирования. А то имели б мы тут «Роковые яйца» в полный рост. Привет, так сказать, от давно почившего земляка, свидетельство его не только писательского, но и пророческого дара.
Из пухлого черного рюкзачка Вадик вытряхнул на чахлую травку, пробившуюся сквозь многочисленные трещины в асфальте, еще с полдесятка тушек, на удивление пестрых. Один из кроликов-покойников был нежно-кремового цвета, а какой-то грызун размером с хорошего зайца, но совсем без хвоста и с ушами, волнистыми и круглыми, как капустные листья, щеголял трехцветной раскраской – бело-рыже-черной.
– Это что за зверь? – спросил я, шевельнув тушку носком ботинка.
– Cavia porcellus, – ответил Вадик. Спокойным таким, нейтральным тоном, будто на вопрос «который час?».
– Переведи, биолог. Не все ж такие образованные.
– Это верно. Не все. Не учат вашего брата-журналиста латыни. Впрочем, вас ничему толковому не учат. А это морская свинка. ЗПБА иногда пробивает на гигантизм, и грызуны вырастают крупнее, чем природой положено. Крысы, например, с собаку…
– И мы что, эту крысу жрать будем?
– Ну, во-первых, не крысу, а, повторяю для особо дубоцефалистых, морскую свинку. Разные животные. Крыса, она же rattus norvegicus, всеядна и жрет, как вы, сэр, изволили выразиться, чего попало. В том числе падаль. А морская свинка – зверь исключительно травоядный. Во-вторых, древние инки их специально на мясо выращивали, как мы – кроликов. Так что не дрейфь. Еще и добавки попросишь, да не будет.
– А вообще можно есть то, что здесь растет? – вдруг забеспокоился я. – Чужие ДНК и все такое…
– Ты хоть не позорься, знаток, – скривился Колосов, до того спокойно слушавший наш диалог. Он терпеть не мог невежества. А я, увы, в школе не был отличником по биологии. Равно как и по другим наукам. – Можно подумать, когда ты курицу ешь, там тебе родные ДНК. В организме белок все равно расщепляется до аминокислот.
– Ну, кое в чем наш необразованный, но любознательный друг прав, – вступился за меня Дорожный, которого, видимо, удачная охота настроила на дружелюбный лад. – Чужой белок может дать аллергию, да и ядовитые растения попадаются… В общем, че попало вкушать тут я бы не рекомендовал. Но мы, как люди отважные и преданные науке, давно ставим на себе смелые эксперименты. Так что не дрейфь, плохим не накормим.
Короче, импровизированный шашлык из свинок и кроликов оказался на высоте. Костерок таки удалось разжечь, пустив в дело несколько лишних планок забора. А потом он уже ел и сырые ветки, которые мы, махнув рукой на знаменитое «береги природу – твою мать» наломали с окрестных кустов. Шампуры, как оказалось, ребята благополучно забыли, понадеявшись друг на друга, но дело спас обнаруженный на стоянке трехметровый кусок алюминиевого провода. Его пришлось расплести на отдельные жилы, на которые и нанизывались кусочки нежного филе. Кстати, в свое время именно так делали одноразовые шампуры ушлые дети гор, подвизающиеся на ниве городского общепита. Дешево и сердито.
1
Район Киева, где в 1973 году был запущена телестанция с башней высотой 385 м (второе место в Европе, между прочим, а среди решетчатых сооружений – первое в мире).