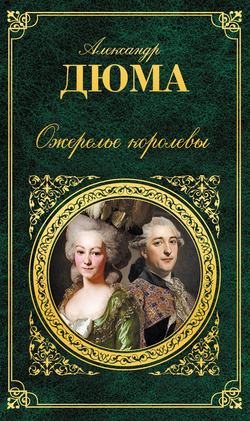Читать книгу Ожерелье королевы - Александр Дюма - Страница 19
Часть первая
16. Месмер и Сен-Мартен[47]
ОглавлениеБыли времена, когда весь Париж, свободный от каких бы то ни было дел, предавался сплошному досугу, увлекаясь вопросами, которые в наши дни составляют монополию богачей, считающихся никчемными, да ученых, считающихся бездельниками.
В 1784 году, до коего мы с вами добрались, моднейшим вопросом, повсюду витавшим в воздухе и, словно облако среди горных вершин, застревавшим в хоть сколько-нибудь образованных и возвышенных умах, был месмеризм – наука загадочная и почти не разъясненная ее создателями, которые, не испытывая потребности сделать свое детище достоянием народа с самого момента его рождения, позволили этой науке взять имя человека, так сказать, аристократический титул, вместо того чтобы назвать ее каким-нибудь ученым греческим словом, коими нынче скромные я застенчивые ученые вводят в обиход научные понятия.
Да и к чему в 1784 году было демократизировать науку? Разве народ, которым правили уже более полутора веков, не спрашивая его мнения[48], жаловался на что-либо в своем государстве? Отнюдь. Народ лишь представлял собою плодоносную пашню, дававшую урожай, тучную ниву, которую в положенный срок жали. Но хозяином этой пашни был король, а жнецами – знать.
Нынче все стало по-иному: Франция, похожая на громадные песочные часы, в течение девяти столетий отмеривала время монархии, а могучая власть Господа их переворачивала; теперь же часы эти будут отмеривать время народа.
В 1784 году имя человека еще служило рекомендацией. Сегодня же – напротив: успех определяется именем вещей.
Однако давайте оставим «сегодня» и бросим взгляд в день вчерашний. Ну что такое полвека с точки зрения вечности? Это даже меньше, чем отрезок времени, разделяющий вчера и сегодня.
Итак, доктор Месмер находился в то время в Париже, как мы узнали от самой Марии Антуанетты, когда она просила у короля разрешения нанести ему визит. Да будет нам позволено теперь сказать несколько слов о докторе Месмере, имя которого, знакомое нынче лишь немногим посвященным, не сходило в описываемую нами пору у людей с языка.
В 1777 году доктор Месмер привез из Германии, этой страны туманных грез, науку, над которой, так сказать, собрались тучи и блистали молнии. В свете этих молний ученый видел лишь тучи, образовавшие у него над головою мрачный свод, тогда как обыватель замечал лишь сами молнии.
Месмер дебютировал в Германии работой о воздействии планет на людей. Он пытался доказать, что небесные тела благодаря силам их взаимного притяжения оказывают воздействие на живые существа, и в особенности на их нервную систему, через посредство мельчайших флюидов, наполняющих вселенную. Однако эта его первая теория была довольно абстрактна. Чтобы ее уразуметь, следовало иметь представление о работах Галилея и Ньютона. Она представляла собою смесь астрономии с астрологическими бреднями и не могла быть понята не только простыми людьми, но и аристократами, которые, чтобы ее постичь, должны были бы организовать научное общество. Месмер бросил эту идею и занялся магнитами.
В то время магниты изучались весьма интенсивно, свойства притяжения и отталкивания делали их похожими на человеческие существа, поскольку как бы наделяли неживые минералы двумя главнейшими человеческими страстями – любовью и ненавистью. Потому-то магнитам и приписывали необычайные целебные свойства. И вот Месмер ввел магниты в свою первую теорию и попытался посмотреть, что из этого получится.
К несчастью, приехав в Вену, Месмер обнаружил, что у него уже есть соперник. Некий ученый по фамилии Галль[49] заявил, что Месмер похитил у него разработанный им метод. Тогда Месмер как человек изобретательный заявил в свой черед, что магнитами он заниматься больше не будет, так как они совершенно бесполезны, и отныне станет лечить с помощью не вещественного, а животного магнетизма.
В слове этом, прозвучавшем из его уст как новое, никакого открытия, в сущности, не заключалось: магнетизм был известен еще в древности, использовался в египетских ритуалах, а также греческими предсказателями, и его традиции тянулись в средние века, когда кое-что из этой науки применяли чародеи XIII, XIV и XV веков. Многие из них сгинули в пламени костров и стали мучениками этого странного вероучения.
Юрбен Грандье[50] был не кем иным, как магнетизером.
Месмер слышал немало разговоров о чудесах магнетизма. Жозеф Бальзамо, герой одной из наших книг, оставил следы своего пребывания в Германии, в частности в Страсбурге. Месмер принялся по крупицам собирать сведения об этой науке, разбросанные повсюду, точно огоньки, блуждающие ночью над берегом пруда, и создал в конце концов цельную теорию, которую назвал месмеризмом.
После этого он послал тезисы своего учения в Парижскую Академию наук, Лондонское Королевское общество и Берлинскую Академию. Две первые корпорации не ответили ему вовсе, а последняя обозвала сумасшедшим.
Тогда Месмер вспомнил некоего греческого философа, который отрицал движение и которого его противник посрамил, пройдя на его глазах несколько шагов. Он прибыл во Францию, принял от доктора Сторка и окулиста Венцеля семнадцатилетнюю девушку, страдающую заболеванием печени и темной водой[51] и после трехмесячного лечения болезнь была побеждена – слепая прозрела.
Это исцеление убедило многих, и среди них врача по имени Делон: из противника он превратился в апостола.
Начиная с этого времени слава Месмера стала расти; Академия высказалась против новоявленного целителя, однако двор его поддержал. Министерство начало переговоры с Месмером, предлагая ему облагодетельствовать человечество, открыв секрет своей науки. Месмер назначил свою цену. Поторговавшись, г-н де Бретейль[52] от имени короля посулил ему пожизненную пенсию в размере 20 000 ливров и, кроме того, 10000 ливров за то, что он обучит своему искусству трех человек, выбранных правительством. Однако Месмер, возмущенный скаредностью короля, отказался, взяв с собою нескольких больных, уехал на воды в Спа.
Но тут Месмер получил неожиданный удар. Делон, его ученик Делон, владевший секретом, который Месмер отказался продать за 30 000, открыл общедоступный кабинет, где стал лечить с помощью месмеризма.
Узнав эту страшную новость, Месмер стал кричать, что его обокрали, обжулили; он едва не сошел с ума. Но одному из взятых им с собою больных, г-ну де Бергасу, пришла в голову счастливая мысль отдать способ знаменитого профессора в руки своеобразного товарищества на вере. Он организовал комитет из ста человек с капиталом в 340 000 ливров, поставив условие, что Месмер раскроет пайщикам свой секрет. Месмер сообщил им все, что они просили, забрал деньги и вернулся в Париж.
Момент оказался благоприятным. В жизни народов случаются минуты, предшествующие серьезным преобразованиям, когда вся нация как бы останавливается перед неведомой преградой, колеблется, чувствуя, что дошла до края пропасти, хотя ее и не видит.
Во Франции как раз настала такая минута: внешне страна выглядела спокойной, но дух ее пребывал в смятении, люди как бы застыли в своем призрачном счастье, предвидя его скорый конец; так, человек, дойдя до края леса и увидав, что он редеет, угадывает близость опушки. Спокойствие, в котором не было ничего прочного и реального, утомляло; люди искали сильных впечатлений и встречали любые новшества с распростертыми объятиями. Все стали слишком легкомысленны, чтобы интересоваться, как прежде, вопросами управления государством или молинизма[53], и ссорились по поводу музыки, принимая сторону Глюка или Пиччини[54], страстно обсуждали «Энциклопедию»[55] и мемуары Бомарше.
Появление новой оперы занимало большее число умов, нежели мирный договор с Англией и признание республики Соединенных Штатов. Это было время, когда мыслящие люди, познавшие благодаря философам истину, а значит, и разочарование, устали от прозрения, позволяющего проникнуть в суть вещей, и шаг за шагом пытались преодолеть границы реального мира, чтобы вступить в мир грез и фантазий.
И действительно, если можно считать доказанным, что лишь ясные и понятные истины быстро становятся достоянием масс, не менее неоспоримо и то, что тайны обладают для всех людей могущественной притягательной силой. Вот и народ Франции неодолимо влекла к себе странная загадка месмерических флюидов, которые, по мнению адептов, возвращали больным здоровье, безумным – разум и делали из мудрецов безумцев.
Везде только и слышалось имя Месмера. Что он сделал? На ком теперь произвел свою чудесную операцию? Какому знатному вельможе вернул зрение или силу? Какой даме, изнуренной бессонными ночами, проведенными за игрой, привел в порядок расстроенные нервы? Какой молоденькой девушке открыл будущее, введя ее в магнетический транс?
Будущее! Великое слово всех времен, великая загадка для всех умов, разрешение всех проблем! Да и то сказать – какое тогда было настоящее?
Королевская власть без великолепия, дворянство без влияния, страна без торговли, народ без прав, общество без уверенности.
От королевской семьи, в тревоге и одиночестве восседающей на троне, до семьи простолюдина, чуть не умирающей с голоду в какой-нибудь трущобе, – везде нищета, бесславие и страх.
Позабыть о других и думать лишь о себе, почерпнуть из нового, странного, неведомого источника уверенность в долгой жизни без недугов, вырвать хоть что-нибудь у скупого неба – разве это не предмет чаяний, причем вполне объяснимых, любого человека, которому Месмер приоткрывал завесу будущего?
Вольтер умер, и во Франции не стало слышно взрывов веселья, остался разве что смех Бомарше, еще более горький, чем у его учителя. Умер Руссо, и во Франции не осталось больше религиозных философов. Руссо пытался поддержать Бога, но после его смерти никто более на это не отважился из страха оказаться раздавленным немыслимой тяжестью.
Когда-то французы серьезно занимались войной. Короли поддерживали в своих подданных национальный героизм, но теперь единственной войной, которую вела Франция, была американская, и к тому же король лично никак в ней не участвовал. Французы сражались за какое-то неведомое понятие, которое американцы называли независимостью – словом, весьма абстрактно понимаемым французами как свобода.
Да и эта далекая война, что велась, в сущности, другим народом и в другом мире, только что закончилась.
По зрелом размышлении людям казалось, что стоит и впрямь интересоваться лучше Месмером, этим немецким врачом, который уже второй раз привел Францию в волнение, нежели лордом Корнуолом[56] или же г-ном Вашингтоном – они ведь так далеко, что их, скорее всего, никто никогда и не увидит.
А Месмер был рядом: его можно увидеть, можно прикоснуться к нему и – самое могучее желание трех четвертей Парижа – ощутить его прикосновение.
И вот этот человек, которого со дня его появления в Париже никто не поддерживал, даже королева, всегда охотно помогавшая своим соотечественникам, и который, если бы не предательство доктора Делона, так и пребывал бы в безвестности, – этот человек поистине царил в умах всего города, оставив далеко позади короля, с которым он никогда не разговаривал, г-на де Лафайета[57], с которым еще не разговаривал, и г-на Неккера[58], с которым уже не разговаривал.
И как если бы уходящий век поставил своей задачей дать каждому уму то, к чему он склонен, сердцу – то к чему оно лежит, и телу – то, что ему требуется, лицом к лицу с материалистом Месмером встал спиритуалист Сен-Мартен, чье учение призвано было утешить тех, кому претил позитивизм немецкого врача.
Представьте себе атеиста с вероучением более добрым, чем сама религия, республиканца, преисполненного учтивого почтения к королям, дворянина, принадлежащего к привилегированным классам, но при этом нежно любящего народ, представьте, наконец, как этот человек, наделенный даром железной логики и пленительного красноречия, нападает на все существующие религии, которые называет безрассудными лишь по той причине, что они все подразумевают наличие Бога.
Вообразите Эпикура в белом пудреном парике, расшитом кафтане, блестящем камзоле, коротких атласных штанах, шелковых чулках и красных башмаках, Эпикура, не только опрокидывающего богов, в которых он не верит, но и сотрясающего правительства, которые считает культами, так как те никогда не могут согласиться друг с другом и почти всегда приводят человечество к несчастьям.
Он выступал против социального законодательства, ставя его под сомнение следующим тезисом: оно одинаково наказывает несхожие преступления, карает следствия, не разобравшись в причинах.
Теперь вообразите, что этот искуситель, называвший себя Неведомым философом, с целью объединить людей разного образа мыслей собрал воедино все, что можно найти привлекательного в обещаниях духовного рая, и вместо утверждения о равенстве всех людей, что само по себе нелепость, изобрел формулу, которая, казалось, вертелась на языке даже у тех, кто ее отрицал: «Все мыслящие люди – короли!»
А теперь представьте, что подобного рода нравственный принцип внезапно стал достоянием общества без надежд и руководителей, общества, напоминающего архипелаг, воды которого изобилуют подводными рифами, то бишь всевозможными идеями. И если вы вспомните, что в те времена женщины были нежны и безрассудны, мужчины жаждали власти, почестей и удовольствий, что короли позволили своим коронам покачнуться и на них впервые остановился любопытный и угрожающий взгляд кого-то, таящегося во мраке, – если вы вспомните все это, то вряд ли удивитесь количеству приверженцев, которых снискала себе доктрина, гласившая:
«Выберите среди вас душу, превосходящую другие в любви, милосердии, в могучем желании любить и приносить счастье. Когда же такой человек будет найден, склонитесь перед ним, смиритесь, уничижитесь, признайте себя существами низшими по сравнению с ним, чтобы дать пространство для неограниченной власти его души, миссия которой – восстановить в вас главный нравственный принцип, то есть равенство в страданиях, поскольку в силу своих способностей и окружения вы сейчас неравны».
Добавьте к этому, что неведомый философ окружил себя тайной и предпочитал глубокий мрак вдали от всяческих соглядатаев и прихлебателей для мирного обсуждения своей великой социальной теории, способной стать политикой всего мира.
– Слушайте меня, – говорил он, – верные друзья, преданные сердца, слушайте и постарайтесь понять, а возможно, даже не слушайте, потому что, если вам интересно и у вас есть желание меня понять, это удастся с большим трудом – ведь я не раскрываю своих тайн тем, кто сам не пытается приподнять над ними завесу.
– Я говорю вещи, которые, кажется, вовсе не хочу сказать, потому-то часто и складывается впечатление, что я хочу сказать вовсе не то, что говорю.
И Сен-Мартен был прав: его вправду окружали молчаливые, угрюмые и ревностные защитники его идей, непонятная религиозная мистика которых была непроницаема для постороннего взора.
Вот так, трудясь во славу души и материи, мечтая уничтожить Бога и религию Христа, эти двое разделили по убеждениям всех мыслящих людей, все избранные натуры Франции на два лагеря.
Вокруг ванны Месмера, откуда струилось благополучие, объединилась вся чувственность и изящный материализм вырождающейся нации, тогда как вокруг книги заблуждений и истин собрались натуры набожные, милосердные, любящие и жаждущие, вкусив химер, просветлиться.
А если учесть, что за пределами этих привилегированных сфер кипели и бурлили самые разные идеи, что слухи, вырвавшись наружу, превращались в раскаты грома, подобно отдаленным зарницам, превращающимся в молнии, нетрудно будет понять неопределенное состояние, в котором находились низшие слои общества, то есть буржуазия и народ, которых позже назовут третьим сословием: они угадывали только, что речь идет об их судьбах, и в своем нетерпении и смирении горели, словно новые Прометеи, желанием похитить священный огонь и с его помощью вдохнуть жизнь в мир, который будет принадлежать им и в котором они сами будут вершить свою судьбу.
Заговоры под видом бесед, союзы под видом кружков, общественные партии под видом кадрилей, другими словами, гражданская война и анархия – вот чем казалось все это человеку думающему, который еще не прозревал другой жизни для общества.
Увы! Сегодня, когда все покровы уже сорваны, когда нация Прометеев уж раз десять была опалена похищенным ею самою огнем, скажите: что мог предвидеть мыслящий человек в конце этого странного XVIII века? Или разрушение мира, или нечто похожее на то, что произошло между смертью Цезаря и восшествием на престол Августа.
Август отделил мир языческий от мира христианского, так же как Наполеон отделил мир феодальный от мира демократического.
Впрочем, довольно занимать читателя этим отступлением, которое, должно быть, показалось ему несколько затянутым, однако, ей-же-ей, трудно осветить нужную нам эпоху, не касаясь столь серьезных и жизненно важных вопросов.
Но попытку мы все же сделали. Это похоже на попытку ребенка, соскабливающего ноготком ржавчину с постамента античной статуи, чтобы прочитать на три четверти стершуюся надпись.
Вернемся же к тому, что видно на первый взгляд. Продолжая описывать действительность, мы сказали бы слишком много для романиста и слишком мало для историка.
48
Имеется в виду правление династии Бурбонов (с 1589 г.), ни разу не собиравших Генеральные штаты (сословный парламент) до 1789 г.
49
Галль, Франц Йозеф (1758–1826) – австрийский врач и ученый, занимавшийся физиологией человеческого мозга, создатель френологии.
50
Грандье, Юрбен (1590–1634) – священник из Лудена, который был заживо сожжен по обвинению в том, что подвергал местных монахинь дьявольскому влиянию.
51
Болезнь, род слепоты.
52
Бретейль, Луи-Опост (1730–1807) – барон, дипломат, министр при Людовике XVI.
53
Теологическое учение испанского иезуита Луиса Молина (1535–1600).
54
Глюк, Кристоф Виллибальд (1714–1787) – композитор, работавший в Милане, Вене и Париже, реформатор оперы в духе классицизма. Пиччини, Никколо (1728–1800) – итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. С именами Глюка и Пиччини связана борьба сторонников старых (Глюк) и новых оперных традиций.
55
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» – 35-томный труд, созданный в 1751–1780 гг. французскими просветителями во главе с Д. Дидро.
56
Корнуол, Чарльз (1738–1805) – английский генерал, разбитый американцами при Йорктауне (1781 г.)
57
Лафайет, Мари Жозеф (1757–1834) – маркиз, французский политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке.
58
Неккер, Жак (1732–1804) – французский министр финансов в 1771–1781 и 1788–1790 гг.