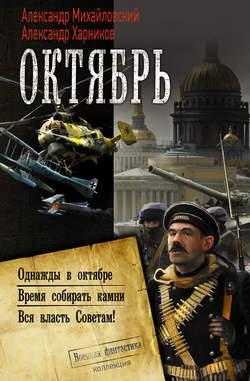Читать книгу Октябрь: Однажды в октябре. Время собирать камни. Вся власть Советам! (сборник) - Александр Михайловский - Страница 3
Однажды в октябре
Часть 2
Накануне
Оглавление12 октября (29 сентября) 1917 года. 08:35. Петроград, Смольный
Феликс Эдмундович Дзержинский
Пся крев, когда же мне удастся поспать хотя бы четыре часа подряд! Вот и сегодня не сложилось – почти всю ночь в Смольном шло совещание военки, где мы с Подвойским встречались с представителями солдатских комитетов Петроградского гарнизона. Все они единодушно обещали свою поддержку в случае вооруженного свержения правительства Керенского. Этот лайдак уже всем настолько осточертел, что ни один нормальный человек не заступится за него.
Уже под утро, распрощавшись с солдатами и с Подвойским, я решил хоть немного поспать на топчане в комнатушке под лестницей. Так вот, холера ясна, и там меня нашли! Прибежал какой-то мальчишка с запиской от Сталина, в которой тот просил, нет, скорее требовал, чтобы я срочно пришел в редакцию нашей газеты на Кавалергардскую. Причин такой срочности Коба не указал, написал лишь, что это «архиважно» и «архисрочно». На языке Ленина, который сейчас находится в Выборге, сие означает, что нужно отнестись к этому сообщению со всей серьезностью.
Я быстро оделся, наскоро привел себя в порядок и отправился в редакцию. Свернув со Шпалерной на Кавалергардскую, я заметил в конце улицы, у дома, в котором находилась наша газета, группу военных. То, что это были военные, я понял сразу. Форма, правда, незнакомая, выправка, оружие. Кроме Сталина среди этих людей я приметил генерала Потапова. Я знал, что Николай Михайлович с июля этого года активно помогает нашей военке, активно снабжая ее важнейшей информацией. Его присутствие здесь стало подтверждением того, что произошло что-то действительно весьма важное.
Я поздоровался со Сталиным, генералом Потаповым и поприветствовал остальных, доселе незнакомых мне людей. Потом Коба взял меня за рукав и отвел в сторону.
– Феликс, то, что я тебе сейчас скажу, является самой большой тайной, которую тебе придется узнать и потом хранить, как зеницу ока, – сказал мне Сталин. – Видишь людей рядом с генералом Потаповым?
Я кивнул. Сталин пристально посмотрел мне в глаза, после чего почти шепотом продолжил:
– Так вот, Феликс, это люди из будущего.
– Иезус Мария! – воскликнул я. – Коба, ты ведь позвал меня не для того, чтобы в такое время и в таком месте шутки шутить?
– Феликс, я еще раз тебе говорю серьезно, как может сказать старый большевик старому большевику: эти люди попали к нам в 1917-й из 2012 года. И не одни они, а целая эскадра военных кораблей, которая сегодня утром разнесла в пух и прах германский флот, попытавшийся высадить десант на Эзеле и прорваться в Рижский залив.
– Матка боска Ченстоховска! – опять воскликнул я. – Коба, это правда?!
– Правда, Феликс, истинная правда, – сказал Сталин, – я имел возможность в этом убедиться. Они сумели доказать, что пришли из будущего, не только мне, но и генералу Потапову. А ты прекрасно знаешь, кто этот человек, и как мало он верит в разную чепуху. Так вот, Феликс, мы решили послать тебя к их командованию в качестве полномочного представителя от РСДРП(б). Ты полетишь на их летательном аппарате, который они называют вертолетом. Он прилетит сюда из Рижского залива и приземлится в Таврическом саду. Это совсем рядом, ты знаешь…
Я снова кивнул. В этом саду я пару раз гулял, когда выпадали свободные час-полтора. Он был очень красив и живописен. К тому же находился всего в десяти-пятнадцати минутах ходьбы от Смольного.
Значит, мне поручено лететь к нашим потомкам. Что ж, поручение партии надо выполнять. Полетим на вертолете. Хоть на ковре-самолете!
Мы подошли со Сталиным к удивленно взирающим на нас пришельцам из будущего.
12 октября (29 сентября) 1917 года, 09:00. Петроград, Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь»
Александр Васильевич Тамбовцев
Когда мы вышли из типографии, было уже совсем светло. С серого питерского неба моросило что-то похожее на водяную пыль. «Как через комариный член поливает», – говаривал в таких случаях один мой знакомый старшина. Сталин, генерал Потапов, сержант Свиридов со своей рацией и Ирочка, поеживаясь, стояли у дома. Старший лейтенант Бесоев пошел снимать с постов своих головорезов, которые бдительно охраняли все подходы к типографии.
Генерал Потапов с интересом разглядывал вооружение и снаряжение наших «мышек». Он, видимо, очень хотел расспросить меня о набитых всякой всячиной жилетах и о карабинах необычного вида – с кривыми магазинами и насадками на конце ствола. Но улица революционного города не самое лучшее место для изучения вооружения начала XXI века. Потому-то Николай Михайлович и отложил до поры до времени все расспросы.
Вскоре я заметил приближающуюся со стороны Шпалерной высокую худую фигуру в поношенном пальто и мятой шляпе. Высокий лоб, бородка клинышком. Я узнал Дзержинского. В то время он еще не носил знаменитую солдатскую шинель, гимнастерку и фуражку, и в таком прикиде был слегка похож на поменявшего имидж Боярского.
Заметив нас, он подошел поближе и сначала поздоровался со Сталиным, потом, к моему удивлению, дружески пожал руку генералу Потапову, после чего с любопытством стал разглядывать нас. Ирина, старший лейтенант Бесоев и подчиненные ему «мышки», в свою очередь, с таким же любопытством разглядывали легендарного Железного Феликса.
Известие о нашем прибытии из будущего, по всей видимости, весьма удивило будущего председателя ВЧК. Я услышал восклицания: «Матка Боска!», «Иезус Мария!», «Не може быц!» – словом, выражения, которые не раз слышал от своей покойной бабки-полячки, когда она чему-то очень удивлялась.
Я неожиданно засмеялся. Генерал Потапов посмотрел на меня с удивлением.
– Знаете, Николай Михайлович, – сказал я, – тот район Питера, в котором мы сейчас находимся, там, в будущем, более пятидесяти лет носил название «Дзержинский район». Парадокс, не правда ли?
Потапов заулыбался, оценив мою шутку.
– А Сталинский район у вас был? – спросил он, рассчитывая на положительный ответ.
– Нет, такого района в Питере не было, – ответил я уже серьезно, – но был город Сталинград, нынешний Царицын, на улицах которого и в прилегающих к нему степях во время Великой Отечественной войны произошло одно из величайших в мире сражений, прославившее нашу страну на весь мир. Брусиловский прорыв рядом с этим сражением покажется вам Царскосельскими маневрами. Недаром один гениальный чилийский поэт назвал Сталинград орденом Мужества на груди Земли.
Потапов вопросительно посмотрел на меня:
– Александр Васильевич, вы найдете время, чтобы рассказать мне о той войне? Профессиональное любопытство, знаете ли. Кстати, когда и с кем мы воевали?
– Я обязательно все вам расскажу, Николай Михайлович, – сказал я. – Отлично понимаю, что вам как военному человеку очень хочется узнать о величайшей войне в мировой истории. А продолжалась она, – я понизил голос, – под руководством товарища Сталина ровно 1418 дней – с июня 1941 года по май 1945 года. И воевали мы с немцами, но на самом деле, как и в ту Отечественную войну 1812 года, фактически со всей Европой… А потом, покончив с Германией и подняв на руинах Рейхстага свой флаг, развернулись на 180 градусов и за два месяца одним ударом нокаутировали японцев, рассчитавшись за позор Цусимы и руины Порт-Артура.
Впрочем, Николай Михайлович, я смотрю, товарищ Сталин закончил свою беседу с Феликсом Эдмундовичем.
Действительно, невозмутимый, со смеющимися глазами Сталин и взъерошенный, изумленный донельзя Дзержинский подошли к нам.
– День добрый, Александр Васильевич, – с легким польским акцентом поприветствовал меня Дзержинский.
– Дзень добжий, Феликс Эдмундович, – ответил я.
– Пан поляк? – с любопытством поинтересовался Дзержинский.
– И да и нет, товарищ Дзержинский, – усмехнувшись, ответил я. – Поскольку моя бабушка была полькой, то можете считать меня поляком ровно на одну четверть. Именно она, царствие ей небесное, в детстве научила меня немного говорить по-польски. А вообще-то я русский.
– Если вы из будущего, – поправил меня Дзержинский, – то бабушка ваша сейчас должна находиться в добром здравии и весьма молодых годах…
В ответ я только кивнул, признавая его правоту. Моей бабушке сейчас всего одиннадцать лет. А Железный Феликс, похоже, уже, что называется, включился и теперь воспринимал все происходящее как реальность, данную ему в ощущениях.
Тем временем со Шпалерной на Кавалергардскую свернул легковой автомобиль неизвестной мне марки. Выглядел он до предела карикатурно: огромные фары, спицованные колеса, кожаный верх кузова. Наши «мышки» насторожились и взяли оружие наизготовку.
– Все в порядке, товарищи, – успокоил их генерал Потапов, – это мой авто. Я посылал его за генералом Бонч-Бруевичем. А вот и обещанный мне грузовик!
Вслед за легковой машиной на Кавалергардскую свернул небольшой грузовичок с кузовом, закрытым брезентовым тентом, размером приблизительно с полуторку ГАЗ-АА. По полукруглому переду капота я узнал машину фирмы «Рено».
Из легковой машины вышел среднего роста плотный генерал в пенсне и с лихо закрученными усами. Это был генерал-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, еще один кандидат на знакомство с потомками. Но в этот раз уже генерал Потапов отошел в сторону с генералом Бонч-Бруевичем, а мы терпеливо стали ждать исхода их переговоров.
Но недаром выпускников Российской академии Генерального штаба учили излагать свои мысли емко и кратко. Не прошло и пяти минут, как оба генерала подошли к нам и поздоровались со всеми присутствующими.
Взаимное созерцание и обмен любезностями мог бы затянуться еще на долгое время, но тут неожиданно наш радист, сержант Свиридов, присевший на корточки у рации и внимательно слушавший эфир, поднял руку, призывая всех присутствующих к тишине.
– Александр Васильевич, – сказал он, – вертушка уже на подходе. Она будет в условленном месте через десять минут. Надо поторопиться.
Мы быстро погрузили в «Рено» свое имущество, загрузились в машины сами и отправились в Таврический сад встречать вертолет.
Тогда же. Петроград, Таврический сад
Александр Васильевич Тамбовцев
До ворот сада мы добрались без особых приключений. Да и ехать-то было всего каких-то пять минут. По дороге мы остановились на углу Кавалергардской и Суворовского и высадили троих из пяти наших «мышек» со всем тяжелым грузом, в том числе и рацией. Пусть они обживаются пока в нашем временном штабе. Встретивший их у подъезда дворник – со слов Потапова, свой человек – проводит их в квартиру.
Ну, а мы успели подъехать к воротам Таврического сада ровно в тот момент, когда со стороны Водопроводной станции в небе появился силуэт вертолета. Заехав на территорию сада и выйдя из машин, вся наша компания быстрым шагом направилась на пыльный, засыпанный опилками и желтой листвой плац. В саду в это время было малолюдно. Но на всякий случай двое оставшихся с нами бойцов и сам старший лейтенант Бесоев перекрыли три небольших мостика через протоки, отделяющие небольшой островок с нашим импровизированным аэродромом от основной территории сада. Нам не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний крутился здесь в момент посадки вертолета.
Вот, отбрасывая вниз ревущие потоки ветра, винтокрыл завис над нашими головами, а потом с ревом и свистом турбин начал снижаться. Сталин, Дзержинский и генералы, щурясь от пыли и держась обеими руками за головные уборы, с изумлением глядели на это чудо техники из будущего. Вертолет, поднимая кучи пыли, опилок, песка и опавших листьев, мягко приземлился в самом центре плаца. Вращение винтов замедлилось, но не остановилось.
Мы подошли к вертолету. Дверь в его борту открылась, и на свет божий вылез здоровенный морпех. Увидев меня, он подошел ко мне и, лихо вскинув ладонь к берету, отрапортовал, пригибаясь от ветра и перекрикивая рев турбин:
– Товарищ капитан, сержант контрактной службы Кукушкин и еще двое бойцов прибыли в ваше ра…. – тут увидел стоящих чуть поодаль Сталина и Дзержинского. Двое малоизвестных генералов не произвели на него особенного впечатления, но вот вожди революции… Эти легендарные личности стояли перед ним и, посмеиваясь, в свою очередь с любопытством разглядывали сержанта. А там было на что посмотреть, ведь сержант Кукушкин не косил, подобно «мышкам» Бесоева, под дезертиров, а был экипирован в полное боевое.
– Тащ капитан, извините, – наконец сумел произнести он, поворачиваясь в сторону Сталина с Дзержинским, – по уставу, старшего по званию начальника приветствуют первым. – Он выпрямился и снова приложил ладонь к берету: – Здравия желаю, товарищи Сталин и Дзержинский.
– Здравствуйте, товарищ Кукушкин, – ответил Сталин, подойдя к морпеху и пожав ему руку. – Мы в ближайшее время собираемся делать революцию… Согласны ли вы нам помочь?
– Так точно, товарищ Сталин, – четко ответил сержант. – Вы только прикажите, а уж мы сделаем так, что никто не позавидует той Бабе-Яге, что была против!
Сталин усмехнулся:
– У вас, товарищ Кукушкин, очень простой и совершенно правильный взгляд на жизнь.
Я демонстративно посмотрел на часы и обратился ко всем присутствующим:
– Товарищи, все это замечательно, только надо в пожарном темпе разгрузить вертолет и отправить его в обратный путь. Время не ждет. Кстати, гляньте, сюда скоро половина улицы сбежится.
Действительно, из-за ограды Таврического сада на невиданное доселе зрелище с изумлением смотрели десятка два прохожих.
После моей реплики все зашевелились и забегали. Морпехи выгрузили из вертолета большой, тщательно упакованный брезентовый мешок с яркими цветными плакатами – анонсом вечернего спецвыпуска газеты «Рабочий путь». Сталину прямо в руки вручили папку с фото- и печатными материалами для этого номера. Кроме того, сноровистые парни в камуфляжах извлекли из недр вертолета два пулемета «Печенег», один «Утес», ящики с патронами, связку «Мух» и «Шмелей», какую-то аппаратуру в ящиках. Все это они быстро перетащили через мостик и погрузили в кузов стоящего у ворот сада «Рено».
А мы тепло попрощались с Дзержинским и Бонч-Бруевичем, которые не без робости забрались в вертолет. Турбины взревели на повышенных оборотах, винты слились в белесые круги. Поток воздуха сорвал фуражку с головы Сталина, и она покатилась по усыпанному опилками плацу. Когда он ее догнал и, отряхнув, надел на голову, вертолет уже поднялся над садом и взял курс на запад.
– Ну что, товарищи, за работу, – сказал Сталин, – надо срочно делать номер. Александр Владимирович и Ирина Владимировна, вы поможете нам?
– Обязательно, товарищ Сталин, – ответил я. – Только давайте сначала заеду к нашим ребятам на их штаб-квартиру, любезно предоставленную Николаем Михайловичем, и узнаю последние новости о событиях на фронте. А Ирина пока поможет вам в работе над номером. Как вы убедились, она достаточно опытный и талантливый журналист.
Сталин довольно кивнул. Было видно, что он совсем не против подобной рокировки. Ирина тоже кокетливо посмотрела на Сосо, всем своим видом показывая, что готова к совместной работе с будущим генералиссимусом. Тут к Сталину подошел сержант Кукушкин. Его бойцы, закончив погрузку, расположились около грузовичка. Было забавно наблюдать, как праздношатающиеся обыватели с опаской поглядывают на этих крепких, до зубов вооруженных парней в лихо заломленных на ухо черных беретах.
Кукушкин снова козырнул:
– Тащ Сталин, наше командование поставило перед моим отделением задачу взять под охрану здание типографии и вас лично. Адмирал сказал, что в тот раз накануне революции юнкера закрыли газету и уничтожили тираж. Этот вечерний номер должен выйти любой ценой.
– Сержант, а не слишком ли вас мало для такой задачи? – спросил генерал Потапов.
– Если обстановка осложнится и нам потребуется помощь, сюда немедленно вылетят несколько боевых вертолетов с подкреплением, – ответил Кукушкин. – Наша же задача – продержаться до их подхода. А потом придет «лесник» и разгонит господ юнкеров по казармам.
Сталин кивнул и вместе с Ириной, сержантом Кукушкиным и прочими морпехами на грузовичке отправился в типографию. А мы с генералом Потаповым не спеша пошли по Таврической в сторону музея Суворова. Можно было немного прогуляться и не спеша поговорить о делах наших скорбных, но весьма насущных…
12 октября (29 сентября) 1917 года, 09:35. Балтика, Моонзундский пролив, Куйваст. Флагман соединения, броненосный крейсер «Баян»
Командующий морскими силами Рижского залива вице-адмирал Михаил Коронатович Бахирев
Вице-адмирал Бахирев, командующий морскими силами Российской республики в Рижском заливе, этим утром проснулся задолго до рассвета. И причиной тому была не узкая и жесткая койка в адмиральской каюте, а донесшийся откуда-то издали глухой звук сильнейшего взрыва. За ним раздались еще несколько взрывов послабее.
«Началось», – только и смог подумать он, разлепляя глаза. Весь последний месяц к нему поступала информация о том, что германцы затевают какую-то гадость. И похоже, что разведка не подвела. Прорыв немецкого флота в Рижский залив начался. «Но как воевать с ними, господа?!» Армия совершенно разложена, флот в ненамного лучшем состоянии. Все делается лишь по соизволению господ-товарищей из судовых комитетов, и никто им не указ, даже пресловутый Центробалт. Делают, что хотят, точнее, не хотят ничего делать.
Иногда балтийцы сражаются, как львы, а порой бегут, словно зайцы. Над офицерами и адмиралами все время дамокловым мечом висит угроза нового матросского бунта, бессмысленного и беспощадного. А тут еще во главе России болтун и фигляр «Главноуговаривающий» Сашка Керенский. С одной стороны, матросиков можно понять – служить такому охламону просто противно. Только вот независимо от того, как и из-за чего началась эта война, сейчас флот реально защищает Россию от германского нашествия. Керенский когда-нибудь провалится в тартарары, а Россия останется.
Вот только если немцы возьмут в придачу к Риге еще и Ревель, Гельсингфорс и Петроград, то эта Россия окажется отброшенной сразу в XVII век, к временам царя Алексея Михайловича Тишайшего. Об этом мечтают некоторые политики в окружении Вильгельма. Ну, а на союзников надеяться не стоит, они уже вовсю кроят-перекраивают наши земли, деля их на сферы влияния. Только вот Керенский ничего не видит, он трещит, словно сорока, и, не видя ничего дальше собственного носа, прямым ходом ведет страну к катастрофе. Но как бы оно ни было, но надо вставать, разбираться в обстановке и воевать. Что-то делать-то надо однозначно…
– Качалов! – позвал адмирал своего вестового, который остался ему верным, несмотря на все революции. – Неси мундир, да побыстрее…
Через полчаса, заправленный стаканом «Адвоката» и застегнутый на все пуговицы, вице-адмирал поднялся на мостик «Баяна». Видимость была почти нулевая, низкая облачность, дождик… Лишь где-то на юго-западе, за островом Эзель, полыхало зарево, метались дальние зарницы и громыхали взрывы.
Здесь же на мостике находился контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин, старый и верный друг Бахирева. Рядом с ним стоял по-немецки подтянутый и немногословный командир крейсера «Баян» капитан 1-го ранга Александр Константинович Вейс.
– Ничего не понимаю, Михаил Коронатович, – повернулся Пилкин к подходящему Бахиреву. – Кто воюет, с кем… Орудийных залпов вроде не слышно, одни взрывы. Сигнальщики сказали, что самый первый раз рвануло в пять утра с минутами, причем вспышка была такая, что зарница осветила половину неба. Явно это детонация погребов на крейсере, или даже линкоре. Несомненно, немцы начали свою операцию, но кто там с ними так сейчас яростно сражается? Неужели англичане?
– На англичан, Владимир Константинович, где сядешь, там и слезешь. Да и нет у них тут никаких крупных сил, одни подлодки. А ими много не навоюешь, пакостей разных наделать можно, а вот победить – нет. Передайте нашему доблестному гидроавиатору штабс-капитану Вавилову на Папенсхольм, пусть его гидропланы, как рассветет, произведут облет района. Отправьте запросы на все батареи. В первую очередь меня интересует бухта Тагалахт. Судя по всей этой иллюминации, воюют именно там. Сейчас обсуждать просто нечего. Можно позвать цыганку и раскинуть карты, а можно попробовать погадать на кофейной гуще. Больше информации, господа! Прикажите удвоить вахты сигнальщиков и привести корабли в боевую готовность, – помолчав, Бахирев добавил тихо: – Конечно, насколько это возможно.
Информация начала поступать позже, но обстановка от этого яснее не становилась. Сначала, около половины шестого утра, поступили юзограммы с батарей на мысах Хундсорт и Нинаст. Сведения, содержащиеся в них, были просто фантастическими. Германский флот вторжения, подошедший к бухте для высадки десанта, внезапно, еще в полной темноте, был атакован неизвестным оружием. Большое количество кораблей потоплено и повреждено. Десант разгромлен. Также сообщалось о ранее никому не известных летательных аппаратах с двумя винтами наверху и о взорвавшемся немецком крейсере (у матросов на берегу бескозырки от взрывной волны посносило) и о севшем на грунт после двух взрывов тяжело поврежденном дредноуте. Потом юзограмма с мыса Сеппо на острове Даго известила, что на противоположной стороне Солоэзунда на берег выбросился тяжело поврежденный мощным взрывом еще один германский крейсер.
Поднявшиеся на рассвете пять гидропланов отряда штабс-капитана Вавилова разлетелись во все стороны, и к восьми часам утра начали возвращаться с разведданными. Гидроплан, проводивший разведку в юго-западном направлении, обнаружил шесть германских линкоров, на всех парах уходивших, можно сказать бегущих, от залива Тагалахт в направлении Данцига. Их сопровождали немногочисленные миноносцы. Еще два германских линкора, имеющих скорость не более десяти узлов – скорее всего, тяжело поврежденных, – были обнаружены севернее. По отсутствию явно выраженных внешних разрушений был сделан вывод, что имел место подрыв на минах.
Еще один гидроплан, посланный на запад от залива Тагалахт, завернул назад уже упомянутый винтокрылый летательный аппарат. Предупредительная очередь из пулемета очень крупного калибра и недвусмысленные жесты пилотов ясно показали экипажу летающей лодки, что дальше им лететь не стоит. Было еще несколько сообщений о таких аппаратах. Их видели в самых разных концах Моонзундского архипелага. Юзограмма капитана 1-го ранга Кнюпфера с Церельской батареи сообщала о двух германских линкорах, прошедших на большой скорости мимо западной стороны полуострова Сворбе. Совершенно непонятно, в чем был смысл сих маневров.
Чем больше скапливалось у командующего информации, тем более запутанной выглядела картина. Вернее, не совсем так, картина была довольно ясной: немцы потерпели сокрушительное поражение, их враг был настолько страшен, что линкорам, самым ценным кораблям германского флота, был дан приказ срочно уходить в главные базы на Балтике. Но кто сумел нагнать на противника такого страха? И с помощью каких сил германцам были нанесены такие тяжелые потери?
– Марсиане, Михаил Коронатович, – посмеиваясь, сказал Пилкин, – прилетели и разгромили за нас германцев. Наверное, боевые треножники с тепловым лучом. Помните, как у английского писателя Герберта Уэллса? Самый закономерный итог этой дурацкой войны.
– Будет вам шутить, Владимир Константинович, – отмахнулся Бахирев, – с каких это пор марсиане малюют на своих аппаратах Андреевский флаг? И вот, читайте: красные пятиконечные звезды. Как бы ваши марсиане не оказались родом из Центробалта.
– Пятиконечная звезда вроде бы масонский символ? – с сомнением спросил Пилкин. – Я еще слышал, что в древности красная звезда обычно именовалась Марсовой звездой – по имени древнеримского бога войны Марса.
А вообще, тут сам черт ногу сломит. Не удивлюсь, если ваша догадка истинна, и наши загадочные союзники действительно связаны с Центробалтом и стоящими за ним большевиками. Вот капитан 1-го ранга Иван Иванович Ренгартен, начальник нашей радиоразведки, путем радиоперехвата и расшифровки совершенно точно определил потери германцев. Но ему не удалось поймать ни одного сообщения, кроме германских и наших. Ни морзянку, ни голос – ничего. Только на некоторых частотах странный треск и писк в эфире, никому опознанию и расшифровке не поддающийся.
Потом аппарат Юза поднапрягся и родил пришедший из Гельсингфорса циркуляр Центробалта. А был тот циркуляр до предела странным и не лезущим ни в какие ворота. Вот его текст:
«Товарищи балтийцы! Революционное Отечество в опасности! Кровавые германские палачи рвутся к сердцу нашей революции – городу Петрограду. Настоящим приказом Центробалта Балтийский флот приводится в полную боевую готовность. Всем судовым комитетам немедленно мобилизовать команды на отпор империалистической угрозе. Все на борьбу с германским нашествием! Любой, кто не подчинится боевому приказу командования или проявит трусость, будет считаться изменником дела революции со всеми вытекающими из этого последствиями.
Председатель Центробалта Дыбенко».
Не успели господа адмиралы почесать в затылках, раздумывая, что бы все это значило, как аппарат застучал снова. На этот раз депеша Центробалта была адресована непосредственно адмиралу Бахиреву и подписана двумя фамилиями:
«Командующему морскими силами Рижского залива вице-адмиралу Михаилу Коронатовичу Бахиреву. Срочно. Чрезвычайно важно.
Получением сего приказа привести вверенные вам корабли в состояние боевой готовности. В дальнейшем вам предписывается, путем обмена офицерами связи, установить непосредственное взаимодействие с революционной эскадрой контр-адмирала Ларионова и совместными усилиями окончательно довершить разгром германской десантной флотилии. Неподчинение сему приказу будет считаться изменой Революционному Отечеству и караться расстрелом.
Командующий Балтийским флотом контр-адмирал Развозов. Председатель Центробалта Дыбенко».
– Ну-с, Михаил Коронатович, – контр-адмирал Пилкин энергично прошелся по маленькой каюте взад вперед, – что вы мне на это скажете?
Бахирев провел рукой по лицу, потер красные от бессонницы глаза.
– Скажу, Владимир Константинович, лишь одно: множество малых загадок сменились одной большой с довесками. Кто такой этот контр-адмирал Ларионов, и что это за его революционная эскадра, от которой с таким испугом драпал германский флот? Куда посылать офицеров связи, чтобы установить взаимодействие? Что вообще означает весь этот поворот в войне?
Пилкин задумчиво почесал затылок.
– Михаил Коронатович, совершенно очевидно могу вам сказать лишь одно: большевики или уже взяли власть в Петрограде, или возьмут ее в ближайшие дни или даже часы. Однозначно Керенскому этой победы уже не праздновать. Победителями окажутся совсем другие люди, и это уже вполне очевидный факт.
Но остается только один вопрос, главный: откуда у них взялась эта самая революционная эскадра? Из каких кораблей она состоит? Немецкие линкоры не стали бы удирать от вооруженных гражданских пароходов – или чего там смогли набрать в свой флот сторонники господина-товарища Ульянова?
– Владимир Константинович, вы читали рапорт наблюдателя с одной из летающих лодок с авиабазы в Папенсхольме? – вопросом на вопрос ответил ему Бахирев. – Той самой, что идентифицировала полузатопленный крупный германский корабль как линейный крейсер «Мольтке» и несколько раз облетела его на небольшом расстоянии и малой высоте. Вот, полюбуйтесь, – адмирал достал из вороха бумаг бланк юзограммы и начал читать вслух: – «Никаких повреждений на надводной части германского корабля не обнаружено, за исключением двух отверстий в центральной части палубы от полубронебойных снарядов калибром примерно в тридцать дюймов. Взрыв этих двух снарядов в районе котельного отделения, очевидно, и привел к разрушению подводной части корпуса и гибели корабля», – Бахирев отбросил бланк. – Тридцать дюймов! Теперь вы поняли, от чего бежали немцы?! Я не знаю, как это удалось, но судя по тому, что нынешняя позиция этой эскадры расположена в шестидесяти – семидесяти милях от залива Тагалахт, то за рамки моего понимания выходит не только калибр этих орудий, но и их дальнобойность. Немецкие линкоры бежали от врага, который может уничтожить их одним-двумя снарядами, при этом ничем не рискуя сам.
– Михаил Коронатович, вы забыли еще одну вещь, – улыбнулся Пилкин, – даже при самом точном накрытии кроме прямых попаданий бывают еще и промахи. Как правило, из всего бортового залпа в цель попадает не более одного снаряда, а остальные ложатся рядом. Так вот, наблюдатели на батареях, прикрывающих бухту Тагалахт, вообще не заметили промахов, одни только попадания. Вы представляете, какой столб воды должен дать эдакий тридцатидюймовый снаряд, даже просто упавший в воду без разрыва! Такое заметит даже слепой.
– Согласен с вами, Владимир Константинович, – кивнул Бахирев, – но, в принципе, это ничего не меняет. Германцев прогнали отсюда, как мальчишек, залезших в соседский сад, а самых нерасторопных еще и высекли. Как это было сделано – абсолютно непонятно, но к этому делу каким-то образом приложили руку Центробалт и стоящие за ним большевики…
В этот момент адмиралы услышали слабый, почти неслышный, но ранее не знакомый им звук – какой-то вой пополам со свистом и стрекотом. Почти одновременно в каюту после короткого стука ввалился весь растрепанный вестовой адмирала, Качалов.
– Ваш… превосх… вас капитан 1-го ранга Вейс зовет на мостик, срочно. Там… такой… такая… такое… летит!
Встревоженные адмиралы поднялись на мостик «Баяна». По небу к стоящим на якорях кораблям приближался удерживаемый в воздухе двумя вращающимися сверху огромными винтами странный пузатый аппарат, размером с хороший сарай. Именно он и издавал тот самый свист и грохот, которые адмиралы услышали у себя в каюте. Обогнув по широкой дуге стоящие на якорях корабли, показав всем Андреевский флаг на борту и красные пятиконечные звезды на высоких килях, аппарат направился прямо к «Баяну». Поглазеть на бесплатное зрелище вылезла почти вся команда.
Еще несколько минут, и вот он, огромный, навис над баком «Баяна», обрушивая вниз и в стороны настоящий ураган своими вращающимися винтами. Адмиралы и офицеры привычно, как при шторме, схватились за фуражки, а вот некоторые матросы на палубе сплоховали, и в воду, кувыркаясь, полетели бескозырки. Аппарат завис саженях в трех – четырех от палубы, и из открытого люка вниз упал канат. По нему, как лихие матросы парусного флота, которых удалось в мичманской юности застать адмиралу Бахиреву, вниз начали соскальзывать одетые во все черное фигуры.
– Воистину марсиане! – пробормотал контр-адмирал Пилкин, когда разглядел лица бойцов, покрытые устрашающей раскраской из черных полос, словно это какие-то индейцы из прерий САСШ. Быстро рассредоточившись, не говоря худого слова, они взяли под контроль носовую часть корабля.
Последним, на чем-то вроде подвесного кресла, опустили человека в черной флотской форме. Рыбак рыбака видит издалека. Если первые из незваных гостей походили скорее на кубанских пластунов или на головорезов из пехотных охотничьих команд, то этот последний был, несомненно, морским офицером, причем в немалых чинах.
Успокоив жестом своих телохранителей, он поднялся по трапу и подошел к замершим на мостике в напряжении адмиралам. Остановившись перед Бахиревым, козырнул и отрапортовал, стараясь перекричать шум двигателя винтокрыла:
– Михаил Коронатович, разрешите представиться: капитан 1-го ранга Сергей Петрович Иванцов, начальник штаба особого соединения контр-адмирала Ларионова. Виктор Сергеевич просил, чтобы вы с обратным рейсом выслали к нему своего офицера для установления связи.
– Очень приятно, Сергей Петрович, – Бахирев немного растерянно пожал Иванцову руку. – Ну хоть что-то тайное станет явным. Скажите, Сергей Петрович, а что это за люди прибыли вместе с вами?
– Виктор Петрович осведомлен о том печальном падении дисциплины, произошедшем на русском флоте, и, во избежание каких-либо эксцессов, снабдил меня надежной охраной. Если кто-то не захочет во исполнение циркуляра Центробалта подчиниться вашему приказу, то эти ребята моментально разъяснят ему политику партии большевиков и товарища Сталина. На пальцах.
Но, Михаил Коронатович, вертолет не может висеть в воздухе вечно. Вы уж определитесь поскорее – кто будет отправлен делегатом связи на нашу эскадру. Могу сказать сразу, на нашем большевистском флоте царит жесточайшая дисциплина, и вашему представителю совершенно нечего опасаться.
– Вертолет – ах да, значит, так это называется, запомним! – вице-адмирал Бахирев повернулся к своему давнему другу и соратнику контр-адмиралу Пилкину: – Владимир Константинович, я думаю, что именно вам нужно слетать к загадочным «марсианам» и увидеть все своими глазами. Ступайте, и да хранит вас Господь!
12 октября (29 сентября) 1917 года, 10:05. Балтика, ТАКР «Адмирал Кузнецов»
Контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин
Я приник к квадратному иллюминатору летательного аппарата. Корабль, к которому мы приближались, выглядел весьма непривычно для меня. Я знал о попытках военно-морских офицеров САСШ совершить взлет и посадку с палубы линейного корабля «Пенсильвания» и о переоборудовании в Британии недостроенного линейного крейсера «Фьюриес» в авианосец.
Но корабль, который я увидел сегодня, просто потряс меня своими размерами и необычностью конструкции. Во-первых, он был огромен, во-вторых, палуба его была плоской, как ипподром.
Корабль лежал на серой глади Балтийского моря, а над его мачтой, вызывая во мне законную гордость за русский флот, развевался Андреевский флаг. На палубе корабля, к которому мы подлетели на нашем странном летательном аппарате, шла какая-то малопонятная мне деятельность. Громадные самолеты, больше похожие на наконечник копья, транспортировали по палубе небольшие машины. Несколько винтокрылых стрекоз кружились в воздухе.
Еще чуть дальше, на глади моря, застыли темно- серые силуэты других кораблей эскадры. В такую погоду и при такой окраске было сложно определить их тип, но мне почему-то казалось, что это крейсера. Два корабля 1-го ранга и два корабля 2-го ранга. Входили ли в эту эскадру еще какие-нибудь корабли, понять было трудно. В первую очередь, из-за ограниченной видимости и из-за маскировочной окраски этих кораблей.
Лишь только колеса нашего аппарата коснулись палубы морского гиганта в районе кормы, рев двигателей стал стихать, а лопасти – постепенно замедлять вращение. Я вылез наружу, пригибаясь от ветра, и внимательно осмотрелся.
Картина была фантасмагорическая. Борт корабля был как минимум в два раза выше борта «Баяна», море плескалось где-то далеко внизу, и у меня появилось ощущение, что я стою на плоской крыше огромного дома. Тем временем мотор винтокрыла умолк. Обернувшись, я увидел, как аппарат складывает лопасти, а подъехавшее к нему маленькое смешное авто оранжевого цвета берет его на буксир.
Я не знал, что мне делать дальше и куда идти. Но тут ко мне подошел молодой лейтенант и, козырнув, представился:
– Вахтенный офицер старший лейтенант Снегирев. Господин контр-адмирал, командующий эскадрой контр-адмирал Ларионов ждет вас. Прошу следовать за мной.
Не успели мы сделать несколько шагов, как вдруг совсем рядом раздался оглушительный вой и грохот. Я посмотрел в сторону бака, откуда доносился этот звук. Из-за перегораживающих палубу металлических щитов поднялось мерцающее марево раскаленного воздуха. Потом из-за одного щита вперед рванулся один из тех похожих на наконечник копья аппаратов. Быстро пробежав по короткому отрезку палубы, он подпрыгнул на задранном вверх носу, но вместо того чтобы упасть вниз, начал карабкаться все выше и выше в серое балтийское небо. И тут я понял, что этот аппарат – аэроплан совершенно новой конструкции. Под крыльями этого аэроплана гроздьями висели какие-то округлые предметы, делающие его похожим на возвращающуюся с рынка хозяйку, – это бомбы, догадался я. Следом за ним стартовали еще два аэроплана.
– На Либаву пошли, – проводил аэропланы взглядом мой сопровождающий, – будет сегодня у немцев дискотека!
Я хотел было спросить у старшего лейтенанта, что такое дискотека, но не стал. По тому количеству бомб, что понесли на Либаву эти аэропланы, было и так понятно, что тамошний германский немецкий гарнизон ожидают большие неприятности.
Контр-адмирал Ларионов встретил меня в довольно просто, пожалуй даже аскетично обставленном адмиральском салоне.
– Добрый день, Владимир Константинович, – приветствовал он меня, пожимая руку, – как долетели?
– Спасибо, Виктор Сергеевич, – ответил я, садясь в предложенное мне кресло, – долетел я нормально, если не считать того, что подобное воздушное путешествие я совершаю первый раз в жизни. Самое главное, что все мои кишки остались при мне, ничего не вытрясло. Скажите, чем мы обязаны столь неожиданному визиту и, откровенно признаюсь, столь своевременной помощи? Лично меня несколько беспокоит и тайна происхождения вашей эскадры, и ее, эээ… большевистский статус. От господ Ульянова и его окружения лично я не жду ничего хорошего для России.
Мой собеседник какое-то время пристально смотрел прямо мне в глаза. Потом он жестом предложил мне курить и сказал задумчиво:
– Об окружающих Ульянова-Ленина господах-товарищах можно поспорить. Некоторые из них, например, некий Троцкий-Бронштейн, считают нашу Россию охапкой хвороста, которую необходимо бросить в огонь мировой революции. Но среди большевиков, хочу вам заметить, есть люди, для которых Россия – не пустой звук. Со многими, чьи фамилии я вам позже назову, стоит… нет, просто необходимо сотрудничать!
Впрочем, давайте отложим на время все разговоры о политике. Дело в том, что из Петрограда с минуты на минуту к нам должны прибыть еще два человека. От высшего командования Российской армии мы ждем генерала Бонч-Бруевича, а от руководства партии большевиков – весьма толкового и незаурядного человека, Феликса Эдмундовича Дзержинского. Каждый из них уполномочен принимать решение от имени своего руководства. Пока же примите как данность то, что Андреевский флаг для нас не менее свят, чем для вас, а сохранение России как государства и русских как народа является для нас задачей, не требующей никаких обоснований.
Я только кивнул, принимая позицию моего собеседника.
12 октября (29 сентября) 1917 года, 10:45. Балтика, ТАКР «Адмирал Кузнецов»
Контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов
Узнав, что к нам из Питера вылетела представительская делегация в составе генерала Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича и Феликса Эдмундовича Дзержинского, я объявил по трансляции: «Кто после выпуска купался в фонтане у Адмиралтейства и начищал до блеска причиндалы коня Медного всадника, в свободное от вахты время могут собраться на палубе и встретить человека, чье имя носило их училище».
А для незнающих напомнил, что основанное в конце XVIII века императором Павлом I Училище корабельной архитектуры в советское время носило имя Дзержинского.
Наконец, все в сборе. От Балтийского флота присутствует контр-адмирал Пилкин. Вице-адмирал Бахирев, которого он представляет, весьма уважаем как офицерами, так и матросами. От армии – генерал-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, фактически создатель советской военной контрразведки. Наши особисты как мухи вились вокруг генерала, стараясь хоть одним глазком глянуть на легендарную личность. Ну, а Железный Феликс в представлении не нуждался.
Все присутствующие по своему статусу были полномочными представителями тех военных и политических сил, которые отправили их для того, чтобы решить наконец вопрос о власти. Моим помощником во время этого исторического совещания стал подполковник СВР Николай Ильин.
На висящий на стене адмиральского салона плазменный экран была выведена карта Балтики. Собравшиеся приготовились внимать и высказывать свои мысли.
– Итак, господа и товарищи, – я заметил, как при последнем слове контр-адмирал Пилкин слегка поморщился, – не буду ходить вокруг да около. Вы все уже знаете, что по произволу судьбы, Господа Бога или каких-то других неведомых сил, наша эскадра оказалась в этой точке пространства-времени как раз накануне начала германской операции «Альбион». В силу данной нами присяги защищать Россию, мы не задумываясь нанесли удар по германскому десанту, готовившемуся высадиться на Моонзундских островах…
– Но при этом, господин адмирал, как я понимаю, вы приказали отпустить с миром десять германских линкоров, – саркастически заметил Пилкин. – Вряд ли этот шаг можно считать дружественным по отношению к России.
– Владимир Константинович, – ответил я, – да, я приказал не обстреливать линкоры, если они, в свою очередь, не откроют огонь по русским батареям или кораблям. По моему приказу, в штаб Хохзеефлотте была направлена радиограмма, в которой я предупреждал гросс-адмирала Тирпица, что уничтожив «Мольтке», я также уничтожу и линкоры 3-го и 4-го отрядов, если он немедленно не уберет их – сначала в Путциг, а потом и в Вильгельмсхафен. Что и было незамедлительно исполнено.
Кроме того, крейсера адмирала Гопмана оставили Виндаву и тоже ушли на запад. Господин адмирал, у нас нет желания делать легкой жизнь британскому королевскому флоту. Или вы считаете, что Россия и дальше должна воевать за чуждые ей британские и французские интересы? В данный момент и германцы, и Антанта одинаково враждебны России. Вы знаете, что сказал Клемансо, когда узнал об отречении русского императора? Его слова были буквально следующими: «Одна из наших целей в этой войне – достигнута!»
Но бог с ними, с французами и англичанами. России сейчас нужен мир, и немедленно.
Дзержинский одобрительно хмыкнул.
– Мир почетный, не позорный и не похабный, что бы там ни говорили по этому поводу разные политические болтуны. Но для заключения такого мира немцев надо убедить в том, что в случае их дальнейшего давления на Россию их потери в этой войне будут неприемлемы. Разгром немецкого десанта лучше всего показал противнику наши возможности. Но сухопутное командование рейхсвера, в отличие от морского, закоснело в своей гордыне и отвергло саму возможность заключить мир по нулевому варианту…
Генерал Бонч-Бруевич поднял голову:
– Прошу прощения, Виктор Сергеевич, а что такое «нулевой вариант»?
– Это установление временной демаркационной линии по границе бывшей Российской империи за исключением части Царства Польского. – Я посмотрел на Дзержинского: – Вы уж извините, Феликс Эдмундович, но возиться с вашими буйными соотечественниками у новой власти нет ни сил, ни времени. Через несколько лет они сами запросятся к нам, ибо после немецкого орднунга власть Советов им покажется раем.
Я снова обвел взглядом всех собравшихся.
– Но в настоящий момент все это чистая теория, поскольку немецкое командование уперлось и не собирается идти на компромисс. Их требования абсолютно неприемлемы для любой власти, какая бы ни существовала в России. Поэтому мы начинаем операцию «Принуждение к миру». По германцам будут нанесены ракетно-бомбовые удары. В основном бомбардировать мы будем места дислокации их штабов, начиная с дивизионного уровня и кончая фронтовым. Исходя из опыта предыдущей подобной операции, вряд ли на это понадобится больше пяти дней. Потом можно будет начинать переговоры об отводе германских войск.
Теперь перейдем ко второму вопросу, который в наших обстоятельствах является основным. Это вопрос о власти. Все вы знаете, что Временное правительство Керенского довело страну до полного развала. Дальше так продолжаться не может. В нашей истории, чуть меньше месяца спустя власть Временного правительства рухнула от легкого пинка, который отвесила «Главноуговаривающему» партия большевиков и их попутчиков. Правда, потом началась кровопролитная трехлетняя Гражданская война. В нашей истории, я надеюсь, ничего похожего не произойдет.
Хочу вам сказать, что альтернативы власти большевиков нет. Временное правительство окончательно угробит Россию, превратив ее в колонию бывших союзников по Антанте. Военная хунта генерала Корнилова – из той же оперы. Из-за спины Лавра Георгиевича явственно маячат те же бритты. Есть еще один, мало приемлемый для России, вариант – чудовищных размеров пугачевщина и война всех против всех. Города против деревни, сытых против голодных, образованных против неграмотных. Пять миллионов мужиков с винтовками, которые на протяжении трех лет умирали и убивали! Поверьте, жестокость и безумия Великой Французской революции покажутся всем легкомысленным водевилем.
К счастью, господа и товарищи, нам известен человек, который в нашем прошлом сумел вернуть России ее силу и могущество, превратив ее в великую державу. Как вы думаете, товарищ Дзержинский, товарищ Сталин справится с теми обязанностями, с которыми не справились Николай Второй, князь Львов и Керенский?
– Вы считаете, что можно совершить революцию и избежать эксцессов? – ответил вопросом на вопрос Дзержинский.
Неожиданно в разговор вступил до сего момента молчавший подполковник Ильин:
– Да, товарищ Дзержинский, мы так считаем. Более того, у нас в будущем был соответствующий политический опыт, который завершился вполне успешно. Я вам потом при личной беседе изложу наш план.
Я поднял руку:
– Позвольте представить вам подполковника Ильина Николая Викторовича, – потом кивнул Ильину: – Продолжайте, Николай Викторович.
– Позднее, когда власть перейдет к большевикам, каждый может найти себе достойное место в новой России. Для начала надо заключить с Германией мир, на условиях предложенного нами нулевого варианта. Для мужиков, измаявшихся в безземелье, это земля… Для рабочих – справедливое трудовое законодательство и достойная оплата за их работу. Для всех – бесплатное здравоохранение и образование. Для умных и талантливых людей – возможность занять любой пост и любую должность, без оглядки на происхождение.
Для нынешнего офицерского корпуса и чиновников мы откажемся от идеи господина Энгельса о полной ликвидации старого государственного аппарата, армии и флота. Сохранив армию и флот, пусть на первых порах и в кадрированном составе, мы предотвратим появление большого количества безработных офицеров и чиновников, которые в нашей истории и стали питательной средой для Белого движения.
Кроме того, не все воинские части будут кадрированными. На окраинах Российской империи, стараниями господ из Временного правительства, поднимает голову местечковый национализм, с которым в любом случае придется бороться железной рукой. К тому же вероятна интервенция англичан, французов, американцев и даже японцев. В срочном порядке необходимо воссоздать органы по борьбе с уголовной преступностью, разрушенные Керенским, и принять все меры к обузданию разгула бандитизма самыми крутыми мерами, вплоть до расстрела уголовников, взятых с поличным, прямо на месте преступления. Работы много, вся она нелегкая, но мы ее не боимся.
– Большевики не боятся нелегкой работы, товарищ Ильин, – сказал Дзержинский, – мы будем с вами сотрудничать, если это не потребует от нас отказа от идеи социальной справедливости.
– Не потребует, – сказал я, – если, конечно, не считать социальной справедливостью желание некоторых горячих и глупых голов перестрелять всех бывших – от царя до последнего городового.
Дзержинский кивнул. Очевидно, он не хуже меня знал реальное состояние дел в России. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич сделал свой выбор уже давно. Еще тогда, когда вместе с генералом Потаповым они сделали все, чтобы сорвать замысел Корнилова стать диктатором. Он и в нашей истории служил большевикам не за страх, а за совесть. Думаю, что и в этой истории он не изменит себе.
Контр-адмирал Пилкин молча сидит за столом, опустив голову. Ему тяжелее всего. В тот раз он примкнул к генералу Юденичу, участвовал в Гражданской войне на стороне белых, потом эмигрировал и умер в Ницце. Будем надеяться, что на сей раз он все же сделает правильный выбор. Я решил с ним побеседовать отдельно, с глазу на глаз, как адмирал с адмиралом. А вслух сказал:
– Николай Викторович, проводите, пожалуйста, генерала Бонч-Бруевича в оперативный отдел. Пусть он поделится с нашими офицерами информацией об обстановке на фронте в Прибалтике. Чем сильнее мы будем бить немцев, тем быстрее они согласятся на мир. Потом, будьте добры, полностью введите товарища Дзержинского в курс текущих дел. А я тут поговорю с Владимиром Константиновичем как моряк с моряком.
12 октября (29 сентября) 1917 года, 11:00. Петроград, Кирочная улица, угол с Таврической
Капитан Тамбовцев Александр Васильевич
Вертолет улетел, машины уехали, остались на улице лишь я да генерал Потапов. Николай Михайлович был задумчив и немного грустен.
– Пойдемте, Александр Васильевич, – сказал он, – как говорили древние, suum cuique – каждому свое. Кому мировая революция, а кому черная работа, про которую обывателям лучше не знать. Но ведь должен же кто-то думать о безопасности России, какой бы государственный строй в ней ни был! Как я понял, вы и сами выходец из структуры, которая в вашем времени занималась чем-то подобным?
– Не совсем так. Я занимался в нашем времени не военной, а политической разведкой, но суть от этого, однако, не меняется… Посмотрите, Николай Михайлович, – воскликнул я, – все те же мозаичные панно, какие были в моем детстве! – Я указал на музей Суворова, подобно башне старинного русского кремля возвышавшегося на другой стороне Кирочной улицы. На его фасаде размещались две мозаики: «Отъезд Суворова в поход 1799 года» и «Суворов, совершающий переход через Альпы».
– Я помню, – сказал задумчиво Потапов, – как накануне завершения моего обучения в Академии Генерального штаба шли разговоры о том, чтобы построить на территории, принадлежащей Академии, этот музей. Потом собирали деньги на него по подписке – я тоже внес свою лепту, – и в 1904 году музей был открыт. На открытии присутствовал сам государь.
– А во время войны в него попала немецкая авиабомба, и он был разрушен. Восстановили лишь в 1951 году. За четыре года до моего рождения. Я ведь родился и вырос на этой улице. Правда, тогда она носила имя Салтыкова-Щедрина. И в детстве часто, почти каждую неделю, я бегал в этот музей, где рассказывалось о жизни и подвигах моего великого двойного тезки.
– Так вы здешний? – с изумлением спросил меня Потапов. – То-то я и гляжу, что вы прекрасно знаете Петроград. А я вот, представьте себе, москвич. В 1888 году закончил Первый московский кадетский корпус.
– Как же, знаю такой, – ответил я, – это который в Лефортово… Сейчас в нем находится Общевойсковая Академия вооруженных сил Российской Федерации.
– Жива, жива, значит, моя альма-матер, – радостно воскликнул генерал Потапов, – а я уж грешным делом посчитал, что в революционной буре ремесло офицера станет и ненужным.
– Да нет, Николай Михайлович, – сказал я, – офицеры еще долго будут нужны России. Знаете, как хорошо было сказано в одном замечательном кинофильме, «Есть такая профессия – Родину защищать».
12 октября (29 сентября) 1917 года, 11:30. Петроград, Суворовский проспект, дом 48
Капитан Александр Васильевич Тамбовцев
За этими разговорами мы дошли до дома на углу Кирочной, Суворовского и Кавалергардской. Здесь, на последнем этаже, в круглой мансарде, напоминающей крепостную башню, располагалась квартира, которая на время стала нашим пристанищем. У подъезда бородатый могучий дворник – похоже, из отставных унтеров – лихо козырнул генералу. Мы поднялись по лестнице и позвонили в медный звонок с фарфоровой пупочкой.
Тяжелая дубовая входная дверь открылась моментально. В дверях стоял один из бойцов спецназа с автоматом в руках. Я хотел сделать ему замечание – ведь нельзя открывать дверь, не убедившись в том, что на лестнице нет нежелательных лиц, но боец, улыбнувшись, пальцем показал наверх. Я поднял голову и увидел, что над дверью уже установлена видеокамера. Оперативно – ведь не прошло и часа, как наши орлы здесь обосновались. Наверху, на чердаке были слышны шаги.
– Это наши ребята разворачивают антенну, – ответил спецназовец на мой немой вопрос. В общем, работа кипела.
Мы прошли с генералом в большую квадратную комнату и там разделись. Как и обещал, я решил показать Потапову видеофильм о Великой Отечественной войне. По моей просьбе телеоператор «Звезды» Андрей Романов сделал, что называется, на коленке документальный фильм, состоящий из нарезки фильма «Великая Отечественная» Романа Кармена и вставок из лучших художественных фильмов о войне.
Достав ноутбук, я включил его и, дождавшись, когда он загрузится, щелкнул мышкой. Генерал Потапов, с любопытством наблюдавший за моими манипуляциями, вздрогнул, когда на экране появилось постаревшее лицо его недавнего собеседника, и чуть глуховатый знакомый голос с кавказским акцентом произнес: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Следом зазвучала бессмертная песня, ставшая гимном Великой Отечественной войны: «Вставай, страна огромная…»
Замелькали кадры с немецкими солдатами, пересекающими границу СССР, самолетами люфтваффе, бомбящими наши города и расстреливающими колонны с беженцами. Потом пошел отрывок из фильма «Брестская крепость» и документальные кадры – огромная 60-см самоходная мортира «Карл», расстреливающая цитадель. И надпись на стене: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!»
Десятки тысяч людей записывались добровольцами в народное ополчение. На восток шли эшелоны с эвакуированными заводами и фабриками. И непрерывные сражения. Видеоряд: немецкие солдаты, молодые и довольные, маршируют мимо горящих русских деревень. И аккуратные и ровные шеренги березовых крестов с надетыми на них стальными шлемами.
Генерал Потапов бледный, едва дышащий от волнения, не отрывая глаз смотрел на экран. Вот он снял запотевшее пенсне, протер его платочком, и снова надел.
Далее шли кадры сражения за Смоленск, бои на Лужском рубеже, оборона Одессы, редкие контрудары и горечь отступления. И нечеловеческое упорство красноармейцев. Цитаты из дневника начальника штаба ОКВ генерала Гальдера: «Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен…», «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека».
Далее шли кадры сражения осенью 1941 года на Бородинском поле 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина из фильма «Битва за Москву», подвиг панфиловцев, кадры военной Москвы и парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Сталин, стоящий на трибуне Мавзолея, и его слова, обращенные к войскам: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
Блокада Ленинграда, умирающие от голода женщины и дети, снаряды, рвущиеся на Невском, колонны автомашин с продовольствием, идущие по льду Ладоги. Первые победы – под Тихвином, Ростовом, и, наконец, наступление под Москвой. Забитые брошенной немецкой техникой дороги, трупы солдат вермахта, колонны пленных. Год 1942-й, после успехов новые поражения. Окружение под Харьковом, взятый немцами Севастополь, колонны танков с белыми крестами на башнях, идущие по донским степям, поднимая пыль, горные стрелки с изображением цветка эдельвейса на кепи на перевалах Кавказа, флаг со свастикой над Эльбрусом.
И Сталинградская эпопея. Бои вокруг города, бой в городе, горящая нефть, стекающая в реку, разбитые даже не дома, а целые кварталы, и слова: «За Волгой для нас земли нет». И страшный разгром армии Паулюса. Немецкий фельдмаршал, сдающийся в плен, и колонны оборванных и голодных «победителей Европы», уныло бредущих по заснеженной степи.
Прорыв блокады Ленинграда, общее наступление. После контрудара неудача под Харьковом. Военный совет, на котором Сталин и его генералы и маршалы, уже в погонах, рассуждали о планах летней кампании 1943 года. Курск, сражение танковых армий, когда уральская броня выдержала натиск брони крупповской. Кадры из «Освобождения», на которых день превратился в ночь от дыма горящих танков, а чудом уцелевшие танкисты сошлись в рукопашной друг с другом на поле сражения.
Потом наши победы и освобождение захваченной врагом территории. И международная конференция в Тегеране. Потомок герцога Мальборо и холеный американский аристократ внимательно слушали сына грузинского сапожника, за которым стояла огромная страна, страна-победительница.
Освобождение Европы, бои в Польше, Венгрии, на Балканах. И как апофеоз – штурм Берлина. И красное знамя, поднятое на крыше Рейхстага. Капитуляция Германии. Вильгельм Кейтель, роняющий от волнения монокль, который раскачивается на шнурке, как висельник в петле. Фельдмаршал подписывает акт, признающий поражение Третьего рейха и сдачу германских вооруженных сил на милость победителя.
Парад Победы на Красной площади. Голос Андрея Романова, комментирующий происходящее:
– Командует парадом маршал Константин Рокоссовский, бывший младший унтер-офицер 5-го Каргопольского драгунского полка, награжденный за храбрость двумя Георгиевскими крестами. Принимает парад маршал Георгий Жуков, унтер-офицер 10-го Новгородского драгунского полка, награжденный за храбрость двумя Георгиевскими крестами.
Вот проходят перед трибуной командующие фронтами: Ленинградского – маршал Леонид Говоров, подпоручик, младший офицер мортирной батареи; 1-го Прибалтийского – генерал армии Иван Баграмян, прапорщик 2-го пограничного пехотного полка; 3-го Белорусского – маршал Александр Василевский, штабс-капитан, командир роты 409-го Новохоперского полка; 2-го Белорусского – генерал-полковник Кузьма Трубников, поручик Семеновского полка, начальник команды пеших разведчиков, полный Георгиевский кавалер; 1-го Украинского – маршал Иван Конев, младший унтер-офицер 2-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона; 4-го Украинского – генерал армии Андрей Еременко, ефрейтор 168-го Миргородского пехотного полка; 2-го Украинского – маршал Родион Малиновский, ефрейтор пулеметной команды 1-й особой пехотной бригады Экспедиционного корпуса во Франции, награжденный двумя Георгиевскими крестами за храбрость. 3-го Украинского – генерал армии Федор Толбухин, штабс-капитан, командир роты 13-го пограничного Заамурском полка.
На трибуне Мавзолея стоит маршал Семен Буденный – старший унтер-офицер 18-го драгунского Северского полка, полный Георгиевский кавалер. И всего полтора месяца не дожил до Победы маршал Борис Михайлович Шапошников – Генерального штаба полковник, командир Мингрельского гренадерского полка.
Апофеоз Парада Победы – знаменосцы, бросившие к подножью Мавзолея немецкие знамена вместе с личным штандартом Адольфа Гитлера.
А потом был разгром Японии, самураи, покорно складывающие к ногам русских солдат свое оружие, колонны пленных, красные флаги и советский военно-морской флаг над Порт-Артуром. И священник православного храма на кладбище русских воинов, павших во время обороны Порт-Артура, целующий стволы советских пушек и со слезами повторяющий:
– Я верил, что вы вернетесь. Дождался, теперь можно и умирать…
Такие же слезы катились по щекам генерала Потапова. И он не стеснялся их. Это были слезы гордости за свою страну и свой народ. И за того человека, который только готовился взять власть в разрушенной и разваливающейся на куски России.
– Александр Васильевич, – наконец сказал он, – какое страшное и великое будущее прожила наша страна! Я клянусь вам и обещаю, что приложу все свои силы к служению России, пусть даже и Советской. И сделаю все, чтобы русские офицеры, сохранившие любовь к своей родине, были на вашей стороне…
– Не на «вашей» стороне, Николай Михайлович, – ответил я, – а на «нашей». Сторона у нас всех одна, и имя ей Россия. А теперь давайте сделаем так, чтобы нам потом, всю оставшуюся жизнь, не было мучительно больно за то, что мы делали, или, наоборот, не сделали в эти роковые часы.
Ночью в город прибудут наши части. Необходимо подготовить для них пункт постоянной дислокации и определить перечень объектов, которые необходимо взять под контроль в первую очередь. Владимир Ильич Ульянов оставил нам хорошую методичку по захвату власти. Вокзалы, телеграф, телефон, почта, банк… Необходимо предотвратить побег Керенского из Зимнего и его истошные крики на всю страну, что большевики погубили революцию. Добровольная отставка с последующим домашним арестом – «во избежание самосуда со стороны отдельных несознательных личностей» – будет для него самым лучшим вариантом.
А еще, и это самое главное, именно мы должны обеспечить, чтобы после часа Ч власть оказалась в руках ответственных людей, болеющих душой за Россию, а не разных парламентских болтунов и политических позеров.
Генерал Потапов слушал меня, согласно кивая головой. Потом он встал, пожал мне руку и пошел к телефону.
12 октября (29 сентября) 1917 года, 14:00. Петроград, Суворовский проспект, дом 48
Капитан Александр Васильевич Тамбовцев
Сделав куда-то звонок, генерал Потапов снова зашел в комнату, извинился, сказав, что он вынужден ненадолго покинуть нас, после чего уехал. Ну, а я не спеша принялся изучать квартиру, в которой нам предстояло провести самое интересное с точки зрения истории время.
Это была большая пятикомнатная квартира в доходном доме. В ней было все, что нужно человеку для длительного проживания: кухня с большой дровяной плитой, огромная, похожая на калошу медная ванна, туалет с уже забытым в наше время верхним бачком, и большая прихожая. Имелись электрическое освещение и телефон в коридоре. В общем, как в объявлении об обмене, «все удобства».
«Мышки» уже потихоньку обжили наше жилище. В одной из комнат был установлен монитор, на который выводилось изображение с установленных на лестнице и за окнами видеокамер. В углу на столе стояла радиостанция, за которой с наушниками сидел наш бессменный радист сержант Свиридов. Судя по его довольной физиономии, связь со штабом адмирала Ларионова была устойчивой.
На кухне двое спецов раскочегаривали плиту, чтобы приготовить на ней обед. С непривычки дело шло со скрипом, и наши «повара» вдоволь наглотались дыма, пока печь, наконец, разгорелась.
В ванной комнате Бесоев задумчиво рассматривал смеситель, силясь понять – почему, когда открываешь вентили для горячей и холодной воды, из носика крана течет лишь одна холодная вода. Я посмотрел на его мучения и рассмеялся.
– Николай, здесь еще нет централизованной подачи горячей воды. Если ты хочешь помыться с комфортом, то надо протопить дровяную колонку. Вон, видишь, здоровенный толстый цилиндр – это и есть та самая колонка.
– Надо же, а я думал, что это обычная печка, – сконфуженно сказал Бесоев.
А часа через полтора к нам заехал генерал Потапов. Он был с незнакомым нам офицером средних лет. Судя по внешности, штабс-капитан был родом откуда-то с юга Европы. Николай Михайлович представил его нам как своего подчиненного, с которым ему пришлось повоевать в Черногории, когда генерал Потапов был там советником штаба королевской армии. Звали нашего нового знакомого Николой Якшичем. Я напряг извилины. Фамилию эту я вроде уже где-то слышал. Ба! Да ведь это фамилия матери Елены Глинской, а следовательно, бабки Ивана Грозного.
Я напрямую спросил у штабс-капитана – не родственник ли он царю Иоанну Васильевичу, на что черногорец, усмехнувшись, сказал, что если и родственник, то дальний.
Генерал Потапов сказал мне, что Никола Якшич – человек, которому он полностью доверяет, и что он будет решать наши повседневные вопросы и обеспечивать связь с российской военной разведкой.
Потом Потапов поинтересовался, не хочу ли я совершить ознакомительную прогулку по Петрограду. Мол, мне как коренному питерцу будет весьма интересно посмотреть на родной город, каков он осенью 1917 года. А заодно присмотреть места, где можно разместить нашу боевую технику. Я согласился.
12 октября (29 сентября) 1917 года. Петроград
Капитан Александр Васильевич Тамбовцев
С собой я решил взять, на всякий пожарный, старшего лейтенанта Бесоева. Спустившись по лестнице, мы вышли на улицу и уселись в легковой автомобиль, оказавшийся нашим, отечественным, марки «Руссо-Балт». По Суворовскому мы отправились в центр города, на Невский.
Удивительно было видеть знакомые и незнакомые дома, улицы, так похожие на дома XXI века и в то же время непохожие.
На углу 8-й Рождественской и Суворовского мы увидели мальчишку-газетчика, который, размахивая над головой газетой «Рабочий путь», громко кричал: «Разгром флота кайзера у острова Эзель! Потоплены несколько германских линкоров и крейсеров! Красный революционный флот преследует противника!»
Прохожие, услышав выкрики продавца, брали газеты нарасхват. Через несколько минут сумка пацана была уже пуста, и он вприпрыжку помчался по Суворовскому в сторону Кавалергардской. Как я понял – в типографию «Труд», за новой пачкой газет.
А на углу 2-й Рождественской я увидел афишную тумбу, у которой толпилась куча народа. Отпихивая друг друга локтями, студенты и мастеровые, чиновники и купцы с ближайших складов на Мытнинской, с увлечением рассматривали красочную афишу-анонс вечернего спецвыпуска.
Наши мастера от души постарались. На афише аршинными буквами было написано: «Читайте большевистскую газету “Рабочий путь!” Только там вы узнаете все подробности блестящей победы Красного Балтийского флота над грозной эскадрой кайзера Вильгельма!»
Вокруг этого выкрика был размещен коллаж из цветных фото. Тут были и погрузившийся в воду по самую башню линейный крейсер «Мольтке», и пленный адмирал Шмидт, больше похожий на мокрую курицу, чем на блестящего германского флотоводца. Усеянный трупами немецких солдат и матросов берег Эзеля, толпы унылых пленных, окруженных довольными русскими матросами и солдатами. А самое главное – странного вида корабли под Андреевским флагом, со стартующими с них ракетами, не менее удивительные летательные аппараты с красными звездами на хвостах и крыльях.
Мы с генералом Потаповым вышли из машины и подошли к десятку людей, обсуждающих у афишной тумбы новость, которая взбудоражила весь город.
– Я говорю вам, что это американцы… Только у них может быть такая великолепная техника! – горячо жестикулируя, доказывал своему оппоненту интеллигентного вида толстяк в котелке. – Они в апреле вступили в войну и наконец-то показали кайзеру, где раки зимуют.
Собеседник толстяка, мужчина средних лет в форме земгусара, с сомнением качал головой, не соглашаясь с аргументами поклонника заокеанской техники.
– Ну, конечно, эти американцы ваши объявили себя «красными моряками Балтики», подняли Андреевский флаг и пошли бить германцев… Нет уж, во что, во что, а уж в это я никак не поверю…
– Так эти кайзеровские наймиты, приехавшие из Женевы в пломбированном вагоне, за деньги могут все что угодно, – злобно прошипел человек в чиновничьем мундире и фуражке с треснутым козырьком…
– Это кто кайзеровские наймиты! – неожиданно взревел мастеровой, до этого внимательно слушавший перепалку зевак у афишной тумбы, но в спор ни с кем не вступавший. – Да я тебя за это, гнида!.. У меня брательник на «Славе» там сейчас воюет, а ты – наймиты!
И мастеровой, весьма не по-парламентски, с размаху врезал кулаком в ухо чиновнику. Тот вскрикнул как испуганный заяц и, подхватив слетевшую с головы фуражку, пустился наутек…
– А вот кум сегодня мне рассказывал, что поутру в Таврическом саду приземлился чудной аппарат, – сказал молодой парень, с виду приказчик. – Дескать, еще и не рассвело, как что-то в небе страшно зашумело, загремело, а потом в сад спустилась машина, ни на что не похожая. Сама как вагон конки, а наверху крылья крутятся, как у мельницы. А из нее люди вылезли. Лица у них черными масками закрыты…
– Ахти ты! – воскликнула с испугом бабулька с кошелкой, прислушивавшаяся с любопытством к разговору мужчин. – Матерь Божья, царица небесная, это что ж такое на свете происходит?!
В это время с Невского на Суворовский завернул молодой морской офицер. Погон на флоте сейчас не носили, поэтому в каком он чине, сказать было затруднительно. Он подошел к афишной тумбе и принялся с изумлением рассматривать плакат-анонс. Глаза его полезли на лоб от удивления, а лицо осветила глуповато-радостная улыбка.
– Братцы! – воскликнул он. – Да что ж это?! Это ж победа, братцы! Ура!
Столпившиеся у тумбы с удовольствием трижды прокричали ура, а потом, от избытка чувств, бросились к мичману и стали его качать. Не привыкший к такому выражению восторга, юный офицер взлетал над головами людей, испуганно прижимая к груди фуражку…
Вдоволь налюбовавшись на бурное проявление народных чувств, мы снова сели в автомобиль и поехали дальше. Свернув на Невский, мы добрались до Караванной улицы, повернули на нее и выехали к Михайловскому манежу.
Я знал, что во время Первой мировой войны в нем располагался запасной бронедивизион. Впрочем, часть броневиков сейчас была в ремонте, часть охраняла Смольный. Личный состав бронедивизиона в основном сочувствовал большевикам, поэтому Сталин предложил расположить нашу технику в Манеже, благо размеры здания позволяли. Да и место было выбрано удачно – центр города, рукой подать до важнейших государственных объектов.
Сделав соответствующие пометки на карте города, мы поехали дальше. К вечеру надо все закончить, чтобы прибывшие ночью части знали, куда и каким путем им выдвигаться на исходную. Времени у нас было не так уж и много…
12 октября (29 сентября) 1917 года, 15:35.
Финский залив, на траверзе Гельсингфорса
Германский разведывательный дирижабль L-30 совершал свой обычный полет над акваторией Финского залива. Шесть двигателей внутреннего сгорания фирмы «Maybach», каждый по двести пятьдесят лошадиных сил, тянули вперед жесткую 198-метровую сигару с черными тевтонскими крестами на боках. Пройдя над якорными стоянками Гельсингфорса, фрегаттен-капитан Ганс Венд убедился, что в главной военно-морской базе русского Балтийского флота все спокойно. Русские линкоры и крейсера не разводят пары и не собираются сниматься с якорей. Презрительно усмехнувшись, фрегаттен-капитан приказал передать результаты разведки на базу. Радиостанция, произведенная компанией «Telefunken», и состоящая из трех частей 120-метровая антенна обеспечивали связь на дальности полторы тысячи километров. Но, как ни странно, Либава молчала. Не добившись ответа от своей базы, фрегаттен-капитан приказал выйти на связь с Главным морским штабом.
Сообщение, полученное из Вильгельмсхафена в ответ на радиограмму о ситуации в Гельсингфорсе, повергло фрегаттен-капитана в ужас:
«База в Либаве полностью уничтожена аэропланами противника. Немедленно возвращайтесь в Путциг, а если хватит запасов топлива, то и прямо в Вильгельмсхафен. Смертельная опасность в центральной части Балтики, прокладывайте маршрут, избегая района к западу от Моонзундских островов».
На вопрос командира, нет ли какой ошибки в расшифровке, радист побледнел и пожал плечами:
– Герр фрегаттен-капитан, я два раза все перепроверил. Да и база в Либаве не отвечает уже больше трех часов…
– Хорошо, обер-маат, – кивнул командир L-30, – с этим мы разберемся, когда прибудем в Вильгельмсхафен. Но на всякий случай проложим курс через Либаву, посмотрим, что и как там уничтожено.
Ганс Венд не знал, что в рамках операции по принуждению Германии к миру, по базе разведывательных дирижаблей в окрестностях Либавы был нанесен бомбовый удар. Три истребителя-бомбардировщика Су-33 в один заход равномерно засеяли летное поле и ангары мелкими осколочными бомбами из разовых бомбовых кассет РБК-250.
И с ужасом и недоумением взирали на картину рукотворного апокалипсиса те из немногих немецких пилотов цеппелинов и техников, кто не был убит еще в первые секунды налета, не сгорел заживо, когда взорвались склады ГСМ и газгольдеры, кого не погребло под пылающими руинами казарм, штаба и ангаров. Сдетонировавшие бомбы, в том числе и с химической начинкой, добавляли к дымам пожарища непередаваемое амбре сгоревшего тротила, хлорциана и иприта. Всего три похожих на наконечник копья стремительных, как молния, аэроплана с красными звездами на крыльях поставили точку в существовании базы. Видимые отсюда дымы, сплошной пеленой поднимающиеся над Либавой, говорили понимающим людям о том, что и там эти пришельцы из ада не оставили камня на камне.
«Сушки» нанесли свой удар в тот момент, когда персонал базы лихорадочно готовил все имеющиеся в наличие дирижабли к массированному ночному налету на Петербург, спланированному по образу и подобию ночных налетов на Лондон. Более того, по русской столице было приказано применить даже химические боеприпасы, которые немцы никогда не использовали при налетах на Лондон и Париж. Это необдуманное и, скорее, истеричное решение было вызвано тем, что Германский генеральный штаб был разъярен крахом «Альбиона» и жаждал крови.
Всего этого не знал фрегаттен-капитан Венд, когда командовал штурману корветтен-капитану Клаусу Функу:
– Курс зюйд, скорость крейсерская. Если папа Тирпиц запрещает нам соваться в центр Балтики, то пойдем через Ригу – Либаву – Данциг. Как у нас с топливом?
– Хватит до Вильгельмсхафена, даже если вы прикажете лететь туда через Новгород и Киев, – ответил штурман.
– Не прикажу, – засмеялся Венд, – пройдем над Либавой, посмотрим сверху на базу. А то всякое может быть, помнишь, было нечто похожее, когда старина Питер пролил пиво на свой аппарат?
Но до предела изношенной старушке L-30 (в нашей истории этот дирижабль был списан по износу 17 ноября 1917 года) не суждено было не только пролететь над Либавой, но даже над Ригой. Более того, даже эстонским берегом Финского залива германским аэронавтам не удалось полюбоваться хотя бы издали.
Со скоростью, характерной скорее для городского такси конца XX века, L-30 направился на юг. В разрывах облаков изредка мелькала морская гладь. Вдруг впереди, прямо по курсу дирижабля, показались военные корабли под Андреевским флагом, много кораблей. Это пересеклись пути германского дирижабля L-30 и десантного соединения, возглавляемым БПК «Североморск».
Там внизу, на борту «Североморска», да и других военных кораблей радары ПВО давно обнаружили приближающийся с левого траверза германский цепеллин. Какое-то время было сомнение в его государственной принадлежности, но потом в разрывах облаков мелькнул серый корпус с тевтонским крестом на борту, и все стало ясно. До самого последнего момента цель сопровождали две одноствольных 100-мм установки АК-100 на Североморске, четыре двухствольных 76-мм установки АК-726 на учебных кораблях и семь двухствольных 57-мм установок АК-725 на БДК.
Капитан 1-го ранга Перов принял решение, и в небо ударила стена огня. Для интегрированной системы ПВО, предназначенной для отражения массированных атак низколетящих ПКР и истребителей-бомбардировщиков со штурмовиками, цепеллин стал просто летающей мишенью. Огромная сигара утонула в цветах разрывов снарядов с радиовзрывателями.
– Шайзе! – только и успел выкрикнуть Курт Венд, когда идущие снизу корабли вдруг заполыхали частыми-частыми зенитными очередями. Про пулеметы трех-, четырехдюймового калибра фрегаттен-капитан никогда не слышал. Вокруг дирижабля во множестве стали вспыхивать разрывы зенитных снарядов, по обшивке гондолы забарабанили осколки. В памяти командира L-30 на всю жизнь отпечаталась яркая бело-голубая вспышка прямо перед носовым остеклением, ледяное крошево битого стекла, брызнувшее в рубку, и окровавленное тело рулевого, повисшее на штурвале.
Пол гондолы под ногами подозрительно перекосился, а стрелка альтиметра стремительно раскручивалась, показывая, что дирижабль падает. В этом была причина того, что гондола еще не была охвачена пламенем. Корветтен-капитан Клаус Функ, зажимая окровавленную рану на предплечье, обернулся к своему командиру:
– Уходи отсюда, Курт, немедленно уходи! Иначе ты сгоришь вместе с нами…
– Только вместе с тобой, дружище, – Курт потянул раненого боевого товарища к помещению за рубкой, в котором на специальной привязи висели парашюты системы Хейнике. Быстро застегнув на штурмане ремни подвески, Курт Венд резким движением вытолкнул его из гондолы. Парашют Хейнике раскрывался принудительно, при выдергивании привязанного к корпусу летательного аппарата специального фала. Правда, и раскрывался он далеко не всегда, но об этом у фрегаттен-капитана уже не было времени подумать.
Дирижабль падал, заваливаясь на левый борт и кренясь на нос, где были разорваны большинство ячеек с водородом. Кроме того, к фрегаттен-капитану со страшным гулом приближался самый страшный враг любого дирижабля с водородной начинкой – Его Величество Пожар…
Курт Венд быстро влез в привязную систему, которой надеялся никогда не воспользоваться, и, застегнув ремни, бросился за борт. И вовремя – вслед за ним из распахнутой двери на свободу вырвалась сначала струя дыма, а потом ревущее ярко-желтое пламя. Но этого он уже не видел, потому что в этот самый момент ощутил рывок раскрывшегося парашюта, как ему казалось, чуть не вытряхнувший его из подвесной системы.
Но все обошлось, парашют раскрылся, и сам он остался жив, ниже был виден еще один белый купол, а значит, с камрадом Клаусом тоже все в порядке. Не успел Курт поднять глаза, как мимо него, оставляя жирный черный след, пронесся потерявший форму пылающий комок того, что еще несколько минут назад было дирижаблем L-30. Кроме них с Клаусом больше никто наружу не выбрался.
Теперь двум германским аэронавтам предстояла не самая приятная процедура приводнения в ледяные осенние воды Финского залива. Пробковый жилет, конечно, вещь хорошая, но он не защитит от холода. И кроме того, важно было еще постараться не утонуть, пытаясь освободиться из не самой удобной подвесной системы. Намокший купол утянет парашютиста на дно так же надежно, как чугунная гиря.
Волны стремительно приближались, русские корабли оказывались все ближе и ближе. Кроме того, морскую гладь рассекали несколько быстроходных лодок, только и ждущих того момента, когда немецкие парашютисты коснутся воды. Клаус приводнился первым, и к накрывшему его белому куполу сразу же устремились две лодки. Плен?! Курт цапнул рукой кобуру на животе и похолодел. Она оказалась расстегнутой и пустой. Его «морской» парабеллум вылетел из нее во время раскрытия парашюта и уже покоился на дне Финского залива.
Дальше все произошло быстро. Не успел фрегаттен-капитан, окунувшись в холодные воды, расстегнуть ремни, как возле него тут же оказались две русские лодки. Его не накрыло куполом, как беднягу Функа, и поэтому он видел своих спасителей во всех подробностях. Крепкие парни в зеленых пятнистых комбинезонах и черных пробковых жилетах, безо всяких церемоний втащили его в одну из лодок. Связав Курту руки за спиной, они быстро освободили его от остатков подвесной системы. При этом кожаные ремни не расстегивали, а просто разрезали. Для ножа такой остроты человеческое тело – не более чем мягкая глина.
Последнее, что запомнил фрегаттен-капитан Венд, было действие, которое он воспринял как жестокую пытку и одновременно изощренное издевательство. Один из русских, поболтав над ухом отстегнутой с пояса фляжкой, резким движением запрокинул Курту голову и, зажав ему пальцами нос, влил в его глотку не менее полстакана настоящего жидкого огня, ничуть не похожего по вкусу на германский шнапс. Конечно, что русскому здорово (разведенный спирт, настоянный на горьком стручковом перце), то немцу не совсем. Через три минуты алкогольная «анестезия» подействовала, и немец захрапел, свернувшись калачиком на дне лодки.
12 октября (29 сентября) 1917 года, 15:00. Петроград, Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь»
Александр Васильевич Тамбовцев
Закончив рекогносцировку, мы на генеральской машине подъехали к месту службы генерала Потапова на Дворцовую площадь. Там мы тепло попрощались с генералом, после чего со штабс-капитаном Якшичем отправились в типографию газеты «Рабочий путь».
У входа в нее было настоящее столпотворение. Прочитав наш плакат-анонс о вечернем спецвыпуске, у типографии собралась невиданная толпа народу. Последний раз нечто подобное я видел, когда к нам в Питер заявилась Луиза Чикконе, с невероятной наглостью присвоившая себе псевдоним Мадонна. Был бы я папой римским, то отправил бы на костер эту старую вешалку за святотатство. Но здесь до такого разврата было еще далеко, и большинство из собравшихся хотели всего-навсего первыми купить этот спецвыпуск и узнать все подробности великого сражения с флотом кайзера.
Было тут немало наших коллег-журналистов из газет самых разных политических направлений. Они пытались всеми правдами и неправдами пробраться внутрь, чтобы урвать для своих газет хоть какие-то подробности эпохального события. Но сделать это было не так-то просто – вход в типографию был наглухо закрыт для посторонних. Сталин созвонился с солдатским комитетом ближайшего к редакции Волынского полка, который дислоцировался на Парадной улице, и оттуда прислали взвод солдат во главе с фельдфебелем. После того как молодцы-волынцы оцепили здание типографии, войти в редакцию «Рабочий путь» стало возможно лишь по разовому пропуску, который выписывал лично товарищ Сталин. Мы попросили мальчишку-посыльного, которого уже утром видели, сообщить главному редактору о нашем приходе. Тот сбегал в типографию и вернулся с пропуском на два лица.
Хмурый пожилой солдат с подозрением покосился на штабс-капитана, потом на меня, но, не сказав ни слова, пропустил нас, привычным движением нанизав наш пропуск на штык своей «трехлинейки».
Мы вошли в типографию, где все бегали, как наскипидаренные. Я почувствовал хорошо мне знакомую обстановку сдачи номера, когда еще многое не готово, а срок сдачи уже близок.
Сталин, на ходу вычитывая гранки, сообщил мне, что утренний тираж ушел с допечаткой почти в двадцать тысяч экземпляров, и все равно его не хватило. Можно было бы продать еще столько же, но надо было уже начинать печатать вечерний спецвыпуск. Ирина, вся в пене и мыле, кусая взмокший черный локон, рассказала, что особо долго пришлось возиться с цинковками присланных с места событий фотографий. В типографии цинкографы едва-едва успевали изготовлять клише, а отдавать на сторону уникальные снимки не хотелось.
Во многом помогло то, что рукописные материалы уже были выведены Ириной на принтер, и линотипистам проще было их набирать. Правда, наша орфография была для них непривычна, и корректорам пришлось потрудиться. Но дело шло, уже вычитывались гранки, типографский рабочий со смешным названием «тискальщик» делал оттиски уже сверстанных металлических полос. А было их, как гордо сказал Сталин, целых двенадцать. Своего рода газета-«толстушка».
Я представил, как взвоет вечером город, когда прочтет подробности разгрома вражеского флота. Кстати, как рассказал мне Сталин, солдаты у входа в типографию уже отшили несколько хорошо одетых господ, которые размахивая дипломатическими паспортами, пытались прорваться в редакцию «Рабочего пути». Но волынцам было глубоко наплевать на всякие там дипломатические штучки-дрючки, и не имеющих пропуска импортных господ они отправили в пешее эротическое путешествие.
Но были звоночки и более серьезные. Объявились некие представители премьера Керенского, причем в немалых чинах, которые, ссылаясь на личное распоряжение самого, потребовали, чтобы редактор немедленно выдал им все имеющиеся материалы о сражении в Рижском заливе. Солдаты, давно уже испытывающие к «Главноуговаривающему» вполне определенные чувства, на чистом русском языке послали подальше как самого Керенского, так и его представителей. И пошли они по указанному адресу, солнцем палимы… но впрочем, обещали вернуться.
Поэтому, от греха подальше, Сталин попросил подкрепления. И оно пришло. Точнее, приехало. К дому на Кавалергардской, отчаянно тарахтя и дымя, подъехали два броневика. Один, «Гарфорд-Путиловский», был вооружен 76-мм противоштурмовой пушкой образца 1910 года и тремя пулеметами «максим». Второй был полегче – «Остин», вооруженный двумя максимами. Он был копией того ленинского броневика, который в наше время стоит в одном из залов Артиллерийского музея.
Из броневиков вылезли их командиры, обряженные в отчаянно скрипящие кожаные куртки. Они заявили, что направлены в распоряжение товарища Сталина и готовы выполнить все его приказы. Заняв указанные им места, они развернули свои пулеметы, готовые отбить вторжение незваных гостей. Морские пехотинцы во главе с сержантом Кукушкиным, присланные адмиралом Ларионовым, заняли позиции в ключевых точках обороны и играли роль засадного полка, спрятанного за Вороньим камнем. На всякий случай я спросил у Сталина, не вызвать ли нам для подкрепления наших бойцов с подходящих к Питеру кораблей. Сталин, немного подумав, сказал, что имеющихся у него в наличии сил пока вполне достаточно.
– Поймите, Александр Васильевич, – сказал он, потирая красные от бессонницы и усталости глаза, – «временные» в данный момент не решатся направить против нас крупные силы. А от взвода юнкеров мы уж всяко отобьемся.
– Ну что ж, товарищ Сталин, вам виднее, – ответил я, – только ведь у нас говорят, что береженого и бог бережет…
– Уважаемый Александр Васильевич, – сказал Сталин, – большое вам спасибо за заботу, только мы не хотим, чтобы ваших людей в полной красе увидели здешние обыватели. Нужное время пока еще не подошло…
– Дело ваше, – я поднял глаза к потолку, кое-что прикидывая, – но в случае внезапного обострения обстановки первое наше подкрепление в виде взвода спецназовцев ГРУ, вылетевшего на вертолетах с борта десантного соединения, сможет прибыть минут через сорок. Еще минут через тридцать с основной части эскадры прибудет два взвода таких же бойцов.
Мало-помалу наша работа над номером подходила к концу. Готовые и вычитанные полосы ложились на стол Сталину. Печатники готовили печатные формы для ротационного станка. Наготове была бригада фальцовщиц, которые должны были брошюровать отпечатанные полосы.
Наконец все было готово к выпуску номера. Мы со Сталиным зашли в его закуток, чтобы перевести дух, выпить чаю и побеседовать.
– Александр Васильевич, – спросил он меня, – как там наши посланцы, благополучно ли добрались до места назначения?
– Все в порядке, – ответил я, – тут мне по рации сообщили, что Дзержинский и Бонч-Бруевич уже на флагманском корабле адмирала Ларионова. От адмирала Бахирева к ним присоединился контр-адмирал Пилкин, и сейчас там идет совещание. Думаю, что наш адмирал найдет общий язык с Феликсом Эдмундовичем и Михаилом Дмитриевичем. А я сегодня имел беседу с Николаем Михайловичем Потаповым. Он полностью поддерживает большевиков и вас, Иосиф Виссарионович, в частности.
– Да, Александр Васильевич, – задумчиво сказал Сталин, – генерал Потапов честный человек, который хорошо понимает, что дальнейшее правление Керенского и его компании – это смертный приговор для России. Неплохо будет, если и остальные генералы и офицеры русской армии это поймут. Ваша помощь в разгроме германского флота спасла не только Красный Петроград от опасности захвата. Когда люди, болеющие за судьбу страны и народа, узнают, что именно произошло в Моонзунде, и что благодаря вашей победе появилась возможность закончить эту проклятую войну без аннексий и контрибуций, то власть перейдет Советам без кровопролития и вооруженной борьбы.
– Да, товарищ Сталин, так оно и было в нашей истории, – сказал я, – очень многие люди, которые поначалу не приняли Советскую власть, позднее стали служить ей не за страх, а за совесть. Среди них были и некоторые министры Временного правительства. В частности, Александр Васильевич Ливеровский, министр путей сообщения. Позднее он преподавал в питерском Институте инженеров путей сообщения, а во время войны участвовал в строительстве ледовой дороги через Ладогу, которую потом назвали Дорогой жизни. Был награжден тремя советскими орденами. Чтобы уменьшить количество честных людей, которые не приняли революцию, нужно будет признать неактуальным тезис Энгельса о полном сломе старой государственной машины. Может, тогда еще и Гражданской войны сумеем избежать.
– У нас многие будут против, – задумчиво ответил Сталин. – Им лишь бы разломать все «до основания». А вот над тем, как будут строить «наш, новый мир», они не задумываются… Кстати, об этом Ливеровском. Интересный человек, надо с ним будет поговорить, – потом он осторожно спросил меня: – Александр Васильевич, простите, нам так и не удалось поговорить с вами спокойно, без помех. Вы не расскажете мне о том, что произошло с Россией в ХХ веке? Ведь я ничего не знаю ни о войне, которая была, как я понял, с германцами, ни об этой Дороге жизни, которую строили через Ладогу. Вот только закончим с этим номером…
В этот момент прибежала раскрасневшаяся Ирина с пачкой готовых полос.
– Все, Иосиф Виссарионович, готово, – дрожащим от волнения голосом сказала она, – ставьте вашу визу, товарищ Сталин, и можно приступать к печати.
– Как говорят верующие – с Богом! – сказал, улыбнувшись, Сталин и красным карандашом написал на первой полосе: «В печать», после чего поставил свою подпись.
– Ой, что теперь будет, – пискнула от восторга Ирина, – Александр Васильевич, как здорово, что мы попали в это время, ведь это так интересно – делать историю!
Довольный Сталин с улыбкой посмотрел на Ирину, потом на меня и сказал:
– Итак, товарищи, мы готовы сделать свой ход. Посмотрим, чем ответит нам господин Керенский…
12 октября (29 сентября) 1917 года. Петроград, Зимний дворец
Министр-председатель Российской республики Александр Федорович Керенский
Дурные предчувствия мучили меня с самого утра. И дело даже не в том, что власть утекала из рук, словно вода сквозь пальцы. Внутренне я уже смирился с тем, что скоро придется передать бразды правления в другие руки, а самому пересесть в уютное кресло депутата Государственной думы (или как там потом будет называться подобный орган?)… Даже возвращение к адвокатской практике не особенно пугало меня. Я боялся другого.
Мне уже довелось посидеть в тюрьме. В 1905 году, под самое Рождество, меня, тогда еще молодого адвоката и члена партии социалистов-революционеров, арестовала охранка за хранение партийной литературы и оружия. В тюремной карете с зарешеченными окнами меня отвезли в Кресты – знаменитую петербургскую тюрьму.
Я попал в одиночную камеру. На всю жизнь она запомнилась мне: помещение пять с половиной шагов в длину и три с половиною в ширину, оштукатуренные стены, окрашенные темно-коричневой масляной краской. В середине двери было проделано квадратное отверстие, четверти в полторы – форточка, откидывавшаяся в сторону коридора и запиравшаяся на замок. В эту форточку подавали из коридора пищу.
Здесь я выучил тюремную азбуку, что позволило перестукиваться с соседями. В общем-то, жизнь в Крестах была не настолько уж скверной. Я, как это ни покажется странным, почти наслаждался своим одиночным заключением, которое предоставляло время для размышлений, для анализа прожитой жизни, для чтения книг сколько душе угодно.
Правда, сидеть за решеткой мне пришлось недолго. Пятого апреля 1906 года я был отпущен на свободу, так как в России была объявлена амнистия. Через двенадцать лет, когда открылись полицейские архивы, выяснилось, что за решетку я попал на основании донесений о том, что мою квартиру эсеровские террористы использовали для подготовки покушения на самого Николая II! А эти сведения жандармам предоставил не кто иной, как Евно Азеф, самый знаменитый провокатор охранного отделения!
Вот только в этот раз тюремное заключение может оказаться не таким уж приятным. Народ озлобился, и меня могут просто не довезти до тюрьмы, если к власти придут мои нынешние оппоненты – эсдеки-большевики во главе с Ульяновым.
Эх, а ведь мы с ним родились в один день, вдруг с горечью подумал я, только он старше меня на одиннадцать лет. А вот учились мы с ним в одной гимназии. Правда, заканчивал учебу я в Ташкенте, куда отправили моего отца в качестве главного инспектора народных училищ Туркестанского края. Там я даже заработал золотую медаль. Как и Ульянов в Симбирске.
Но что меня ждет здесь, в Петрограде? Этот Ульянов и его однопартийцы – люди далеко не сентиментальные. Им прикончить меня – проще пареной репы…
Мои грустные размышления прервал неожиданный визит послов Франции и Англии. Ничего приятного от подобного визита я давно не ждал и сразу же насторожился.
После приветствия французский посол Жозеф Нуланс протянул мне свежий номер большевистской газеты «Рабочий путь», с огромным заголовком на первой странице: «Историческая победа Революционного Красного Балтийского флота! Вражеское нашествие на Петроград с целью удушения революции завершилось полным разгромом неприятеля!»
– Уважаемый Александр Федорович, – спросил меня французский посол, – не могли бы вы пояснить нам, о чем, собственно, идет речь? О какой такой победе над флотом кайзера?
– Насколько нам известно, – вступил в разговор британский посол Джордж Бьюкенен, – германское командование планировало провести во второй декаде сентября крупную операцию по захвату островов Моонзундского архипелага. Наши разведчики заранее оповестили Адмиралтейство о замыслах противника, а мы, в свою очередь, сообщили о планах германцев вашему командованию.
Силы, которые они предполагали задействовать, во много раз превосходили силы Балтийского флота. И вдруг – такое тяжелое поражение… Причем, если верить этой газете, немецкий десантный корпус понес просто ошеломляющие потери. Проще сказать, что он просто уничтожен. Сейчас мы не в состоянии ничего понять, но рано или поздно мы все выясним… Может быть, уважаемый господин премьер-министр, вы нам поможете разобраться в том, что сейчас происходит в районе Рижского залива?
Я выслушал вопросы послов союзной нам Антанты и уныло подумал, что ничего по существу сказать им не могу. Эти проклятые большевики подмяли под себя Центробалт, который – какая наглость! – десять дней назад заявил, что не признает Временное правительство и отказывается выполнять мои распоряжения. А командование Балтфлотом и офицеры сидят тише воды ниже травы, опасаясь сказать хоть одно слово против. Они еще не забыли зверские расправы разнузданной матросни в феврале и в июне, когда офицеров убивали просто ради забавы.
– Господа, – я попытался сохранить хорошую мину при плохой игре, – я всенепременно наведу справки и постараюсь дать вам исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. Сейчас же я отправлю запрос морскому министру адмиралу Вердеревскому, чтобы он сообщил мне все, что ему известно о положении в районе Моонзунда.
Я позвонил в колокольчик, и в кабинет вошел адъютант. Дав ему поручение связаться с Вердеревским, я продолжил беседу с послами.
– Господа, как бы то ни было, но я все же полагаю, что известие о победе над флотом нашего общего противника можно считать хорошей новостью. Я не совсем понял – что вас так встревожило?
– Господин премьер-министр, – ответил Бьюкенен, – нас тревожит все непонятное, по городу ходит слух, что так проявила себя некая третья сила, которая не принадлежит ни флоту Антанты, ни флоту какой-либо другой страны… Поверьте, иной раз даже известный враг лучше неизвестного союзника. Никто не знает, что у него на уме…
– Позвольте, господин посол, – удивился я, – о какой такой третьей силе может идти речь? Разве не моряки нашего Балтийского флота нанесли поражение эскадре кайзера?
– Если бы это было так, – ответил Бьюкенен, – но наша разведка перехватила переговоры командиров немецких судов по радиотелеграфу. Очень любопытные переговоры. Так вот, речь в них шла о внезапной атаке в полной темноте каким-то сверхъестественным оружием, способным в один-два удара повредить и даже утопить новейший дредноут. Говорилось и о летательных аппаратах неизвестного типа, не похожих ни на дирижабли, ни на аэропланы и оснащенных каким-то ужасным и смертоносным оружием. Такого оружия и таких летательных аппаратов нет ни у нас, ни тем более у вас…
В этот момент в кабинет вернулся адъютант и доложил мне, что адмирал Вердеревский прибыл и хочет сообщить мне нечто очень важное. Я попросил немедленно пригласить адмирала войти.
Дмитрий Николаевич был возбужден и очень встревожен. В левой руке у него был свернутый в тугую трубку большой лист бумаги. Я подумал, что это карта района боевых действий. Поздоровавшись с послами, он сразу перешел к делу.
– Александр Федорович, вы просили прояснить ситуацию, сложившуюся в районе Моонзунда. Я связался с вице-адмиралом Бахиревым, но Михаил Коронатович не смог мне сообщить ничего вразумительного. По его сведениям, едва начавшуюся германскую операцию неожиданно пресекла эскадра боевых кораблей, над которыми поднят Андреевский флаг. По его данным, этой эскадрой командует некий контр-адмирал Ларионов. Насколько мне известно, в русском флоте не было и нет адмирала с такой фамилией, но тем не менее существование и данной эскадры, и самого Виктора Сергеевича Ларионова подтверждает контр-адмирал Пилкин, посланный туда офицером связи.
По его сообщению, именно эти корабли полностью уничтожили десантный корпус немцев, а также потопили линейный крейсер «Мольтке», несколько легких крейсеров и неустановленное количество мелких кораблей, от эскадренных миноносцев до баркасов и плашкоутов. По сообщениям с береговых батарей, командиры которых своими глазами наблюдали всю картину, в ходе сражения корабли адмирала Ларионова применяли доселе неизвестные виды оружия. Более подробный отчет о произошедшем в Рижском заливе сражении вице-адмирал Бахирев обещал составить и прислать позднее.
Вердеревский неожиданно криво усмехнулся.
– И еще, Александр Федорович. Вот, посмотрите, что сейчас расклеивают и уже читают на улицах города, – с этими словами Вердеревский протянул мне свернутую в трубку бумагу, которая оказалась не картой, а большим плакатом. Я положил его на стол и развернул. Послы, внимательно слушавшие наш разговор с морским министром, подошли поближе и заглянули мне через плечо. Действительно, посмотреть было на что. На прекрасного качества листе гладкой бумаги была напечатана подборка фотографий с картинами морского сражения.
На первой был виден огромный полузатопленный корабль.
– Это линейный крейсер «Мольтке», однотипный «Гебену», – пояснил мне адмирал Вердеревский.
Выглядел «Мольтке» весьма непрезентабельно. Похоже, что он был потоплен после попадания в него снарядов чудовищного калибра. Во всяком случае, разрушения на нем были заметны невооруженным глазом.
На второй фотографии мы увидели берег моря, сплошь усеянный трупами немецких солдат и матросов. На третьей – несколько десятков пленных, испуганных и жалких. На четвертой был изображен немецкий адмирал с кучкой испуганных и каких-то помятых офицеров. Как следовало из подписи, это был адмирал Шмидт со своим штабом, взятый в плен большевистскими морскими пехотинцами.
Похоже, германский адмирал перед фотографированием какое-то время плавал в море. Во всяком случае, было видно, что одежда на нем была еще мокрая, а сам он был хмур и зол на всех на свете.
А вот следующие фотографии вызвали возглас изумления у господ послов. И было чему удивляться. На ярком цветном фото был изображен боевой корабль с развевающимся на его мачте Андреевским флагом. Корабль стрелял из… Тут я затрудняюсь сказать – из чего. Я вопросительно посмотрел на Дмитрия Николаевича, который в ответ лишь пожал плечами. Было лишь понятно, что это оружие. Пламя вырывалось из какой-то трубы, множество подобных которой были наклонно установлены вдоль борта этого корабля. Сам же корабль выглядел необычно. Я еще раз посмотрел на Вердеревского.
– Александр Федорович, – сказал он, – таких кораблей нет ни в одном из флотов мира. Это я вам могу сказать точно. Это что-то совершенно новое, совершенно неизвестное, я затрудняюсь даже точно определить класс этого корабля…
Рядом красовалась еще одна фотография, на которой мы увидели странный летательный аппарат с Андреевским флагом на борту и красными звездами на высоких килях. Эти аппараты не имели крыльев и держались в воздухе с помощью огромных винтов, которые вращались над ними. Судя по всему, винтокрылые аппараты были боевыми машинами. Во всяком случае, под одним из них были подвешены предметы, напоминающие бомбы или снаряды.
– Что вы теперь скажете, господа? – спросил я у послов.
Те в ответ лишь развели руками. Я же обратил их внимание на огромных размеров заголовок плаката: «Читайте большевистскую газету “Рабочий путь!” Только там вы узнаете все подробности блестящей победы Революционного Балтийского флота над грозной эскадрой кайзера Вильгельма!»
– Получается, что эта таинственная эскадра действительно союзна большевикам? – растерянно спросил у меня французский посол Нуланс.
В ответ я лишь пожал плечами, ибо сам знал не больше, чем они. В глазах Нуланса и Бьюкенена недоумение сменилось тревогой. Они неожиданно стали прощаться и заторопились к выходу. Понятно, побегут сейчас в свои посольства, писать спешные депеши своим правительствам.
Послы ушли, и я посмотрел на Вердеревского, он – на меня… Почему-то мне вдруг вспомнилась немая сцена из «Ревизора» и поза судьи Ляпкина-Тяпкина, который, «с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!”…
Откланявшись, морской министр тоже покинул меня, обещая держать в курсе всех событий. Ага, сейчас! Побежит к победителям по известному адресу в Смольный…
А вот что мне делать-то? Кому писать донесение? На деревню дедушке? Государю-императору Николаю Александровичу? Вон, стоит телефон, снять трубку и сказать:
– Барышня, дайте Кавалергардскую улицу, дом 40, типографию газеты «Труд», – и попросить к аппарату товарища Сталина.
Эх, была не была… Сталин – не Ульянов, он всегда придерживался спокойной, взвешенной и разумной позиции… Ноги сами привели меня к столику с телефоном, рука взяла трубку и поднесла к уху. Словно кидаясь в бурную горную речку с обжигающей кожу водой, я произнес:
– Алло, барышня, дайте, пожалуйста, Кавалергардскую улицу, дом 40, типографию газеты «Труд», – и после короткой паузы: – Позовите, пожалуйста, к аппарату товарища Сталина. Говорит Керенский Александр Федорович, министр-председатель Российской республики…
12 октября (29 сентября) 1917 года. Петроград, Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь»
Александр Васильевич Тамбовцев
Товарищ Сталин подписал номер к печати, зашумели- загремели ротационно-печатные станки, выплевывая полосы. На длинных столах расположились фальцовщицы, которые ловко собирали из отпечатанных разворотов книжку спецвыпуска и сбрасывали готовый номер упаковщице. У входа в типографию за оцеплением волынцев рыли землю от нетерпения распространители, предвкушая неслыханный заработок от продажи газет. А на Кавалергардской улице уже собралась гудящая от возбуждения толпа потенциальных покупателей, сжимающих в потных ладонях мятые керенки.
Мы расположились в закутке типографии и с наслаждением, не спеша листали газеты, остро пахнущие типографской краской. Выпуск оставлял ощущение хорошо сделанной работы. Конечно, по нашим временам, качество печати выглядело на троечку – изображение на фотографиях было не очень хорошим, бумага сероватая, почти оберточная. Но главное ведь не в этом, а в содержании газеты.
Там во всех подробностях рассказывалось о разгроме немецкого десанта, о потоплении линейного крейсера «Мольтке» и легких крейсеров, о бегстве флота кайзера в Вильгельмсгафен и прочих героических делах Революционной Большевистской эскадры флота. Здесь же были интервью с героями этого сражения, в том числе и с командующим эскадрой большевиков контр-адмиралом Ларионовым.
На полосах были фотографии невиданных кораблей, боевых летательных аппаратов, именуемых вертолетами, пленных немецких солдат и моряков, потопленного «Мольтке», по палубе которого пробегали волны; жалкие, торчащие из воды обломки того, что было когда-то германским легким крейсером «Франкфурт». Словом, информационная бомба в несколько мегатонн была готова к употреблению.
Довольный Сталин, хитро поглядывая на нас, сунул руку в неказистую тумбочку и выудил оттуда большую, покрытую пылью бутыль темного стекла. Потом, пошарив, достал несколько пряников и жестяную коробку с леденцами.
– Вот, хорошее домашнее вино, – смущенно сказал он, – недавно земляк был проездом, подарил. Думаю, товарищи, что сегодня мы имеем полное право отметить выход нашего спецномера. Как вы на это смотрите, Александр Васильевич?
Я кивнул.
– Нормально смотрю, товарищ Сталин. Все мы взрослые мужчины, а хорошее грузинское вино позволительно пить даже дамам.
Действительно, поработали мы неплохо – это я скажу как газетчик. А если вино и в самом деле домашнее…
Сталин налил в стакан красное как кровь вино, расправил усы и приготовился произнести какой-то витиеватый и красивый тост. В этот момент подошел один из печатников и что-то тихонько шепнул ему на ухо. От изумления Сталин чуть не выронил из рук стакан.
– Кто, говоришь, звонит? – спросил Сталин. – Иван, ты не ошибся?
– Нет, товарищ Сталин, – сказал печатник, – именно так и сказал: Керенский Александр Федорович. Просит вас сейчас подойти к аппарату.
Наступила немая сцена. Вид у товарища Сталина был такой, что приходили на ум слова бессмертной комедии Гайдая: «Честное слово, ничего не сделал, только вошел…» Наконец Иосиф Виссарионович опомнился от удивления и посмотрел на рабочего, который принес ему эту новость.
– Передай, что сейчас подойду. – Сталин обернулся к нам: – Вот уж не ожидал, что господина «Главноуговаривающего» так проймет наша газета. А ведь он еще не читал вечерний спецвыпуск «Рабочего пути».
– Скорее всего, ему доставили один из наших плакатов, – сказал я, – там все было изображено более чем убедительно. Керенский по натуре патологический трус. И сейчас он спасает свою шкуру.
– Да уж, понимаю, Александр Васильевич, – сказал Сталин и, поставив стакан на стол, вышел из закутка. А мы переглянулись. Ирина сидела с глазами, круглыми, как юбилейные рубли.
– Александр Васильевич, – спросила она удивленным голосом, – выходит, революции не будет? И «Аврора» не выстрелит, и Зимний не будут брать штурмом?
– Скорее всего, да, – ответил я, – похоже, что в этот раз все обойдется без пиротехники. Чисто как было у нас под Новый год: «Я устал, я ухожу…» Тихо и мирно «временные» сдадут власть и, получив пинка в зад для ускорения, пойдут в пешее эротическое путешествие. Конечно, потом каждый из них ответит за свои грехи. Если человек толковый, то он и без портфеля министра сможет принести пользу России. Ну, а если ему на роду написано быть пламенным революционером, то флаг ему в руки и барабан на шею. Грохнут болезного – или большевики, или их оппоненты… А потом еще сто лет все будут спорить, что это было, и является ли товарищ Сталин политическим наследником Керенского или нет.
– Александр Васильевич, – спросила меня Ирина, – а что будет с Керенским?
– Ну, я думаю, что Иосиф Виссарионович сам решит этот вопрос. Возможно, отпустит на все четыре стороны. Ведь Сталин «ужасный душегуб и вурдалак» только в рассказах наших либерастов, которые сами себя так запугивали в вечерних посиделках на кухне под дешевый портвейн, что ночью боялись встать в туалет и писали в кроватки. А может, будет судить. За распродажу Родины англичанам. Но как бы то ни было, Керенский теперь – политический труп. Этакий зомби.
– А какая теперь будет власть в России? – спросила неугомонная Ирочка.
– Власть будет советская, – ответил я, – а что там и как будет дальше, давай не будем спешить. Кто персонально возглавит новое правительство, и кто за что будет отвечать, решить можно и позже. Тут главное – не допустить к власти Троцкого с его бандой. Слишком дорого это может обойтись России. Мы, к счастью, знаем, кто есть кто, и постараемся отсечь от власти тех, кто наломал дров во время революции, Гражданской войны и сразу же после нее.
Тут в закуток вернулся Сталин. У него было довольное лицо, совсем как у кота, наконец-то дорвавшегося до блюдца с «Китти-кэтом». Он еще не сказал ни слова, но уже и так было ясно, что Александр Федорович Керенский выбросил белый флаг. Сталин молча взял со стола стакан с вином и вместо тоста произнес:
– Поздравляю вас, товарищи, с тихой и незаметной, но от этого не менее великой социалистической революцией. – Сталин до дна выпил стакан и вытер усы. – Керенский подает в отставку вместе со своим правительством, предварительно передав власть партии большевиков. Формирование правительства можно начинать уже сейчас. Официально он объявит о своей отставке завтра утром.
Взамен Керенский выпросил у нас гарантию своей личной безопасности. Придется первое время его держать под надежной охраной, чтобы народ не устроил самосуд. Кстати, на охране настаивал сам «Главноуговаривающий». Уж больно он напуган. – Сталин посмотрел в мою сторону: – Скажите, Александр Васильевич, а как в ваше время большевики взяли власть?
Я помялся.
– Иосиф Виссарионович, в Петрограде свержение правительства Керенского прошло без особых эксцессов. Если не считать эксцессом разгром винных подвалов Зимнего дворца и грандиозную пьянку этак на сотен пять персон. Жертв было мало.
Вот в Москве дело дошло до уличных боев. Там были большие потери. А в общем и целом к началу революции выяснилось, что правительство Керенского уже настолько всем осточертело, что, за небольшим исключением, сражаться за него и умирать никому не хотелось. Но последующая за ней Гражданская война повлекла многомиллионные жертвы.
Сталин задумался, потом улыбнулся и налил нам с Ириной по полстакана вина. Потом он, посмотрев на красное вино в стакане, сказал:
– Товарищи, давайте выпьем за то, чтобы на этот раз, с вашей помощью, в России все обошлось малой кровью, а лучше совсем без нее, и нам не пришлось воевать со своими соотечественниками на радость европейским капиталистам. Лучше строить, чем разрушать, лучше улыбаться, чем плакать, лучше любить, чем ненавидеть. За нашу Советскую власть…
И мы выпили вместе со Сталиным.
12 октября (29 сентября) 1917 года. Петроград, Суворовский проспект, дом 48
Капитан Александр Васильевич Тамбовцев
После того как весь тираж нашего вечернего номера был напечатан, сфальцован и упакован в пачки, мы решили немного отдохнуть и перекусить. Сразу скажу, несколько пачек с газетами, на самой верхней из которых Сталин поставил свой автограф, ждали оказии, чтобы отправиться на эскадру. Если бы удалось переправить одну такую газетку в наш XXI век, у публики был бы шок и когнитивный диссонанс.
Для принятия пищи товарищ Сталин предложил нам отправиться на 10-ю Рождественскую, к Аллилуевым, а я – на Суворовский, где расположились наши бойцы. Мы решили начать с Суворовского. Во-первых, надо было узнать, не поступила ли новая информация от адмирала Ларионова, а во-вторых, необходимо было переговорить со Сталиным с глазу на глаз. Это можно было сделать лишь на Суворовском – в квартире Аллилуева было слишком много людей, которым не стоило знать ни о нашем иновременном происхождении, ни об уже произошедшем перевороте. А то желающих во власть много, набегут – замучаешься их отшивать. А ведь у каждого из них в голове свои тараканы – хорошо, если их фантазии продвигаются не далее национализации всех женщин.
Мы вышли на улицу. Толпа у входа в типографию уже рассосалась. Все желающие купить спецномер уже купили его, и теперь на Шпалерной и Кавалергардской кучками стояли люди, читающие вслух «Рабочий путь» и тут же, наподобие пикейных жилетов из «Золотого теленка», обсуждали подробности сражения в Моонзунде.
Мы отпустили караул волынцев, стоявший в оцеплении и обеспечивавший нашу безопасность, и броневики. В благодарность мы дали и тем и другим по пачке нашего спецвыпуска. Солдаты, забросив винтовки на плечо, гурьбой побрели по Шпалерной. А броневики, окутавшись черным дымом, потарахтели в сторону Смольного.
Ну а мы со Сталиным, Ириной и штабс-капитаном Якшичем, который все это время тихонечко сидел на стульчике в типографии, наблюдая за нашей работой, забрались в «Руссо-Балт» и поехали на Суворовский. Сержант Кукушкин вместе со своими орлами загрузился в прикомандированный генералом Потаповым грузовичок и запылил за нами следом.
На Суворовском наши «мышки», как оказалось, не теряли время даром. Они успели сбегать на находящийся неподалеку Мальцевский рынок и выменять на пару газовых зажигалок кое-что из продуктов. Сюда же добавили несколько банок из сухпая… В общем, к нашему приходу поздний обед, или уже ранний ужин, был готов.
Сержант Свиридов принял с «Кузнецова» несколько радиограмм. Я быстро их прочитал. Переговоры с Дзержинским, Бонч-Бруевичем и примкнувшим к ним адмиралом Пилкиным шли успешно. Виктор Сергеевич сумел их убедить в том, что альтернативы большевикам нет и в настоящее время не предвидится.
За истекшее время наши самолеты успели совершить по несколько налетов на Либаву и другие порты Балтики. Уничтожены портовые сооружения, базы авиации, станция германских цеппелинов, командные центры противника. В Либаве, Данциге и Кенигсберге в портах горят угольные склады. Авиабомбы ЗАБ-500 ТШ – это страшная сила. Тот, кто их выдумал, был настоящим пироманьяком. Даже если немецкое командование и вернет линкоры в восточную часть Балтики, то их совершенно нечем будет бункеровать.
Судя по перехваченным немецким телеграммам, среди высшего сухопутного и морского командования нарастает паника. Сам кайзер, находящийся в своей ставке в Кройцнахе, вызвал к себе ушедшего в отставку в марте прошлого года Альфреда фон Тирпица. Возможно, что Вильгельм, учитывая пророссийские взгляды гросс-адмирала, предложит ему пост канцлера и даст полномочия на ведение переговоров с Россией о заключении сепаратного мира.
Обо всем этом я сообщил Сталину. Тот немного подумал и неожиданно предложил перекусить, напомнив римскую пословицу: Satur venter non studet libenter, что в переводе на язык наших родных осин означает: «Пустое брюхо к ученью глухо».
– Давайте поедим, Александр Васильевич, – сказал он, – а уж потом, не спеша, с чувством, с толком и расстановкой поговорим о наших насущных делах.
Я вспомнил, что Сталин на ногах уже вторые сутки и почти ничего не ел. Поэтому не стал возражать и вместе со всеми отправился в столовую…
После принятия пищи все курящие дружно направились отравлять атмосферу. Сталин ушел вместе со всеми. Под курительную использовали маленькую комнатку, в которой, по всей видимости, раньше жила прислуга. А я стал прикидывать, как начать с будущим вождем обсуждение самого щекотливого вопроса – о власти. Вообще-то, у меня был в ноутбуке записан небольшой документальный фильм о том, как проистекала борьба внутри партии большевиков в период с 1917 по 1934 год. Я решил показать его Сталину. Пусть смотрит, размышляет. Если что еще спросит – подскажу.
Иосиф Виссарионович пришел из курилки довольный и провонявший табачным дымом.
– Ох, и веселые у вас ребята, Александр Васильевич, – сказал он мне, приглаживая усы. – Хотя по моим догадкам, – сказал Сталин уже серьезным голосом, – бойцы они первоклассные, прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Наверное, пришлось им у вас повоевать?
– Да, люди обстрелянные, проверенные, – ответил я. – И пороху они понюхали вдоволь. К сожалению, и в нашем времени приходится стрелять и убивать.
– Значит, не получилось ни у нас, ни у вас обойтись без стрельбы и насилия, – печально сказал Сталин, – а ведь мы мечтали, что с переходом мира к социализму больше никогда на свете не будет войн. Несовершенное все же существо – человек… Вы согласны со мной, Александр Васильевич?
– Полностью согласен с вами, Иосиф Виссарионович, – ответил я, – только дело, скорее, не в несовершенстве человека вообще, а в том, что слишком многие порочные по натуре люди пытаются дорваться до управления государством. И дорвавшись, они в борьбе за власть льют кровь людскую потоками, даже реками.
– Да, вопрос власти, наверное, один из самых важных в политике, – осторожно сказал Сталин, – как в вашем времени все обстояло? Ну, в общем, после того как победила революция и был низложен Керенский.
– Иосиф Виссарионович, – я посмотрел ему прямо в глаза, – мы предполагали, что вы зададите нам подобный вопрос и подготовили для вас небольшой фильм, посмотрев который, вы многое поймете. Я сейчас включу аппарат для просмотра фильма – у нас он называется ноутбук – и выйду, чтобы вам не мешать. Вы посмотрите его. Когда же я вернусь, то можете задавать мне какие угодно вопросы.
Настроив ноутбук, я щелкнул мышкой, запустив фильм и развернув его экраном к Сталину, и вышел к радистам. У них я выяснил, что известие о том, что Керенский готов передать власть большевикам, уже доложено адмиралу Ларионову и участникам совещания. Реакция самая различная: Дзержинский доволен, кажется, его аналитический мозг срисовал картинку и оценил красоту игры. Теперь нам с ним будет легче сотрудничать. Генерал Бонч-Бруевич сразу же стал прикидывать расклад политических сил, а контр-адмирал Пилкин глубоко задумался, впрочем, пока воздержавшись от комментариев. Но особых эмоций это известие ни у кого из них не вызвало. Может быть, потому, что «Главноуговаривающий» у всех уже сидел в печенках. Пусть думают. Самое интересное начнется завтра.
Примерно через час я зашел в комнату к Сталину. Фильм, похоже, кончился всего пару минут назад. Иосиф Виссарионович сидел, тупо уставившись в экран, разминая пальцами папиросу и не замечая, что бумага уже порвалась и табак сыпется на пол. Услышав, что открылась дверь, он повернулся ко мне, и взгляд его стал осмысленным.
– Вот, значит, как, Александр Васильевич, – голос Сталина звучал глухо, – из-за этой самой власти бывшие мои товарищи, с кем я вместе сидел в тюрьме, с кем был на каторге и в ссылке, будут интриговать, поливать друг друга грязью – словом, вести себя хуже, чем самые заклятые наши враги. Что происходит с людьми, Александр Васильевич, – сказал он горечью, – как можно им верить?
– Верить людям надо, Иосиф Виссарионович, и без веры этой жить нельзя. Но надо помнить, что не все люди могут устоять перед богатством, властью, славой и почестями. Многие из тех, с кем вы делали революцию, не смогли устоять.
Сталин задумчиво посмотрел на заставку на мониторе.
– Александр Васильевич, скажите, у вас есть еще такие же фильмы о том, что произошло в вашем мире? Я бы очень хотел познакомиться с ними. Или книги – я обещаю, что, кроме меня, никто не узнает, что в них написано.
– Иосиф Виссарионович, – сказал я, – вы ведь прекрасно поняли, что в нашей истории именно вы стали человеком, который сумел снова собрать порушенную Российскую империю и превратить ее в великую державу. Под вашим руководством наша страна выиграла, пожалуй, самую страшную в истории войну, когда вопрос стоял даже не о независимости, нет, о самом существовании нашего народа. И во всех этих делах рядом с вами были соратники, которые вам не изменили, устояли перед соблазнами. Вот на них и надо опираться.
Но вы узнали и о тех, кто был злейшим врагом вашим, тот, для кого Россия – всего лишь охапка хвороста для разжигания пожара мировой революции. Да и мировая революция этим людям, в общем-то, не нужна. Они хотят власти, поклонения, возможности распоряжаться чужими жизнями для удовлетворения собственного тщеславия. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю.
– Знаю, – коротко ответил Сталин, – и обещаю, что сделаю все, чтобы не допустить их к власти. Как и тех, кто видел в революции лишь возможность набить свои карманы и стать новой коммунистической аристократией.
– Вам придется нелегко, – сказал я, – но, Иосиф Виссарионович, мы обещаем вам, что окажем любую помощь в борьбе с теми, о ком вы сейчас говорили.
Сталин немного успокоился. Он достал из кармана куртки блокнот и карандаш. Положив их на стол, он внимательно посмотрел на меня.
– Александр Васильевич, подскажите, кого бы вы порекомендовали в качестве членов нашего будущего правительства? Кстати, мне понравилось то название, какое было придумано в вашем времени для людей, должности которых соответствуют министерским. Народный комиссар – а что, красиво!
– Неплохо, тем более что слово «министр» себя, с подачи господина Керенского, окончательно дискредитировало. А в качестве председателя Совета народных комиссаров я бы порекомендовал вас, Иосиф Виссарионович. В нашей истории вы тянули всю практическую работу, в то время как другие занимались пустопорожней болтовней. Вы умели и сами работать, и заставлять работать других. Что называется, руководитель от Бога.
Наркомом обороны – так можно назвать должность военного министра – я бы предложил назначить товарища Фрунзе. Вы знаете такого? – Сталин кивнул. – Так вот, этот исключительно штатский человек оказался прекрасным военным руководителем. К сожалению, Михаил Васильевич рано умер. Но мы с нашей медициной постараемся сделать все, чтобы он прожил как можно дольше.
Феликс Эдмундович в нашей истории возглавил ВЧК – службу, которая боролась с контрреволюцией, бандитизмом и преступностью. Впрочем, для борьбы с уголовной преступностью я бы посоветовал привлечь старые и опытные кадры. Их разогнал полгода назад Керенский, но они будут честно работать, если не заниматься их травлей и унижением.
Вот, к примеру, Аркадий Францевич Кошко, бывший начальник сыскной полиции России. При нем на состоявшемся в Швейцарии Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
Наркомом иностранных дел, вместо Троцкого, который в нашей истории ухитрился перессорить Россию со всем миром и сорвать мирные переговоры с немцами в Бресте, может стать потомственный дипломат Георгий Васильевич Чичерин. Талант, умнейший человек, искренне преданный России. Это не его заместитель – Макс Валлах, известный также как Максим Литвинов, который сделал все, чтобы Советская Россия оказалась втянутой в войну с Германией, женатый на англичанке, а дети-внуки подались в диссиденты.
Сталин внимательно слушал меня, делая какие-то пометки в блокноте. Потом он поднял глаза и спросил:
– А кем должен быть в нашем правительстве Владимир Ильич Ленин?
– Владимир Ильич – человек, пользующийся огромным авторитетом в партии, – сказал я, – но он, скорее, не практик, а теоретик и политик. Основой нового государства станут Советы. Пусть Ильич возглавит ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Орган этот коллегиальный, поэтому ладить со всеми, добиваться единодушия, компромисса в принятии законов – это именно то, что лучше всего удается Ленину. Тем более что он юрист по образованию.
То, что ему предстоит сделать – воистину адова работа. Ведь все законодательство Российской империи нуждается в пересмотре и приведении в соответствие с реалиями Советской власти. «Временные» и так наломали дров, устроив в стране анархию. Нужно будет все это как можно скорее привести в порядок.
Мы, со своей стороны, можем предоставить Владимиру Ильичу тексты советских конституций 1923 и 1936 годов. Первая конституция декларировала построение социализма, вторая – закрепляла уже достигнутые социалистические завоевания.
Сталин согласно кивнул. Скорее всего, он и сам бы предложил на эту должность кандидатуру Ленина. В нашей истории председателем ВЦИК был Свердлов. Но с Яковом Михайловичем его отношения были скверными давно, еще со времен сибирской ссылки, когда им пришлось вдвоем жить в одном доме. Все закончилось тем, что они окончательно разругались, и властям пришлось отправить Свердлова отбывать ссылку в другой населенный пункт.
Да и роль Свердлова в построении Советской власти крайне противоречива и отдает трупным запашком. Наш спец по острым акциям полковник Бережной уже намекал на возможность скоропостижной смерти «Андрея Уральского». Имитация инфаркта или инсульта – в нашем XXI веке дело не такое уж сложное.
– Да, Александр Васильевич, я внимательно подумаю над тем, что вы сказали, – задумчиво произнес Сталин. – Но Ильич сейчас в Выборге. Надо его побыстрее доставить в Питер. Можно ли это сделать с вашей помощью? А то в наше неспокойное время путешествие из Выборга в Петроград может быть весьма рискованным. Я видел, как люди путешествуют на вертолете. Может, и за Лениным в Выборг послать вертолет?
Я попросил у Сталина немного времени, чтобы переговорить с контр-адмиралом Ларионовым и решить этот вопрос. А чтобы Иосифу Виссарионовичу было не скучно, я предложил ему почитать одну умную книгу, которую нашел в библиотеке Смольного – не знаю, каким чудом она там оказалась. Книга эта была «Краткий курс истории ВКП(б)»…
Вернувшись, я нашел товарища Сталина погруженным в чтение. Вот железный человек – как минимум полтора дня на ногах, и хоть бы хны!
– Товарищ Сталин, – отвлек я его от этого увлекательного занятия, – Виктор Сергеевич говорит, что вертолет – это очень шумно и напугает полгорода. А у товарища Ленина здоровье и так шалит. Представьте, явятся наши архаровцы в полном боевом, начнут спрашивать Ульянова, и все. Владимир Ильич подумает чего-то неправильное – и здравствуй, инфаркт или инсульт. Не стоит пугать человека, жизненный опыт у него пожиже вашего будет. Если немного подождать, то БПК «Североморск» доведет транспортный караван до Питера. А потом быстро обернется в Выборг. Завтра утром Владимир Ильич не замочив ног сойдет на набережную у Смольного. Только вот проводник нужен надежный, которого Ильич в лицо знает и верит ему…
– Наверное, вы и ваш адмирал правы, – сказал Сталин, подумав, – несколько часов погоды не делают, а вот риск потерять Ильича очень велик. Тем более что на него в последнее время была открыта настоящая охота, и он действительно может принять ваших бойцов за убийц. Верного человека я вам дам, нужно только позвонить по телефону, когда все будет готово – скажете…
12 октября (29 сентября) 1917 года, вечер. Гатчина
Бывший великий князь, бывший командир Дикой дивизии, бывший почти император Михаил Александрович Романов
Гатчинский пленник, скучая, смотрел в темнеющее за окном небо, затянутое серыми осенними тучами. Так же серо и беспросветно было в его жизни. Храбрец, отчаянный рубака, он всю жизнь боялся только одного – абсолютной власти и связанной с этим ответственности. Ведь даже царю Алексею Михайловичу Тишайшему приходилось и головы рубить, и войны соседям объявлять. А к подобному несостоявшийся император готов не был. Потому, наверное, и женился так, чтобы наверняка закрыть себе путь на престол. Наталья Сергеевна Шереметьевская-Мамонтова-Вульферт-Брасова, жена трех мужей – опытная красавица с изрядной долей польской крови, что придавало ей определенный шарм, которая каждый раз искренне считала, что она наконец нашла свою «любовь с первого взгляда».
Она и их маленький сын Георгий, которому недавно исполнилось семь лет, – это и есть его единственная отрада в этом мире. Сейчас жена, наверное, укладывает спать сына, который, как всегда, воспринимает это с большой неохотой. Старшей дочери Натальи от ее первого брака с племянником знаменитого Саввы Мамонтова, тоже Наталье, а по-домашнему – Тате, недавно исполнилось четырнадцать лет. Вся в мать пошла, такая же шаловница, сидит, небось, и портит глаза, читая книжку у тусклой керосиновой лампы. Хорошо, что бывший великий князь и бывший император не читал еще не написанную книгу скандально-знаменитого русского эмигранта и писателя-педофила Набокова «Лолита», а то бы мозги Михаила Александровича и вовсе съехали набекрень.
Посещали его и мысли суицидального толка: «Ну почему, – думал он, – туберкулезом заболел не я, а брат Георгий? Он бы, наверное, со всем этим справился, а я бы тем временем спокойно лежал в могиле».
При этих мыслях у Михаила отчаянно заныл больной желудок.
«Что-то Джонни задерживается, – подумал он, отходя от окна и сворачиваясь на кушетке в клубочек, – поехал в Петербург, обещал быть еще засветло, а сейчас уже почти совсем темно. Вот лечь бы, заснуть, проснуться – и ничего нет. Ни гадкого Керенского, ни ужасного Ульянова, ни глупого Корнилова, ни всех этих предателей Гучковых, Милюковых, Родзянок, которым империя дала все, а они ее распяли, как шлюху на панели. Да и я хорош…»
С этими мыслями он закрыл глаза, стараясь не шевелиться, авось боль успокоится хоть немного быстрее. В этот момент где-то вдалеке послышался шум мотора. Михаил поднял голову. Явно это был его «роллс-ройс». Встав с кушетки, Михаил Александрович выглянул в окно. Где-то вдали на темной дороге метался свет ацетиленовых фар. Это возвращался Джонни.
«Джонни» Михаил Александрович ласково называл Брайана Джонсона, своего личного секретаря, однокашника по Михайловскому артиллерийскому училищу и друга. Сын англичанки, преподававшей музыку царской семье, он настолько обрусел, что принял православие с именем Николай Николаевич. Друг человека, жизнь которого в любой момент может оказаться в смертельной опасности. В нашей истории они так и умерли от рук палачей в один день и в один час. Неизвестно, кто отдал приказ об убийстве, но это явно был не Ленин. Глава советского государства не нуждался в тайных приказах, замаскированных под банальную уголовщину. Есть версия, что и убийство Михаила Романова, и убийство других членов царской семьи были произведены по распоряжению Якова Свердлова, ведь Урал был его вотчиной. Но вернемся к нашему повествованию.
Брайан Джонсон ворвался в комнату к Михаилу, потрясая толстой газетой, и с каким-то плакатом в другой руке.
– Майкл, Майкл, ты тут сидишь и ничего не знаешь! – тараторил он. – Большевики разгромили немцев при Моонзунде, ужасные потери германского флота, десантный корпус почти полностью уничтожен! – в этот момент маленький и полненький Джонсон был похож на мальчишку-газетчика, зазывающего клиента.
– Вранье! – безапелляционно ответил Михаил.
– Какое вранье! Вот смотри! – с этими словами Джонсон раскатал перед Михаилом большой плакат. – Буквально отобрал у расклейщика. Весь город гудит, как растревоженное осиное гнездо.
Михаил склонился над плакатом, да так и застыл. Он увидел нечто совершенно невероятное. Разбитый и полузатопленный немецкий линейный крейсер, всего две дыры в палубе, других повреждений не видно, но корабль полностью уничтожен. Прочие сцены полного разгрома, которому подвергся германский флот, неоспоримы и не могли быть подделаны. А самым главным было то, что с прекрасных цветных фотографий на Михаила будто глянул иной мир. На снимках были не только побежденные и пленные немцы. Там Михаил увидел и победителей, не похожих на русских матросов и офицеров, несмотря на то что на их плечах были соответствующие званию погоны, а над кораблями развевался Андреевский флаг.
И еще. Везде и всюду присутствовал доселе неизвестный Михаилу символ – красная пятиконечная звезда. Пока Михаил не мог сформулировать, в чем именно, кроме совершенно незнакомого оружия и техники, заключается странность всего увиденного, но это чувство было настолько острым, что опять заныл желудок, о котором Михаил уже совсем забыл. Техника, конечно, была совершенно неизвестная, но сейчас она развивается так быстро, что еще десять-пятнадцать лет назад никто и помыслить не мог ни о броневиках и танках, ни о гигантских аэропланах «Илья Муромец», ни о линкорах и быстроходных линейных крейсерах. А вот люди… Люди за это время совершенно не поменялись. Какими они были в Русско-японскую войну, такими же пошли и на германскую.
Михаил прекрасно осознавал, что именно тень той, бездарно проигранной войны, лежащая и на России, и на его брате и привела страну сначала в объятия к Антанте, а потом и в пекло мировой бойни, ненужной ни русскому царю, ни его народу. И вот теперь мы имеем то, что имеем. Михаил был хорошим физиономистом, без этого нельзя было командовать Дикой дивизией. Так вот, на лицах офицеров и нижних чинов большевистской эскадры, запечатленных на фото, лежала тень совсем другой войны. Войны победоносно выигранной, закончившейся взятием вражеской столицы и капитуляцией вражеской армии.
Присев на кушетку, Михаил взял в руки газету. Рядом с ним тихонечко пристроился Брайан Джонсон. Большевистский листок был напечатан на отвратительной по качеству, почти оберточной бумаге, но он был сенсацией. Утренний выпуск, в котором бывшего великого князя интересовал только анонс, был сразу отложен в сторону. Развернув вечернюю «толстушку», бывший великий князь поближе придвинул к себе керосиновую лампу и в полной тишине стал читать. Летели минуты, а Михаил все перелистывал страницы, внимательно вчитывался, иногда задумчиво хмыкал… Потом отложив газету в сторону и внимательно посмотрел на своего друга и секретаря.
– Интересную вещь ты мне принес, Джонни. Ну, что скажешь, что теперь со всеми нами будет?
Джонсон склонился к уху Михаила:
– Известно совершенно точно, что Керенский подает в отставку. Говорят, что он испуган всем этим до нервного тика.
– А кто будет новым премьером, эсер Чернов? – поинтересовался Михаил.
– Ни за что не поверишь, Майкл, – прошептал в ответ Джонсон, – правительство будут формировать большевики, а премьером будет грузин Джугашвили – ну тот, который Сталин…
– Ты уверен, Джонни? – недоверчиво переспросил Михаил.
– Совершенно точно, Майкл! – уверил Джонсон своего друга. – Перепуганный до смерти Керенский – а ведь ты знаешь, какой он трус – сразу после того, как узнал о разгроме большевиками немецкой эскадры, бросился звонить Сталину в газету. Телефонистка, которая их соединяла, просто не могла не прослушать разговор, ну ты же знаешь дамское любопытство. А потом немедленно растрезвонила об услышанном всему городу. Теперь, два часа спустя, об этом, наверное, уже знает каждая собака.
– Понятно, – сказал Михаил и постучал пальцем по газете. – И как думаешь, как скоро эти будут здесь?
– А они уже здесь, Майкл, – с заговорщицким видом сказал Джонсон, – еще утром в редакцию к Сталину явились несколько человек. Представительный пожилой мужчина, молодой офицер кавказской наружности, чернявая девка и несколько жуткого вида головорезов, то ли абреков, то ли дезертиров. После этого все и началось. А перед этим в том районе видели чудную летательную машину с двумя винтами наверху. Вот как на этой картинке. Теперь весь город уверен, что это именно люди Сталина остановили немцев, рвущихся к Петрограду. И ты обратил внимание, – Джонсон кивнул в сторону лежащей на столе газеты, – во всем толстом номере ни единого плевка в сторону «проклятого царского режима», что необычно для революционной прессы.
– Ничего странного, Джонни, – невесело отозвался Михаил, – господин-товарищ Сталин больше похож на льва или тигра, ему плеваться незачем. А вот наши записные либералы и революционеры трибунные – все они первостатейные верблюды. Если не оплюют кого, то спать спокойно не лягут. Опыт у них большой, на Ники долго тренировались.
– Майкл, – ответил Джонсон, – насколько я понял Сталина, это не Ники. Если кто попробует в него плюнуть, то он оторвет такому наглецу голову. Надо бы завтра в Петроград съездить, узнать, что там к чему.
Но следующего дня ждать не пришлось. Михаил поднял голову: где-то в отдалении появился и теперь постоянно нарастал странный звук, будто к Гатчине приближались несколько огромных майских жуков.
Гул все время нарастал. Встревоженные Михаил с Брайаном Джонсоном быстро выбежали на крыльцо перед северным фасадом дворца. Вслед за ними там же оказались также чада и домочадцы Михаила. Звук этот приближался к Гатчине откуда-то со стороны Финского залива, примерно с северо-запада.
– Летят, летят! – острые молодые глаза Таты, в одном наброшенном на плечи пальтишке выскочившей на крыльцо вслед за матерью, разглядели мигающие проблесковые огни над темными водами Серебряного озера.
Михаил, как и все собравшиеся, вглядывался в темноту. Вдруг оттуда ударил сияющий бело-голубой луч поискового прожектора, на мгновение ослепив всех стоящих на крыльце. Секунду спустя к нему присоединился еще один. Немного пометавшись по дворцовому фасаду, круги света остановились на лужайке перед дворцом. Проморгавшись, Михаил увидел два силуэта пузатых летательных аппаратов, зависших на мерцающих кругах винтов над лужайкой перед дворцом. Тугой порыв ветра ударил по собравшимся перед дворцом людям. В воздух полетели сухие листья, мусор и чьи-то шляпы. Хорошо, что осенние дожди давно прибили к земле летнюю пыль.
Михаил непроизвольно выступил вперед – показать сейчас свой страх и убежать было бы немыслимо, даже если его будут убивать прямо здесь, на месте. Аппараты то ли коснулись земли своими лапами, то ли зависли в дюйме прямо над ней. Из них горохом посыпались вооруженные до зубов солдаты. Бряцание оружия, резкие команды, отдаваемые на русском командно-матерном языке. Высадившиеся солдаты развертывались в стрелковую цепь, охватывая дворец с обеих сторон. Другие фигуры выбрасывали прямо на мокрую траву какие-то большие мешки и что-то брякающее железом. Освободившись от людей и груза, винтокрылые аппараты взвились вверх и направились в ту же сторону, откуда и прилетели.
Михаил отметил, что если бы он инспектировал эту часть на маневрах, то она получила бы «отлично» за скорость высадки и образцовый порядок. От цепи пришельцев отделилась невысокая худощавая фигура и решительным размашистым шагом двинулась навстречу Михаилу.
– Романов Михаил Александрович? – спросила фигура и, в ответ на неуверенный кивок Михаила, представилась: – Полковник войск специального назначения Бережной Вячеслав Николаевич.
Наступила неловкая пауза, Михаил понял, что прямо тут и немедленно его убивать не будут, раз уж дело дошло до официальных представлений. Поэтому, немного помявшись, сказал:
– Э-э, господин полковник, чем обязан?
– Надо поговорить, Михаил Александрович, – сказал полковник, машинально поглаживая ствол висящего на плече карабина. – Желательно наедине. И передайте своим домашним, чтобы занимались своими делами – представление окончено.
– Скажите, Вячеслав Николаевич, – Михаил оглянулся по сторонам, – а ваши люди, они с какой целью прибыли?
– Да успокойтесь вы, Михаил Александрович, – ответил полковник. – Несмотря на почти полную дискредитацию идеи монархии, вы и ваши близкие представляете некоторую идеологическую, а также материальную ценность. Про идеологию пока помолчим, но вот серебряные часы в кармане вашего секретаря, и тем паче бриллианты, зашитые в корсет вашей супруги – это то, что может стать причиной нападения разных мазуриков. Мои люди имеют задание от контр-адмирала Ларионова обеспечить охрану и оборону вашего семейства.
– Ах, адмирала Ларионова, – глубокомысленно сказал Михаил, – ну тогда понятно. Пойдемте, полковник, поговорим в моем кабинете. – Он повернулся, сделал два шага и снова посмотрел через плечо на Бережного: – Скажите, Вячеслав Николаевич, а мой друг и секретарь Брайан Джонсон может присутствовать при нашем разговоре?
Михаил обратил внимание, как при этих словах лицо полковника Бережного недовольно скривилось.
– Крайне нежелательно, – сказал он, – ведь мистер Джонсон – подданный Великобритании? – Михаил кивнул, и полковник добавил: – Лучше будет, если мы с вами поговорим с глазу на глаз, а мистеру Джонсону вы потом расскажете то, что сами сочтете нужным.
Михаил еще раз кивнул, и до самого кабинета они шли молча. Уже внутри, когда закрылась дверь и снаружи встал часовой, Михаил обернулся и немного раздраженно, как будто он все еще был вторым лицом в империи, спросил:
– Ну так что у вас, полковник? Зачем такой осколок прошлого, как я, мог понадобиться большевикам?
– Да вы не волнуйтесь, Михаил Александрович, – успокаивающе сказал полковник, оглядывая помещение, – садитесь и поговорим. Такие, как вы говорите, «осколки империи» ухитрились загнать Россию в такое болото, что мы теперь не знаем, как ее оттуда и вытащить. Но будьте уверены, мы справимся, ни ваш покорный слуга, ни адмирал Ларионов, ни товарищ Сталин белоручками никогда не были. Так что достанем Русь-матушку из грязи, отмоем, раны уврачуем, и будет она, красавица наша, хоть куда. Только вот крови русской при этом может пролиться море.
– Да кто вы такой?! – захлебнулся Михаил от возмущения. – Да я… – Тут его согнуло в очередном приступе желудочной колики.
– Я же говорил вам, Михаил Александрович, не надо волноваться, – полковник Бережной аккуратно довел собеседника до кушетки. – Сядьте вот и выпейте эту пилюлю, врач передал специально ее для вас.
Когда боль у Михаила немного утихла и он смог хоть немного перевести дух, полковник продолжил свою речь:
– Ну вот, так-то лучше. Вы только больше так не нервничайте. Критиковать вас я не собираюсь, что выросло, то выросло, да и поздно уже. Брат ваш дров наломал куда больше, но и у него были обстоятельства – не приведи господь каждому. Меня сейчас другое интересует: что именно бывший наследник бывшей Российской империи, бывший командир Дикой дивизии собирается делать дальше?
– Не знаю, – с некоторым усилием выговорил тот, – господа демократы выставили меня отовсюду. Боялись, наверное, что я подниму на них армию…
– Эх, Михаил Александрович, Михаил Александрович, – покачал головой полковник, – разве возможно было вам поднять армию, которая подняла на штыки своих офицеров? Российская армия была обречена еще в феврале, после «Приказа № 1». А сейчас продолжается ее агония…
– Так кто же вы все-таки такой, господин полковник? – Михаил постарался сесть прямо. – Вы не очень-то похожи на обычного офицера.
– Да, мы не совсем обычное войско, точнее совсем необычное, – сказал полковник Бережной. – Но самую суть вам пока знать еще рано. Могу сказать лишь одно: нас сюда прислали для того, чтобы не допустить самого худшего.
Если вы думаете, что страна уже достигли дна и господа Керенские и Львовы – это худшее, что может ждать Россию, то глубоко ошибаетесь. На старте стоит такая мразь, что рядом с ней болтун Керенский покажется идеалом. И в то же время нынешняя система власти изжила себя настолько, что рушится под собственным весом.
– Так вы, господин полковник, – саркастически улыбнулся Михаил, – вроде бы выступаете на стороне этой мрази, имя которой – большевики.
– Ошибаетесь, Михаил Александрович, – с таким же сарказмом ответил полковник, – наша задача – отделить агнцев от козлищ, или, как говорят у нас, мух от котлет, и привести к власти именно тех большевиков, что однажды уже сделали Россию величайшей державой в мире. А всех остальных – на помойку истории.
– Господин полковник, – растерянно сказал Михаил, – я вас не понимаю. Когда это большевики сделали Россию великой державой?
– Узнаете чуть позже, – заверил его полковник. – Но факт в том, что именно Сталин…
– Да откуда вы можете знать?! – вскричал Михаил. – Откуда вам может быть известно, что будет завтра, а не только то, что случится через десять или пятнадцать лет!
– Успокойтесь, Михаил Александрович, – сказал Бережной. – То, что случится завтра, мы уже точно знать не можем, как и то, что случится через десять лет. Мы сказали свое слово, мир получил толчок, свернувший его с накатанной колеи, и снова обрел свободную волю. А насчет того, откуда мы это можем знать…
Вы видели фото наших кораблей – вон, плакат и газета до сих пор на столе. Но фото можно подделать. Вы своими глазами видели два наших вертолета и снаряжение бойцов. Можно ли в век полотняных этажерок подделать боевые вертолеты? Можно ли подделать сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Вулкан», два попадания которых и утопили «Мольтке»? Два из двух, заметьте. – Сунув руку в карман пятнистой жилетки, полковник вытащил оттуда какую-то плоскую коробочку. – Можно ли подделать вот эту штуку, названия для которой даже нет в вашем языке? Как телефон она сейчас не работает, поскольку еще нет базовых станций, но… Минуту! Улыбнитесь! – Комната озарилась вспышкой, от которой Михаил немного зажмурился. Через минуту он имел возможность посмотреть на свое изображение с глуповато приоткрытым ртом – в стеклянном прямоугольнике на лицевой панели неизвестного прибора.
– Ничего не понимаю, господин полковник, – опять сказал он, – вы опять говорите загадками. Я вижу множество вещей, которые мне кажутся невероятно совершенными, но еще пятнадцать лет назад сказкой казались автомобиль или аэроплан. Пока мы, дикие, воевали, в Америке изобретатели опять понаделали всяких хитрых штук, чтобы морочить нам голову. И при чем тут ваше знание будущего?
– Михаил Александрович, простите, но вы наивны, как дитя, – улыбнулся полковник, – до большинства из этих штук техническому прогрессу двигаться не десять и не двадцать, а более пятидесяти лет. Вспомните роман одного англичанина по имени Герберт Уэллс…
– «Машина времени»! – резко выпрямился Михаил.
– Скорее уж «Пинок времени», – покачал головой полковник. – Нас взяли там, в декабре 2012 года, и высадили здесь, в октябре 1917 года, по дороге попутно объяснив задание… Мы не можем делать чудеса, а можем только применить свои знания и толику грубой силы, чтобы Россия избежала самого страшного – Гражданской войны. И нам нужно, чтобы вы были на нашей стороне…
– Зачем? – хрипло произнес Михаил. – Зачем я вам, со всей вашей мощью?
– А затем, – ответил Бережной, – чтобы те сторонники монархии, которые еще есть среди русских людей, вместе с нами работали на благо России, а не втянулись бы в междоусобную войну. Если у вас еще есть хоть капля чувства долга перед Россией, то вы не будете колебаться…
Михаил устало потер виски.
– Дайте мне подумать до утра…
Бережной уже было направился к выходу, как бывший наследник престола остановил его:
– Подождите, господин полковник, будьте любезны, скажите, что нас ждало там, в вашем прошлом?
Бережной пожал плечами.
– Там вы все умерли! Вашего брата со всей его семьей отморозки, называвшие себя большевиками из Уралсовета, расстреляли в Екатеринбурге. Там же на Урале упокоились и многие иные из ваших родственников. Сказано же было, что императорская корона, в отличие от шляпы, снимается только вместе с головой.
Вас, вместе с вашим секретарем, убили и ограбили в Перми. В живых, дай бог памяти, остались ваша мать, сестры Ксения и Ольга, великий князь Александр Михайлович и великий князь Кирилл Владимирович. Позже он самопровозгласит себя императором Всероссийским в изгнании. Царь Кирюха, и никак иначе. Трагедия дома Романовых закончилась ярмарочным балаганом.
Ваш сын Георгий благополучно спасся из объятой хаосом России, но погиб в 1931 году под Парижем в автомобильной катастрофе. Ваша супруга Наталья умерла в 1952 году от рака в полной нищете. Падчерица Тата, вся в мать, три раза была замужем, имела двух дочерей и умерла, кажется, в 1962 году. Примерно вот такая история вашей семьи.
История страны была не менее трагична. Революция, потом хаос трехлетней гражданской войны. Сталин, который готовил тихую передачу власти, был отодвинут в сторону на десять лет. Результат тех экспериментов – два миллиона эмигрантов и вдесятеро больше погибших – от голода и эпидемий, расстрелянных. Итог был таков, что когда на Советскую Россию в 1941 году опять напала Германия, то мобилизационный ресурс армии оказался меньше, чем в августе 1914-го. И это через четверть века, притом что по советским законам службе подлежали все, независимо от вероисповедания.
Хозяйство страны после Гражданской войны находилось в таком упадке, что только к 1928 году оно достигло уровня последнего предвоенного, 1913 года. А потом у победителей в революции и Гражданской войне начался термидор. Набившиеся во власть разрушители начали откровенно мешать строить страну, и от них начали избавляться. Процесс растянулся на десять лет и стоил еще крови.
Параллельно страна строилась. Заводы, фабрики, железные дороги… Если вы помните историю, во Франции термидор тоже повлек за собой экономический бум. Товарищ Сталин тогда сказал: «Мы отстали от передовых стран на пятьдесят – сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Мы почти успели. Следующая война с Германией была выиграна путем величайшего напряжения сил и величайших жертв. Но наши солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине над руинами Рейхстага, внушив всему миру уважение к русским за мужество и героизм. Так вот наша цель – чтобы термидор наступил уже завтра и страну не надо было бы чистить от всякой мрази целых десять лет. Давайте на этом закончим наши исторические экскурсы, ведь завтра еще не конец света.
Михаил, завороженно слушавший Бережного, наконец встрепенулся:
– Ах да, конечно… Наверное, действительно лучше продолжить наш разговор утром. Когда выйдете, будьте любезны, скажите, чтобы позвали ко мне управляющего. Я распоряжусь, чтобы вас разместили, как полагается. Я ведь заметил, что все ваши люди – офицеры, слишком уж они дисциплинированны для нижних чинов, не так ли?
Бережной кивком ответил на этот пассаж.
– Михаил Александрович, любой рядовой из нашего времени обладает знаниями вашего прапорщика. Так что считайте нашу часть большевистской лейб-гвардией с допуском в офицерское собрание. Но это так, к слову, а сейчас – честь имею! – И с этими словами полковник Бережной вышел, оставив Михаила наедине с собственными мыслями…