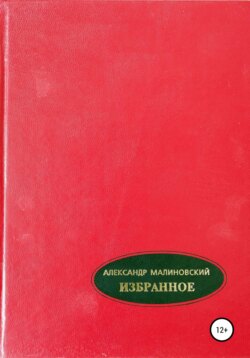Читать книгу Избранное. Том 2 - Александр Станиславович Малиновский - Страница 15
Полонез Огинского
ОглавлениеШурка давно уже знал, что дядя Гриша Кочетков в войну работал в утевской сапожной мастерской с его польским отцом.
На прошлой неделе он как взрослый подошел к Кочетку прямо на улице, когда тот проходил мимо их двора, спросил:
– Дядя Гриша, расскажи мне что-нибудь про моего польского отца.
Тот не удивился просьбе, как будто они давно об этом уже говорили.
– Приходи завтра днем, я буду дома.
…Едва Шурка щелкнул щеколдой, забрехала собака. Но тут же вышел хозяин. Подойдя ближе, положил легонько руку на плечо Шурки, и они как старые знакомые пошли в дом.
Оставив Шурку, хозяин скрылся в сенях, откуда скоро вышел, держа в руках мандолину и потрепанную ученическую тетрадь.
– Дядя Гриша, у вас фотографии отца есть?
– Да нет, видишь ли, одна групповая была, да жалко запропастилась куда-то давно.
Шурка понурил голову.
– Ну да ладно, не грусти. В Куйбышеве друг живет, он на той фотокарточке стоял около твоего отца, может, у него сохранилась…
Полистав тетрадку, нашел нужную страницу, помятую и исписанную карандашом.
– Вот:
Когда пролетных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путем к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснет моей судьбе,
На крыльях радости помчусь я быстро с юга
Опять на север – вновь к тебе!
– Это знаешь, кто написал? – спросил Кочеток.
– Нет, может, Пушкин?
– Пушкин, только польский – Адам Мицкевич, вот! Один раз, в войну, у твоей матери был день рождения. Ну мы собрались… Даже пиво было.
Отец твой прочитал это стихотворение по-польски, пересказал по-русски. Назвал автора – Адам Мицкевич. Мы признались, что не знаем такого. Он тогда очень расстроился и даже, кажется, обиделся на нас. Говорил он по-русски плохо, а тут совсем смутился, когда объяснял нам, что у них Мицкевич как у нас Пушкин. Его каждый поляк знает. Мицкевич и Пушкин, видишь ли, навроде друзей были меж собой. Я это стихотворение о перелетных птицах запомнил хорошо. Потом дочь моя, учительница в Куйбышеве, нашла книжку Мицкевича, переписала и прислала в письме.
– Дядя Гриша, мой отец – шляхтич?
– Кто тебе такую глупость сказал?
– Да меня дураки наши в школе контрой зовут, когда разозлить хотят.
– Послушай, он отличные женские туфли шил и меня научил. Может контра сапоги да башмаки шить, а? Он красивый, послушай, был. Невысокого роста, смуглый, кудрявый, а глаза голубые. Ходил в толстовке коричневого цвета. У тебя вот глаза зеленые, у матери твоей карие. Ты, значит, посерединке у них. Шляхтич, не шляхтич, но немецкий и французский языки знал, это верно. Уважительный, вежливый был, но за свое стоял. Когда я ему сказал, что вот освободят Польшу от немцев, организуют у них колхозы и Польша будет страна как наша, он стал мне говорить, что в Польше никогда колхозов не будет. Колхозы им не нужны. Так я его и не убедил. А с матерью твоей я его познакомил у Чураевых на вечерках. Не сразу они сошлись. Хоть и четыре года твоя мать не получала писем от первого мужа, а все равно – жена законная. Мы все были уверены, что Василия нет в живых. А тут еще Минька Леток раненый вернулся, сказал, что видел Василия Федоровича вроде бы на Карельском фронте, на Финской еще, попавшим под такой обстрел, что все погибли. Такая вот история с Любаевым получилась. Как тут разобраться?
Взял мандолину, как маленького ребенка, погладил ладонью, вытряхнул из отверстия посередине большой зуб от сломанной расчески и тронул струны.
Полилась удивительно красивая, грустная, незнакомая мелодия.
Мандолина – это маленькое существо, даже не гитара, незаметное и невнушительное, хранила в себе и издавала такие звуки, которые могли существовать только где-то на просторе, в поле, между небом и землей, как песня жаворонка под открытым небом, в вышине, в огромном свободном пространстве, вечном и манящем…
Дядя Гриша кончил играть, Шурка не сразу пришел в себя.
– Подарок тебе – любимая музыка твоего отца, полонез Огинского.
Он любил его напевать, ну я и подобрал на мандолине. Ему очень нравилось, часто просил сыграть. Он говорил, что эта музыка бессмертная, на все века. Бери мандолину, она твоя.
– Как так? – опешил Шурка.
– Я ее подарил твоему отцу – Стасу, но когда его срочно забирали на фронт, он забыл ее взять впопыхах. Она у нас потом долго в сапожной мастерской висела – на память.
– А где была ваша сапожная мастерская?
– Да в промкомбинате, который напротив школы. Во время войны, в начале, его собрали из чернолесья. Потом твой дед с бригадой работал в Борске, заготовляли сосновые бревна. Я тоже с ними был, плотами пригнали в Утевку, сделали пристрой. Дед твой овчины готовил, полушубки шили для фронта из них.
– Плотами в Утевку по Самарке?! – удивился Шурка.
– Ну да! По Самарке баржи до Куйбышева ходили.
Шурка погладил осторожно, как живое существо, мандолину и вернул Григорию.
– Нет, спасибо. Можно, она будет у вас, а я буду приходить, слушать, как вы играете?
– Смотрю я вот на тебя и удивляюсь – ты так похож на отца, может, не внешностью, а характером больше. Он тоже, когда возражал, говорил очень мягко, как бы просил, совестливый был очень.
– А кто такой Огинский? Шляхтич?
– Дался тебе этот шляхтич. Композитор, поляк. Мне о нем Стас много рассказывал, он всего много знал и любил рассказывать. Но я все уже перезабыл. По-моему, граф был, а звали Михаилом или Николаем. Такое русское имя… да вот.
– А в чем мой отец виноват был, дядя Гриш?
– Точно не знаю. Тут их несколько человек было по селам. Что-то они, по-моему, в Литве наделали, их и пригнали. Сельсоветские наши частенько спрашивали о нем. Не спускали глаз.
– А как забрали на фронт? – допытывался Шурка.
– Просто. Польскую часть формировали, и его призвали в Рязань, вроде бы в дивизию Костюшко.
– А русских он любил?
– Кто? – не понял дядька Гриша.
– Отец мой.
– О чем разговор! Мы были все приятелями. Песни наши любил. Послушай, мы с ним часто ее пели:
Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах.
В избу вошла Наташа Лучезарная – жена Григория. Тут же подсела рядышком и стала подпевать.
Не зря утевский народ такое прозвище ей дал. От нее веяло жаром, как от протопленной печки, какие-то теплые иголочки выскакивали из ее веселых улыбчивых глаз и покалывали всех, кто был рядом. Грустная песня оставалась грустной, но все превратилось в некую забаву, и грусть стала как бы понарошку, временной.
Она обняла Григория за шею сзади одной рукой, наклонилась, кофточка белая на груди расстегнулась на две пуговички, и два бронзовых полновесных слитка заиграли перед лицом Шурки, в такт движения их шаловливой хозяйки то прячась, то выглядывая и целясь прямо в Шурку темными пухлыми сосками. Ему стало не по себе. Смутное, необычное волнение нашло на него.
А песня лилась в два голоса:
Взойдет ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?
Вдруг Лучезарная всплеснула легкими и ласковыми руками:
– Гришенька, песне-то этой конца нет, а у меня баня протопилась, голубок, давно.
– Наташа, ну обожди, допою парню еще один куплет. Когда еще так посидим?
Наташа ушла в сенцы, и дядя Гриша озорно подмигнул:
– Вишь моя полячка какая нетерпеливая!
– Разве ж она полячка? – откликнулся Шурка.
– Да нет, это я к слову. Похожа на полячку, верно?
Возьмите же все золото,
Все почести назад:
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд.
Он замолк.
– Вот такие дела. Тосковал он о своей прежней жизни. Это видно было. Не мог он здесь прижиться. Другой он был, не как мы.
– А как кто?
– Не знаю. В мастерскую сапожную приходил в светлой рубахе с галстуком. Так вот.
Григорий встал, отнес в сенцы мандолину. Оттуда выпорхнула Лучезарная с тазиком в руках и в полушалке:
– Гриш, ну ты и копуха, собирайся, а то я одна уйду.