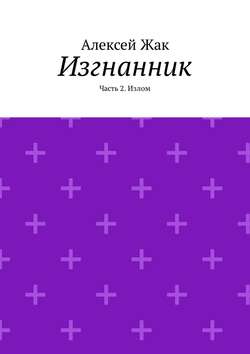Читать книгу Изгнанник. Часть 2. Излом - Алексей Жак - Страница 2
13. Сережа, мама и папа
Оглавление1.
А они все шли и шли. Трамваи. И им не было конца и края. Вереница допотопных, старомодных трамваев прошлого века. Позвякивая и гремя расшатанными внутренностями. С металлическими нотками громыханий, со старческими вздохами, придыханием и покашливанием – звуками древности, сопровождающими их узкоколейный путь.
А он все сидел на одном месте, на широком подоконнике в промежутке двух рам, одна из которых была распахнута внутрь комнаты, а к другой, закрытой, он прильнул. Прислонился горячим, но постепенно остывающим лбом к холодной, даже ледяной поверхности стекла. Он так просидел полчаса и не устал, только раз сменил положение затекших ног и расправил поясницу.
– И что ты там забыл? – спросила во второй раз (первый ее запрос он проигнорировал, либо не расслышал) зашедшая в комнату мама. – Ты что там увидел, в этом окне? Конец света? Или слона, которого по улице водили?
Сережа обернулся, и брови его двинулись вверх.
– Разве слона выпустили из цирка?
– Судя по твоему взгляду, то очень может быть.
– Не, такого не может быть.
– Это почему? Его что, не могут выпустить на прогулку и провести по улицам?
– Мама, не выдумывай. – Сережкины глазки превратились в щелки, он улыбался. – Рассмешила. Я уже не маленький, всё понимаю. Я…ы его увидел бы. А еще могу сказать почему: потому что, трамваи тогда бы не ходили, – нашелся с ответом Сережа. – Он бы их перевернул своим хоботом.
– Не боишься, что он и тебя скинет с подоконника? – Мама тоже улыбалась. – Сидишь, как курица на насесте, только яйца не несешь. Так и собираешься все летние каникулы просидеть? Занялся бы чем-нибудь полезным. Ты все уроки сделал? Написал сочинение, которое Ирина Константиновна задала?
– Давно.
– Дай прочесть.
– Вон там возьми, на шифоньере, на моей полке. Зеленная тетрадка в клетку.
2.
Сережа писал, точнее, он настрочил сочинение за час, исчеркав всю тетрадь на двенадцати страницах – остальные, недостающие листы вырвал с корнем – косым небрежным почерком:
«Я хотел посмотреть «Щит и меч», но фильм показывали в 21.30, поэтому мама сказала, чтобы я шел спать. Она подоткнула одеяло под мой подбородок – колыбельную не пела, так как я уже большой, – и удалилась в дальний конец нашей мега комнаты размером с футбольный стадион.
– Я не буду спать, – сопротивлялся я, как мог, – я умру, если не увижу фильм, – сказал я, чуть не плача. – Сегодня вторая серия, а завтра мне в школу, повтор мне никак не удастся посмотреть. Фильм дублируют утром, а я в это время буду в школе. Это несправедливо, я такой же человек, как все. Я имею такое же право на телевизор. Как ты. Я – полноправный член семьи. Папа покупал его для всех, и для меня в том числе. Как можно такое запретить? Как можно так поступить с ребенком?
– Хорош ребеночек. Скажи еще: лялька. Двойку исправишь, тогда смотри.
– Мама, я больше не буду, – заплакал я, – я больше никогда не получу ни одной двойки. Ты мне веришь? Только дай досмотреть. Вот сейчас уже началось.
Я щелкнул кнопкой телевизора. Экран озарился отблесками войны, титрами. В комнату полилась песня Бернеса.
Мама перегородила доступ к экрану. Цветастый шерстяной халат, из-за дыры в котором Блоха обзывала ее, выкрикивая с пеной у рта: «Рванина!», затмил свет из единственного источника в комнате, так как лампочки в потолочной люстре были погашены, а уличные висячие фонари за окном вдоль трамвайных путей лишь подмешивали в черноту комнаты бульварную желтизну, делая раствор жиже, слабее консистенцией, но не избавляя никоим образом (не разбавляя) образованную смесь от непроглядной тьмы…»
– Боже, что ты накалякал? Такое напридумывал. Какую смесь, какую непроглядность ты здесь описываешь? Что за вздор! Ты что, не можешь написать, как все… как все дети, а не как… прости меня господи за кощунственные слова.
– Мама, ты же не веришь в бога. И никто не верит в бога. Его нет. Так в школе говорят. Все учителя. Зачем же…
– Замолчи. Немедленно. Кто тебе помогал… кто тебя надоумил написать этакую чушь, галиматью, этот вздор несусветный?
– Сам.
– Никогда не поверю, чтобы ребенок… что ребенок в состоянии нести такой бред. Если только не… – она потрогала лоб Сережи. – Признавайся…
– Так ты мне не веришь?
– Не верю.
– А что, если я из книжки это выписал?
– И в книжки не верю. Это ахинея, что ты тут написал, переписал или сам придумал, – мама помотала раскрытой тетрадью со свисавшими вниз лицом в пол листами, как грязной тряпкой, как макулатурой, которую только и оставалось, что опустить в мусорное ведро. – Ни один уважающий себя прозаик не удосужится снизойти до таких нелепых текстов. От этого сочинения пахнет химией и немытыми пробирками.
3.
Некоторые определения, поясняющие поведенческие особенности персонажей романа (цитаты приведены из учебника по психологии доцента Крушинина Е. И.):
1) Гипереактивность – сочетание общего двигательного беспокойства, неусидчивости, обилия лишних движений, недостаточной целенаправленности и импульсивности поступков, повышенной аффективной возбудимости, эмоциональной лабильности, нарушений концентрации внимания.
2) Защитные механизмы – психологическое «ограждение» сферы сознания от негативных, травмирующих личность переживаний. У детей аналогично, как и у взрослых, хотя и в значительно меньшей степени, наблюдаются различные защитные механизмы. В дошкольном и раннешкольном возрасте – это чаще всего фантазирование.
4.
– Ты – неблагодарный, – ругалась мать. – Все дети как дети. Послушные. А ты весь в отца пошел. Тот тоже упрется рогом, не повернешь. Как осел упрямый.
– У ослов нет рогов, – отвечал хмурый Сережа.
– А у твоего отца – есть, – возражала, сердясь, мать.
«Что она себе позволяет, что говорит в истерике? – спрашивал себя много позднее Сергей. – Не отдавала тогда отчета своим словам? На что-то намекала? На измену. На рогатого мужа. Вроде умная, достаточно образованная и в меру культурная, начитанная, женщина – и такой пассаж. „Фортель“, как она любила называть все эти нелогичные проявления человеческой жизнедеятельности: и необычность словесных построений, и отклонения от нормы поведения как окружающих, так, выходит, и собственных, объединяя всё, не укладывающееся в рамки принятого, в одну емкую категорию – недоразумения».
– Выкинешь еще раз такой фортель, я тебя накажу.
Однажды она действительно позволила себе его ударить. По-настоящему. Ремнем. Не сильно и не больно. Скорее, для профилактики. Для острастки и для демонстрации не ограниченной конституцией власти над ним – все-таки ее ребенок, не чужой. В ход пошел подвернувшийся под руку реквизит, редко используемый в подобных случаях инструмент наказания. Это был отцовский кожаный, потрепанный временем и долгим ношением, ремень. Не военный, узкий и не жесткий, не стоящий колом, а размягченный, коричневый, теперь уже облезлый, но все-таки ремень. С пряжкой и вполне грозный. Сергей его помнил надетым и застегнутым на отцовских брюках. Еще до того, как отец купил, или ему подарили подтяжки?
«Откуда он взялся?»
«А, собственно, что явилось причиной взрыва эмоций и не свойственной ей агрессии?»
«Не юли, – предупредил себя Сергей, припоминая нюансы разборки. – Конечно, она рассердилась на его непослушание и отказ идти спать. Но ложиться в постель, когда по телеку крутят фильм про разведчиков, к которому ты готовился весь прошедший день, замирая и дрожа от мысли о предстоящем блаженстве… да, на такое мог согласиться разве что только последний из последних очкариков и маменькиных сыночков из их класса».
Сдаться без боя он не мог. Как не любил мать, как не считался с ее авторитетом, бесспорным и непререкаемым – такое было невозможно. Фашисты и борьба с ними – для мальчишек святое. Даже материнство отходило в этом споре на второй план. Так их учили и в школе, и на улице, и сами матери, признавая приоритет воина перед женской слабостью и заботой о подрастающем поколении.
Сережа вырвал ремешок из ее рук и замахнулся. Он не собирался отвечать ударом на удар, но мать испугалась. Впоследствии она никогда не повторяла попыток рукоприкладства.
– Что вырос, звереныш? – сказала она тогда. – На родную мать набрасываешься. Бить будешь, как отец твой?
– Не подходи, не смей, – огрызнулся Сережа. Свирепый, с трясущимися руками, не помнящий себя он стоял напротив матери и не знал, что делать дальше. – Не смей меня бить больше. Не трогай. Я уже большой. Я вырос.
– Вижу, что вырос, – с грустью подвела черту под их разговором мать, и отвернулась.
– Хорошо, что мама не прочла сочинение дальше, – успокоил себя Сережа. – Иначе она вспомнила бы и расстроилась еще больше. И стала бы меня дальше ругать.
Сказал так, будто она прекратила в тот вечер ругань. Вспомнила бы. Ведь он слово в слово описал их с матерью возню перед телевизором. Не в силах сдержать в себе правду, правдивость истории, вначале расписав радужными красками идиллию их отношений с матерью, свое послушание и романтическую картину укладки его в постель. Показательная работа отличника третьего класса.
Сочинять для него значило описывать факты, имевшие место быть на самом деле, приукрашивать их, но не слишком отдаляясь от истины. «Врать не хорошо», учили его с детства. И это он усвоил, как «отче наш». Как какой-нибудь семинарист, прилежно выучивший молитву и весь, полностью, преподанный ему святой урок.
Мать все-таки выключила телевизионный приемник, убрав из зоны досягаемости зрения Сережи полыхающий экран. Она настояла на своем и в очередной раз показала сыну свою силу, к тому же доказала, что спорить с ней – все равно, что биться головой о стенку. Или об линзу кинескопа.
– Ах так, – возмутился и загорелся Сережа. – Тогда я вообще не лягу спать.
– И что: будешь всю ночь сидеть сиднем на постели? Голый, в одних трусах и майке.
– Зачем голый, – не унимался маленький Робеспьер. – Вот, сейчас надену штаны и рубашку, – сказал Сережа, – и сяду у окна. Ты все равно рано или поздно уснешь, тогда-то я и включу.
– Я тебе включу, – мама дернулась к ремню, но вспомнила про опрометчивость намерения и крикнула – время было позднее, но она все-таки крикнула («Пусть соседи слышат и узнают, какой у меня сын!»): – Если так, то иди в угол, а не к окну. Непослушным там место.
– Не пойду я в угол, не маленький.
– Тогда совсем уходи из комнаты.
– Я на улицу пойду. Буду ходить там до утра.
– Иди куда хочешь. И можешь не возвращаться.
– И не вернусь.
– А куда ты денешься? Есть захочешь или замерзнешь, как миленький домой прибежишь.
Он бродил по полуосвещенному бульвару час или два, пока не продрог до костей в своей тоненькой ситцевой рубашке. Фонари у Грибоедова освещали ему проход в темной аллее. Деревья черными силуэтами возвышались с обеих сторон и покачивали кронами, как опахалами. Гравий шуршал и поскрипывал под ногами, забиваясь в промежутки дырчатых сандалий. Он месил чуть влажный от ночной сырости песок, покрывавший дорожку, и чувствовал пальцами ног в носках холод просеивающейся сквозь дыры в мысках слипающейся в комочки и разрушающейся тут же массы.
Сережа вернулся домой. И лишь выждав достаточное количество минут перед закрытой дверью, прислушиваясь к пронзительной тишине внутри – он посчитал, что времени должно хватить, чтобы мать уснула, – он посмел войти. Дверь оказалась незапертой, хотя мать всегда на ночь притворяла ее на щеколду. Быстро скинул одежду и юркнул под одеяло на старый продавленный отцовский диван. Последние пять лет он на нем спал… вообще жил, вместе со своей вечной спутницей: раскрытой на середке (начало он поедал, а конец проглатывал) и пристроенной на коленках библиотечной книжкой и жестким, набитым ватой валиком под мышкой для удобства чтения и лучшей усвояемости содержания.
5.
Затем обычный, как моцион перед обедом, нелицеприятный дневной обмен любезностями между родными людьми, у каждого из которых на свете никого ближе не было, переходил в иное состояние дискуссии – всплеск агрессивности:
– Что б ты проклят был! – не церемонилась мать. – Чтоб тебе не дна, не покрышки не было. – Сергей недаром упоминал о ее начитанности и эрудированности. – Что за ребенок мне достался. Знала б, никогда не согласилась рожать. Такого. Что ты за человек? Мать родную не любишь, об уважении уже молчу, не говорю. Смотри, бог накажет. Смертельно накажет. Больно будет.
– Что ты мне смертью грозишься? Я моложе… Ты еще раньше туда отправишься.
– Это мы посмотрим, кто кого переживет.
– Посмотрим, посмотрим.
– Как ты разговариваешь с матерью? Как тебе не совестно?
– А ты… что ты говоришь?
– Я – мать. Я имею право так говорить. А ты обязан слушать. И слушаться. Вот будут свои дети, их будешь учить. Поймешь, каково родителям, когда их чада огрызаются.
– Ты себя-то слышишь, понимаешь, чем грозишь?
– Я проклинаю тебя. Чтоб твоя жизнь сложилась не лучше, чем моя. Настрадаешься еще, погоди. С таким характером, как у тебя…
– Ты в своем уме, как можно проклинать родного сына? Ты что не мать мне? Чужая женщина?
– А ты вначале научись разговаривать с матерью, как все люди разговаривают. Уважительно. Тогда и с тобой будут на равных, по-доброму.
– Да с тобой нормально поговорить невозможно, такая же упрямая. Как и я. Яблоко от яблони.
– Как ты со мной, так и я…
– Ага, а что первым появилось: курица или яйцо?
– Не поняла.
– Ну, вечный вопрос: что начально? Ты меня родила, не я тебя. Значит, ты – первая, получай, как есть: какая ты, такой и я получился.
– Не ври. Я не такая. И не в меня ты вовсе. Я говорила и повторю: ты в отца пошел.
– Ага, как плохое – так его, а что хорошего – твоё.
– В тебе и хорошего ничего не осталось. Одна дурь наружу лезет.
– Спасибо, мамочка, на добром слове.
– Пожалуйста, приходите за добавкой.
– Вот и поговорили по душам. Вот и ладно. Как бальзама напился.
– Отец твой так всегда говорит.
«Или говорил?» – Сергей и не помнил, когда произошел этот разговор: до или после его смерти – смерти отца.
6.
Дикарев ехал в автобусе на овощебазу, где сгинул («сгнил поблизости») отец. Справа от дороги тянулось железнодорожное полотно: рельсы и шпалы отделяли лесок, выросший прямо на кладбище.
«Где-то там лежит отец. Почему меня всю жизнь сопровождают рельсы и шпалы? – запоздало подумал Сергей. – А ведь и исправить ничего теперь нельзя. Даже подкорректировать что-то, как в неудачный или выпадающий из канвы повествования текст. Поздно. Поезд ушел… „Она приходила на вокзал и нюхала воздух на перроне, исходивший от просмоленных шпал. Она не могла жить без этого запаха“, говорил о своей беременной жене Жека. Почему в голову пришли эти неуместные мысли?»
Он ни разу не посещал могилы отца. За всю свою жизнь ни разу. Не хотел ворошить прошлое? Страшился неприятных воспоминаний, или, наоборот, опасался неожиданных ностальгических слез? Когда тот умер, он был еще мал, и его не повели на погребение. Почему? Кто знает. Многое было ему неведомо, неподвластно уму, пониманию, его воле, не стыковалось с желаниями. А может быть, он и не хотел копаться в прошлом, потому что оно было ему «пофиг», безразлично, не оборотистая валюта по жизни, по современным понятиям. Почему и отчего, зачем его удерживали, не давали того, что другим разрешалось – ни того, ни этого? К чему все эти вопросы? Кому это нужно? Куда приткнуть, пришпилить все эти сведения, если узнаешь правду, истину, и разберешься в причинах такого своего отношения к памяти об отце?
«Воспитатели хреновы, – пронеслось в мозгу. – И на кой черт мне это теперь? Душевная обуза. Мрачные воспоминания. Скверное настроение, предопределенное на весь последующий день от одного только обращения в сторону прожитых – давным-давно – лет».
7.
С пруда взлетел лебедь. «Или она, самка, взлетела? А может, это был орел? Альбинос. Тот же цвет, только в профиль. Ну уж, не петух и не курица, это точно. Я вам это говорю». А с чего вдруг, спрашивается: такая непростительная для повествователя с претензией на достоверность и историчность описываемых событий девиация в определении вида, подвида, класса пернатого? Вполне резонный вопрос, однако, на который тому же застенчивому и не в достаточной степени образованному рассказчику (докладчику) непросто будет дать не то что научный, а даже любой подходящий, устраивающий читателя ответ. Потому и не будем его мучить напрасно.
– А всё потому, что взлетела птица очень высоко в небо («почти как у Ваенги»). Да и вообще, было ли, не было ли этого абсурдного взлета, вот еще один вопрос из вопросов (or not to be)? – спрашивал себя полуслепой от подступивших слез престарелый Дикарев (вот кто оказывается тот настоящий путаник-сочинитель!). – Сей факт эта немного-немало странная, невразумительная, с элементами шизоидной патологии история умалчивает. Эта мучительная – вымученная, будто в муке ее изваляли, или в муках?! – история, которую который год рассказываю… в большей мере себе, нежели кому-либо еще, будто не веря себе же, в себя, которую, обманывая и обманываясь, пишу урывками по ночам, а иногда и украдкой днем, выжала меня всего от макушки до пят, как мочалку. И капли во мне не осталось: не капает уже с меня – иссох до состояния мумии.
«Взметнулась она, – писал Дикарев теперь в ноутбук, – эта пародия на птицу, гибрид, а не птица, скорее даже гермафродит, чем реальная особь какого-либо пола, взметнулась она ввысь почти ровно по отвесу, только в обратном направлении – от груза, а не к нему. Как будто избавилась от него, облегчилась и как ракета выстрелила: действие равно противодействию, законы Ньютона, прочая фигня раздела физики. Как если б кто-либо сумел, умудрился б перевернуть вверх тормашками весь мир, с ног на голову, наоборот, наизнанку, шиворот-навыворот, лишив его, мир, к тому же, вдобавок ко всему остальному сумасбродству, привычных законов гравитации. Хищная птица падает камнем, а тут, будто прокрутили („набедокурили“) в ускоренном режиме видеофайл в обратную сторону. И тут же чудилка, один-в-один копия с карикатур кукрыниксов, скрылся… скрылась из виду через скоротечную минуту – превратилась в точку, растаяла в синеве, будто чернильная клякса впиталась в промокашку. Чудеса, да и только!»
Маша крыльями, она улетала на запад. Или махая? Еще один извечный вопрос, который сгубил отношения Дикарева с Ольгой Книпер, как впрочем, и вся масса вопросов, задаваемых им на каждом шагу: себе, другим, риторически, не требуя ответа. Она улетала туда, где всё дышало холодом и негостеприимностью запредельных государств. Этого Дикарев уже не видел, это он дофантазировал, досочинил. Он все домысливал (иногда подмасливал, иногда затушевывал, как масть пойдет). Кажется, и жизнь свою и окружающих он выдумал, насочинял, приукрасил. Уж прошлое точно в его сознании было искривлено, как в призме. А настоящему и будущему еще предстояло кардинально измениться.
Птица направлялась к цели своего путешествия, преодолевая расстояния от начала до конца и длиною в тысячи километров безропотно и смело. Если не отчаянно. Этот инстинктивно угадываемый, не зарисованный – даже пунктиром на карте – маршрут передвижений был в ее кругленькой, крохотной головке соразмерно и смехотворно мал. И избавлен от видимых картографических препятствий, а также забот во время воздушного рейса: самолеты, баллистические ракеты, атомные грибы испытаний вдали от атоллов и вообще любых островов. Всё это ничуть не мешало её пути – следованию над участком суши, над материком. Даже погодные условия ее ничуть не беспокоили.
Внизу проносились, как в короткометражном кино, черно-белые пейзажи – ей некогда было их разукрашивать в цвета. А может, птицы вовсе не различают цветности? Интересно, доказано ли это, или противоположное, учеными. Во всяком случае, ему, Дикареву, это неизвестно, а значит, и он в своих суждениях отталкивался от сего факта. И еще был уверен в одном: что им некогда. Эти картинки были всего лишь мимолетными кадрами путешествия, которые птица смахивала, стирала взмахами своих крыл, даже не соизволив удостоить вниманием сверху вниз эти неземные, потому что приземленные, ландшафты. Она смотрела только вперед, на запад. Что творилось внизу, на земле, ей было все равно. Она спешила.