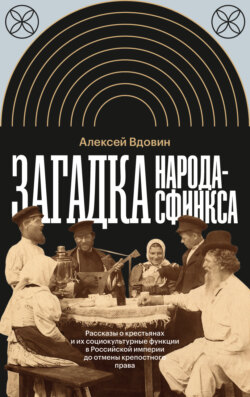Читать книгу Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Вдовин - Страница 17
ЧАСТЬ 1
Жанр, субъектность, когнитивная нарратология: теоретические пролегомены
Глава 1
Жанровая критика и соблазны модерности
Пастораль, идиллия, антиидиллия
Пастораль, идиллия и рассказ из крестьянского быта в России до 1861 г
ОглавлениеПоначалу в России доминировала сентиментальная пастораль, которая могла воплощаться в сюжетах о соперниках, разлуке, соблазнении, внезапной смерти возлюбленной и запрете на брак. С 1772 по 1814 г. из печати вышло как минимум 13 текстов; большинство варьировало типично пасторальные сюжеты, преломленные через призму сентименталистской эстетики и идеологии, где пастушеское преобладало над каким-либо национальным колоритом, характерным для модуса идиллии. Патриотический подъем войны 1812 г. изменил этот чувствительный ландшафт.
Россия быстро перенимала от Европы достижения националистической идеологии, воплощенные в том числе в жанре трансформированной под нужды национального возрождения идиллии. Как известно, немецкий извод национализма оказал на русскую культуру особо заметное воздействие98. Полемики 1810–1820‐х гг. о создании жанра русской идиллии могут быть поэтому органично и естественно вписаны в этот панъевропейский контекст. Во время и после войны 1812 г. на волне национального подъема и эскалации патриотизма, повлекших за собой полноценные визуальные и дискурсивные артикуляции русскости99, словесность искала формы, жанры и язык для формулирования новой национально ориентированной повестки. Неудивительно, что такие жанры, как поэма, эпос, баллада и, конечно же, идиллия, рассматривались и авторами, и критиками в первую очередь с точки зрения их потенциала транслировать национальную проблематику100. В 1810‐е гг. сельский деревенский быт еще редко выступал ресурсом и материалом для такой национализации, поскольку целиком был территорией экспансии карамзинистов и их сентиментальной эстетики. Дискуссии середины 1810‐х гг. и отдельные опыты В. А. Жуковского (перевод из И. П. Гебеля «Овсяный кисель»), П. А. Катенина («Наташа», «Убийца», «Леший» и др.) и Ф. Н. Глинки оказались этапными в этом отношении.
В 1818 г. Ф. Н. Глинка создает одну из первых сельских идиллий с более национализированным колоритом – «народную повесть» «для сельских чтецов» «Лука да Марья»101. Фабульный конфликт сведен у Глинки к пьянству крепостного крестьянина Луки, которое разрушает мирную идиллию удачно заключенного брака между ним и горничной Машей. Характерно, что причины пьянства у Глинки этнически и социально конкретизированы: споил Луку не кто иной, как «некрещеный жид Янкель», переселившийся в имение князя из Польши и открывший здесь кабак. Лука исцеляется от недуга так же внезапно, как и впадает в него: в одно прекрасное утро, после очередной попойки и пьяного угара, он просыпается в сарае, кается и клянется Марье и детям, что больше никогда не будет пить. Сельская идиллия восстанавливается, а счастливый финал повести укрепляет читателя в мысли, что никаких внутренних и неразрешимых конфликтов и противоречий в барских поместьях у крестьян нет, а русский мужик хотя и склонен к запоям, тем не менее внутренне благороден и богобоязнен. В главах 12 и 13 мы подробно рассмотрим этот тип сюжета, названный нами «Искушение». В жанровом отношении он не имеет ничего общего с идиллическим модусом, однако, в отличие от более поздних версий этого сюжета об искушении крестьянина (бесом, вином, страстью), в повести Глинки еще можно различить черты патриархальной идиллии, как и откровенно дидактического текста, которые в 1840‐е гг. будут писаться для «народного чтения».
Второй образец «народной повести» этого периода – «Иван Костин» В. И. Панаева (1823) – представляет собой гораздо более удачную и влиятельную попытку воплощения русского крестьянского характера в прозе, поскольку, как можно предполагать, сознательно писался автором в соотнесении с жанром идиллии. Прагматика повести будет лучше понятна в свете взглядов Панаева на природу и задачи избранного им жанра.
В предисловии к сборнику «Идиллии» (1820), наследуя ренессансной традиции, Панаев констатировал, что «не одни пастухи могут быть действующими лицами» сочинений такого рода: «ими равно бывают рыбаки, земледельцы, садовники и т. п.»102. Отсюда и возникает расширительное именование поэзии «сельской». Выйдя на такой метаописательный уровень, Панаев не может не упомянуть «сельские драмы и романы» («Верный пастух» Дж. Гварини и «Дафнис и Хлоя» Лонга), которые он называет «незаконными детьми воображения», поскольку они утомительны из‐за своей длины, а самое главное – «обезображены еще соединением сцен городской и деревенской жизни»103. Дальнейшие рассуждения Панаева целиком посвящены жанру сельской идиллии (эклоги и поэмы он оставляет в стороне), являясь, как установил В. Э. Вацуро, парафразом мыслей С. Гесснера из предисловия к сборнику его идиллий и, добавлю уже от себя, отбрасывая Панаева в дошиллеровские времена104. Невозможность «переселить идиллию в наши времена», по Панаеву, вызвана тем, что рабство сделало нынешних «пастухов и земледельцев грубыми и лукавыми», отчего идиллия утратила бы свое правдоподобие. Представления о нем у Панаева отличны от более позднего и привычного нам реалистического типа правдоподобия, основанного на миметическом сближении изображаемого предмета с физической реальностью: так, выгода отнесения действия во времена Аркадии, по Панаеву, «делает повествование и свойства лиц правдоподобными» и увеличивает возможности «мифологического вымысла»105. Такая логика может показаться странной, поскольку предполагает, что эффект правдоподобия возникает ровно и только в тот момент, когда жанровые конвенции в репрезентации персонажей идеально совпадают с тем социокультурным контекстом, в котором когда-то возникли. Невинность, чистота нравов и нежные благородные чувствования (обязательно любовные: «язык пастухов есть язык сердца»106) – вот жанровые константы идиллии, которые входят в противоречие с современностью и, главное, характерами современных крестьян, хотя Панаев вслед за Гесснером все-таки не отрицает теоретической возможности для умного и наблюдательного писателя обнаружить у современных «поселян новый источник красоты». Впрочем, эти возможности остаются для Панаева сугубо умозрительными, в том числе потому, что современный человек удалился от природы в светскую или бюрократическую жизнь.
Вацуро считал «Ивана Костина» «теоретическим введением в народную идиллию», т. е. органически связанным с жанровыми экспериментами Панаева в стихотворной речи107, хотя справедливее видеть в повести скорее послесловие к ним. Вацуро, впрочем, проницательно уловил сложную связь между опрокинутой в золотой век эстетической программой «Идиллий» и бытописательной остросюжетной новеллой-анекдотом – двумя жанрами, в которых Панаев больше всего писал в конце 1810‐х – 1820‐е гг.108 «Иван Костин» соединяет обе линии панаевского творчества в экспериментальный текст со сложными психологическими мотивировками и конфликтом, принадлежащим изображаемому быту109. Элементарный сюжет «Запрет на брак», положенный в основу конфликта, обставлен многочисленными осложняющими обстоятельствами. Каменотес Иван, заработавший в Питере 2000 рублей ассигнациями, возвращается в родную деревню и влюбляется в Дуню, дочь богатого и корыстного старосты. Сватаясь к ней (она отвечает взаимностью), Иван наталкивается на сопротивление старосты, который прочил дочь в жены волостному писарю, но, узнав, что у Ивана есть капитал, соглашается на брак. Костин возвращается в Питер завершить дела, но внезапный рекрутский набор, под который попадает муж его сестры, рушит эти планы. Иван на все сбережения покупает рекрутскую квитанцию и освобождает зятя. Оставшись в Питере, чтобы возместить утрату накоплений, он так же внезапно, через генерала, у которого работает, получает благодарность от самого государя, который награждает его теми же двумя тысячами за благородный поступок. Костин на радостях возвращается в деревню, но староста уже выдал дочь за писаря. Напившись в кабаке, Иван уходит скитаться, пытаясь забыться в работе.
Панаев сделал следующий после Карамзина шаг в направлении дальнейшей спецификации бытового материала и прорисовки этнографического контекста. В отличие от «Бедной Лизы», крестьянский быт которой больше напоминает пасторальные декорации и лишен каких бы то ни было маркеров деревенскости, отделенной от Москвы, Панаев позаботился об этнографических деталях, которые рассыпаны и в тексте, и в сносках, поясняющих образованному читателю смысл таких простонародных феноменов, как «посиделки» или «божница». Впоследствии многие авторы рассказов из крестьянского быта, включая Тургенева и Григоровича, будут часто прибегать к этому простому, но функциональному приему.
Точность географических (в Н-ской губернии без труда угадывается Новгородская) и социальных реалий (рекрутский набор, выкупные квитанции) тем не менее обесценивается двумя свойствами повести, которые жестко привязывают ее к идиллическому модусу письма. Прежде всего это полное игнорирование крепостного права (вспомним, что идиллия, по Панаеву, невозможна при современном рабстве): Иван и другие крестьяне как будто ничего не знают о рабстве, они свободны, ограничены же в своих действиях только рекрутским набором по указу государя, верой (все они набожны и ходят в церковь) и патриархальной этикой (Дуня смиренно подчиняется воле отца, хотя он много раз назван корыстным). Единственными источниками насилия в повести оказываются государство и патриархальные обычаи отцов выдавать дочерей замуж не по их воле.
Вторая особенность «Ивана Костина» – чудесное вторжение в сюжет повести, как deus ex machina, монаршего благоволения в виде 2000 рублей, которые одновременно и решают проблему Костина, и усугубляют ее (он прибывает в деревню всего лишь две недели спустя после свадьбы Дуни, тогда как, проживи он дольше в Питере и вернись позже, отчаяние могло быть не таким сильным). Как можно предполагать, не очень правдоподобные повороты сюжета продиктованы, с одной стороны, пристрастием Панаева к резким контрастам, высвечивающим психологически сложные ситуации, а с другой – страстным желанием во что бы то ни стало подчеркнуть благородство русского мужика, русской крестьянки и – государя. Иван и Дуня – характеры почти идеальные, лишенные внутренних противоречий (один поход в кабак не в счет). Иван – прекрасный работник, заработавший трудом гигантскую сумму и выучившийся в Питере грамоте, мечтающий записаться после свадьбы в мещане. Дуня «богомольна, рукодельна, приветлива, добросердечна»110. Единственный противоречивый персонаж повести – корыстный староста Борис, отец Дуни, да состоящий с ним в сговоре завистливый и пронырливый писарь. Никаких иных проявлений социального зла мы не встречаем.
Сказанное позволяет прочитывать «Ивана Костина» как разрушенную идиллию: благоприятное течение событий, ведущее к свадьбе, внезапно прекращается, но потом благодаря вмешательству государевой милости восстанавливается, чтобы разрушиться в финале снова. Любовная идиллия Ивана и Дуни навсегда утрачена. Как говорит Дуня, они встретятся «по втором пришествии». Финал повести открыт: Иван скитается, и нарратору остается лишь надеяться на его возвращение к прежней благодетельной трудовой и нравственной жизни.
Другие жанровые эксперименты 1820‐х гг., связанные с поиском форм, адекватных новой национализирующей эстетике, были связаны со сменой «предмета» при сохранении внешней жанровой «рамы», как писал Н. И. Гнедич в предисловии к своим знаменитым «Рыбакам» (1822). Как известно, принципы изображения русского народного быта в его идиллиях оказались увязаны с гомеровским эпосом. Аналогичным путем шел А. А. Дельвиг в «русской идиллии» «Отставной солдат» (1829), где встреча возвращающегося с Отечественной войны в Курскую губернию солдата подается как вергилиевский разговор с пастухами у костра и одновременно, за счет ретроспективы, приобретает национальный масштаб, так как повествует об окончании войны и взятии Парижа русской армией (буквально по теории Альперса). Таким образом, разработка новой формы шла в целом в том же русле, что и синтезирование идиллии и эпоса в творчестве Гете 1790‐х гг., хотя произведений, сопоставимых с «Германом и Доротеей», в эти годы в России не появилось.
Окно возможностей для национальной идиллии стремительно закрывалось. Уже в самом конце 1820‐х гг. в рамках новой романтической эстетики появляются тексты, созданные литераторами недворянского происхождения и дискредитирующие или по крайней мере подрывающие незыблемую ценность идиллического модуса. По-видимому, первым таким новаторским текстом стала «народная быль» выходца из купцов Н. А. Полевого «Мешок с золотом» (1829, переработано в 1834), которая является антиидиллическим поворотом в русской прозе о крестьянах, хотя и заканчивается хеппи-эндом в виде счастливой свадьбы. Тем не менее новый повествовательный голос бойкого журналиста, ориентированный на устную интонацию, позволил Полевому остранить сентименталистски гладкий стиль и проблематизировать жанр идиллии, только-только утвердившийся в литературе 1820‐х гг.:
Признайтесь, что читателю идиллий розового романиста русская деревня кажется недостойною красок и лиры, а розовое описание – просто враньем?
Крестьянки русские – не пастушки аркадские, но как часто вы увидите на щеках их розы, в сердце найдете сильные страсти, услышите от них речь умную и смысленную. Подите в деревню вечером, в праздник, когда хороводы их, издалека видимые, пестреют на зелени луга: до сердца русского долетят звуки их родной унылой песни; они напомнят ему безвестную красавицу, погибшую от любви к милому другу, доброго молодца, который не пережил красной девицы… Нет, друзья мои, я знаю русских крестьян, я живал, говаривал с ними, просиживал вечера в их беседах, в их хороводах, слыхал многое, что западало мне в душу и оставалось в памяти. У них свой мир, свои поверья, свой ум, свои недостатки и добродетели. Дай мне перо Ирвинг, Цшокке, я рассказал бы вам много, много такого, что стоило бы рассказа о наших городских красавицах, швейцарских пастухах и шотландских горцах. И как мне жаль, что я не могу изобразить вам настоящего быта русских крестьян, их жизни, нравов и обычаев! И в деревнях так же горят страсти, так же любят, так же бывают счастливы и тоскуют, как в белокаменной Москве и в позолоченном Петербурге. Там есть свои богачи, свои бедняки…111
В этом металитературном введении к повести Полевой затрагивает все ключевые проблемы рассказов о крестьянах, выходя далеко за рамки лишь упоминаемых здесь пасторали и идиллии. Во-первых, он откровенно заявляет, что «мы не знаем русских деревень», что в контексте 1820–1830‐х гг. было аналогично позиции ультраромантиков Марлинского или Белинского, заявлявших, например, о том, что у нас нет критики или «нет литературы». Во-вторых, позиция говорливого Полевого колеблется между утверждением о самобытности и инаковости крестьян («у них свой мир, свои поверья, свой ум, свои недостатки и добродетели») и – через несколько предложений – обратным утверждением, что страсти, радости и горести жителей Петербурга и отдаленной деревни идентичны.
В сюжетном отношении «Мешок с золотом» на первый взгляд повторяет многие перипетии «Ивана Костина» (вплоть до упоминаемых сумм: две тысячи вознаграждения получает Иван от государя, а Ванюша – от купца за обнаружение пропавшего мешка). В обоих текстах любовь и будущий брак молодых оказываются под угрозой из‐за внезапного обеднения (хотя и по разным причинам). Оба героя отправляются на заработки в Питер (один – каменотесом, другой – извозчиком) и там же почти чудесным образом обретают искомое богатство, чтобы вернуться в родную деревню и сочетаться браком с возлюбленной. Исходные ситуации все же различны: если в «Иване Костине» герой сватается и в итоге получает запрет на брак, то у Полевого до сватовства дело не доходит. Интригу запускает богатый соперник – Москвич, как он назван в повести, который соблазняет Груню и уговаривает ее отца выдать девушку за него. Поэтому элементарный сюжет «Мешка с золотом» правильнее будет описать как «Соперники».
Полевой существенно дальше Карамзина и Панаева продвинулся в развитии темы социального и культурного антагонизма между городом и деревней. Помимо того что соперником Ванюши становится не кто иной, как Москвич, вобравший в себя все негативные стороны городского образа жизни, повествователь разражается своего рода проклятием большому городу – Москве, который не вызывает в мигрантах из провинции ничего кроме меланхолии и глубокой фрустрации:
Какое-то унылое чувство ощущает человек, вырванный из мирного уголка и брошенный в море большого города, особливо пестрой Москвы. Не зная еще ее, он составляет себе понятие по-своему, видит ее, перемешивает свое понятие с видимым; обширность давит его воображение; сближение крайностей – обыкновенная участь больших городов – изумляет его взоры, и первое чувство после того – унылость, отчуждение от нового местопребывания, воспоминание о старом, знакомом уголке, где каждая травка как будто родная, каждый человек знаком с детства, и солнце светит веселее, и хлеб слаще! Тут жестоко страдает и самолюбие человеческое, когда пришелец видит себя для всех чуждым. Нет ему ни слова, ни привета: он один, один и чувствует это одиночество: не для него все живет и движется вокруг, всякий занят своим, спешит, идет мимо пришельца, его никто не знает, когда прежде утром встречало его ласковое слово родного и на каждом шагу привет знакомого112.
Нагнетание зловещей атмосферы вокруг Москвы и вообще большого города подготавливает у Полевого второй микросюжет, который вплетен в повествование и составляет своего рода вторую кульминацию. Речь идет об элементарном сюжете «Искушение», чрезвычайно популярном в литературе о крестьянах (см. об этом в главах 8 и 12).
Вхождение жанра идиллии в кризисный период отразилось и на толковании соответствующего понятия в пособиях по теории словесности и поэтике. Современная исследовательница судьбы жанра в русской литературе так резюмирует эволюцию семантики понятия в руководствах 1820–1870‐х гг.:
Таким образом, основными понятиями в риториках 1820–1870‐х гг. являются пастушеская поэзия, идиллия и эклога, семантически рассматриваемые как синонимы. Большинство авторов риторик относят эклогу к драматическому и эпическому родам, идиллию – к лирическому. Разноголосица в терминологии, а также отнесенность идиллии к тому или иному роду, в сущности, свидетельствуют о том, что авторы риторик отказывают идиллии в четких стабильных формах, фиксируют общность жанровой содержательности смежных с нею понятий, как бы опосредованно удостоверяя факт ее жанрового угасания. Жанровая размытость идиллии создает предпосылки ее перехода в эстетическую категорию, на что обращает внимание Давыдов, вводя понятие идиллического настроения как зажанровой проекции113.
Это еще одно – из сферы тогдашней теории – подтверждение тезиса о постепенном превращении идиллии из жанра в жанровый модус. В критике 1840‐х гг. мы также находим случаи переосмысления понятия. Так, В. Н. Майков в статье для «Карманного словаря иностранных слов» (1845) фиксирует определение и понимание идиллии, характерное для позитивистского и отчасти социалистического узуса (Майков был близок к кругу М. В. Петрашевского):
Поэтическое произведение, имеющее предметом своим изображение быта людей, не вышедших еще из естественной простоты, из оков природы. В прошедшем столетии и в начале нынешнего в идиллиях обыкновенно выводились мечтательные лица, пастушки и пастушки так называемого золотого века. Однако ж эти лица разговаривали и действовали как маркизы блестящего двора Людовиков. Само собою разумеется, что такого рода произведения отжили свою эпоху: мечта о золотом веке разрушена, – мы знаем уже, что первобытное состояние человека есть состояние грубости и жестокости. Поэзия нашего времени, держась истории и действительности, не пускается более в мир ложно истолкованных басен. Но так как и всегда можно найти людей, находящихся еще под владычеством природы, то самый предмет идиллии не может исчезнуть: мы называем этим именем всякую сцену из жизни людей, не освободившихся из оков первобытного неразвития114.
Майков, таким образом, следуя, в сущности, шиллеровской традиции, расширяет предметную сферу идиллии до изображения любых людей, уклад жизни которых отстает от темпов развития цивилизации. Примечательно, что Бутурлинский комитет, учрежденный 2 апреля 1848 г., нашел предосудительной и вредной даже эту статью115, очевидно, потому, что содержащееся в ней описание первобытного состояния читалось цензорами как прозрачное указание на крепостное право.
По сути, словарная статья Майкова фиксировала новый всплеск интереса к идиллии в России 1840‐х гг., но уже в совершенно новом контексте – французского утопического социализма116. Трансфер утопического и филантропического дискурса из Франции в Россию привел к появлению, а затем и к популярности в публицистике и прозе особого стиля и типа репрезентации, получившего благодаря А. А. Григорьеву название «сентиментальный натурализм»117. Утопическое воображение оперирует четким идеалом свободы, равенства и братства, перемещая его из прошедшего «золотого века» в неопределенное будущее, даже если идеал этот и недостижим. Обостренный интерес русской литературы середины 1840‐х гг. к утопическому социализму воплотился в повышенном внимании к наиболее бедным и обездоленным из крестьян – крепостным (барщинным), а не только к государственным или оброчным. Реактуализация некоторых маркеров сентиментального режима репрезентации вызвала к жизни старые жанры – идиллию, пастораль, роман в письмах.
Жанровым и дискурсивным образцом для русских писателей в этом отношении стал цикл сельских повестей Жорж Санд «Чертово болото» (1846), «Франсуа-найденыш» (1848), «Маленькая Фадетта» (1849), а также чуть более ранний роман «Жанна» (1844)118, где утопические программы поведения были упакованы в идиллический сельский хронотоп и пасторальный антураж119. Сельские романы Санд оказали мгновенное и ощутимое воздействие на сюжеты, пейзажный стиль и идеологию русской прозы конца 1840‐х – начала 1850‐х гг., причем не только о крестьянах120. Критика же очень быстро, еще до цензурного «железного занавеса» 1848 г., успела осмыслить социалистический и филантропический потенциал сельских идиллий Санд для «перезагрузки» жанра. Так, переводчик и критик А. И. Кронеберг писал:
«La Mare au diable», «Чертово болото», – идиллия.
Идиллия! Когда-то при этом слове перед вами вдруг обрисовывалась готовая, чуть не стереотипная сцена: пастушок в белой батистовой рубашке, голубых панталонах с розовыми бантиками и со свирелью в руке; возле него пастушка в соломенной шляпке, с невинным барашком на атласной ленте. <…>
Уж и то шаг вперед, что самый бесстыдный писака не осмелится теперь изобразить крестьянина в атласном кафтане. Это значило бы или смеяться над тем, что достойно уважения, а не насмешки, или выказать едва ли возможное в наше время невежество.
А ведь была же пора, когда сахарными идиллиями восхищались как истинною поэзией, не подозревая, что истинная поэзия и поэтическая истина одно и то же. Да и кому была охота добираться до истины? Раздушенные маркизы и богачи едва ли подозревали существование простого бедняка. Его быт, его образ мыслей, чувства, привычки, нужды, все это было для них совершенная terra incognita. Простой человек был для салона миф, а услужливые поэты вывели его на сцену в своих произведениях как миф из золотого века Аркадии. <…>
Прежде государственная жизнь сидела взаперти, в кабинете, а литература в другом; народ был в поле, – но и он был взаперти. Теперь все перемешалось: политика перешла на площадь, в кабинете министра и литератора невидимо присутствует народ и кабинетные люди очень ясно сознают это присутствие.
То, что прежде считалось несообразностью, эстетическим цинизмом, оскорблением тонкого вкуса, – воспроизведение действительности так, как она есть, теперь сделалось необходимостью, неизбежным фоном всякой картины121.
Критика старой идиллии у Кронеберга целиком воспроизводит мнение Белинского: «Тогда непременно хотели, чтобы идиллия воспевала жизнь пастухов в дообщественный период человечества, когда люди (будто бы) были невинны, как барашки, добры, как овечки, нежны, как голубки. Приторная, сладенькая сентиментальность, растленное, гнилое чувство любви, лишенное всякой энергии, составляли отличительный характер этой пастушеской поэзии»122. Однако дальше критик высказывается вполне оригинально.
Говоря о существенном расширении зоны реальности, которая теперь в любом виде, без изъятий, может стать эстетическим объектом, Кронеберг прежде всего имел в виду повсеместную в европейских литературах демократизацию стиля и наблюдаемого материала, а проще говоря – интенсивное развитие реалистического типа письма. Далее, он постулирует резкое возрастание роли «народа» в истории и социальной жизни, констатируя его возросшую агентность. Наконец, критик диагностирует существенный сдвиг в репрезентации простонародья, которое теперь, под пером Санд, якобы освобождается от господствовавшей на протяжении столетий мифологизации и предстает «как есть», в подлинном свете: поэтическая истина и истинная поэзия оказываются одним и тем же123.
Из-за ужесточения цензуры во время «мрачного семилетия» вплоть до конца 1850‐х – начала 1860‐х гг. намеченная Кронебергом трактовка обновленных социальных функций идиллии была надолго похоронена. Вместо нее в критике 1850‐х гг. возникла другая.
Экспоненциальный рост в начале 1850‐х гг. числа ежегодно публикуемых новых рассказов из крестьянского быта не мог не привести к всплеску внимания критики не только к самому феномену, но и к его жанровому измерению, которое продолжало ассоциироваться с идиллией. Так, например, автор «Обозрения русской литературы за 1850 г.» в «Современнике» В. П. Гаевский считал, что рассказ Григоровича «Четыре времени года» (1849) – «прелестная идиллия в прозе, едва ли не более удачная, чем все стихотворные попытки прежних времен»124. Такого же мнения об этом рассказе Григоровича придерживались и критики молодой редакции «Москвитянина» Е. Н. Эдельсон и А. А. Григорьев, считавшие, что «идиллическая форма так идет к воспроизведению нашего простонародного быта»125. К слову, подобный взгляд на творчество Григоровича продержался долго – вплоть до начала 1860‐х гг. и отразился, например, в рецензии М. Ф. Де-Пуле на собрание его сочинений126.
Лишь в 1854 г. совершился переворот: в статье «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» П. В. Анненков решительно дискредитировал жанровый термин «идиллия», противопоставив его более современному понятию «идеализация», лишенному жанровой памяти (см. об этом в главе 4). По сути, Анненков спустя полвека после Шиллера совершил ту же операцию по семантической адаптации старого жанра к новым эстетическим и социальным реалиям за счет расщепления старого понятия на два – устаревшее и актуальное. Однако, в отличие от Шиллера, Анненков позаботился о наименовании второго, ассоциировав идеализацию с реализмом:
Со всем тем, идиллия не есть изображение всякого предмета с его поэтической стороны, а наоборот – есть усилие достичь поэзии без действительного предмета в основании. <…> Ближайшее знакомство с делом и развитие творческих сил вытесняют мало-помалу идиллию, замещая ее бесплодную фантазию, летающую в пространстве без возможности спуститься вниз и остановиться на чем-либо, той поэтической идеализацией, которая не выдумывает предметов, а только обнаруживает их настоящий смысл, их настоящее значение. Идеализация, правильно понятая и художественно выполненная, совпадает таким образом с реализмом… <…> Идиллия, однако же, не исчезает даже и с появлением художественной идеализации. Всякий раз, как встречаются у автора пробел, сомнение, темный вопрос, показывается идиллия и вступает опять во все права свои. Она служит готовым балластом для наполнения тех пустых мест, которые остаются от недостаточности положительных сведений, от невозможности отыскать истинную причину события и истинные последствия его, а наконец – от стремления к поэтическому освещению предмета, когда не найдено ему внешнего освещения под рукой127.
По Анненкову, идиллия как жанр целиком принадлежит прошлому, поскольку представляет собой пустую структуру, балласт, который автоматизировался и используется для рутинного описания сельской жизни, когда автору недосуг серьезно вникать в тему и проблематизировать ее. При этом идиллия никуда не исчезнет и всегда будет возникать у тех авторов, кто плохо ориентируется в народном быте или не желает работать в реалистическом ключе128.
Таким образом, к середине 1850‐х гг. в русской критике наконец происходит принципиальное отмежевание от классического жанрового понятия «идиллия» в пользу более современных метажанровых категорий типа «идеализация» или экзогенного определения «рассказ из крестьянского быта»129. В отличие от классической пасторали, в чистом виде исчезающей к 1820‐м гг., идиллия как жанровая категория оказалась в России гораздо более живучей и превратилась в жанровый модус к 1850‐м гг., хотя само понятие не было предано забвению и продолжало использоваться, приобретя коннотации архаического и устаревшего жанра.
Вымирание классической, ориентированной на античные декорации идиллии как «твердого» жанра с присущими ему формально-содержательными параметрами происходит в 1830‐е гг., когда утверждается протореалистический эстетический режим, в котором корреляция между жанром, стилем и материалом больше не играет структурообразующей роли. В социологической перспективе идиллия постепенно утрачивает свой потенциал формально-эстетически разрешать противоречие между культурной элитой и простонародьем, которое было осмыслено в категориях Шиллера и оставалось функциональным в первой трети XIX в. В 1840‐е и особенно 1850‐е гг., как мы увидели, эта эстетическая конвенция окончательно потеряла валидность и была переосмыслена в новых жанровых категориях «рассказа из крестьянского быта», обладавшего сильным антиидиллическим зарядом. Во второй части книги я подробно рассмотрю, как происходило формирование нового жанра и как именно он взаимодействовал с идиллическим модусом.
Итак, в русской культуре и литературе пастораль и идиллия с конца XVIII в. выполняли важную социокультурную функцию – сублимации социального напряжения и неравенства, вызванных крепостным правом. По точной формулировке К. Или:
Ложно идентифицируя себя с сельским простолюдином, привилегированный эстет помогал отвести от себя ассоциации с виной, вызванные кричащими контрастами в социальной реальности. <…> Пасторальная фантазия оказывалась полезной как бальзам для встревоженного «политического бессознательного» русского помещика130.
С точки зрения социального воображаемого и складывания национального сельского пейзажа, который является объектом изучения Или, объяснение выглядит вполне убедительным, однако стоит обратиться к литературной истории и жанру рассказа из крестьянского быта, как концепция теряет универсальную толковательную силу. В самом деле, если социальное напряжение между вестернизированным дворянством и сохранявшимся крепостным правом лишь нарастало, то, согласно описанной логике, оно должно было привести к еще большему расцвету и популярности идиллий и пасторалей среди образованной элиты. Однако этого не произошло. Тот же исследователь справедливо отмечает, что пасторальная чувствительность не столько вымерла, сколько приняла новое обличье:
Универсалистские, внеисторические и эротические аспекты традиционной и неоклассической пасторали были отброшены, но сельская местность по-прежнему была связана с представлениями о нетронутой природе, простых и искренних человеческих отношениях, невинной юности. Такая интерпретация сельской России давала элитам воображаемый опыт очищения и пробуждения их врожденной чувствительности, которая, казалось, была утрачена в городской европеизированной среде, где они проводили большую часть времени131.
Наблюдение Или о широкой популярности трансформированных идиллических форм с конца 1840‐х до 1861 г. полностью подтверждается моими данными и отчасти объясняется разделяемым дворянской элитой переживанием «конца эпохи», утраты рая и золотого века в преддверии надвигающихся социальных катаклизмов132. Однако поэтизация крестьянского быта и миметическое желание элиты увидеть в зеркале другого, угнетенного сословия свое отражение, возвышенное их страданием, не могли возникнуть в середине века без принципиального эстетического сдвига внутри самого жанра идиллии. Причина заключалась не столько в том, что он превратился в жанровый модус (само по себе это еще не объясняет его востребованности), сколько в том, что внутри него произошла реструктуризация элементов и в результате возник новый жанр, генетически связанный с пасторалью и идиллией, но структурно отличный от них. Как я покажу далее, этот жанр рассказа из крестьянского быта вырос из пасторального и идиллического модусов, полемически отталкивался от них, но без них не был возможен и изобиловал скрытыми и явными отсылками к ним. В новом жанре трансисторичность идиллии и замкнутость пасторали в узком кругу сельского быта были преодолены за счет социальной конкретики и новых типов сюжета, в которых конфликт возникает на почве различных видов насилия (помещичьего, внутрисемейного, государственного), измены, антисоциального девиантного поведения (преступления), нарушения этических норм. Ничего этого традиционные формы пасторали и идиллии до 1840‐х гг. не знали.
Таким образом, как только мы дополняем эволюцию пасторали и идиллии в России второй четверти XIX в. новым жанром рассказа из крестьянского быта, с уникальной антиидиллической поэтикой и идеологией, становится понятно, что он отнюдь не сублимировал социальное неравенство и рабство, лелея дворянскую ностальгию по прошлому, а, напротив, благодаря новым сюжетам, конфликтам и нарративным техникам (см. часть 3), в текстах реформистски и оппозиционно настроенных авторов прорабатывал острейшую социальную проблематику – издержки и длительные последствия крепостного права, которое, как известно, невозможно было открыто критиковать в художественных произведениях как минимум до ослабления цензуры в 1856 г.
98
См.: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
99
См.: Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому».
100
См., например: Проскурин О. А. Поэзия Пушкина как подвижный палимпсест. М., 1999. С. 15–55; Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 118–138.
101
Насколько мне известно, это едва ли не первый в России прозаический текст двойной адресации – и для крестьян, и для образованной элиты, которая должна заботиться о благосостоянии своих крепостных. Глинка так обращался к читателям: «И смышлен и спохватлив русский человек, но иногда напускает на себя дурь и спивается с кругу. Вот о таком малом я и сочинил повесть» (Глинка Ф. Н. Лука да Марья. СПб., 1818. С. 1).
102
Панаев В. И. Идиллии. СПб., 1820. С. VI.
103
Там же. С. VIII.
104
Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма. С. 520.
105
Панаев В. И. Идиллии. С. XIV.
106
Там же. С. XVI.
107
Вацуро В. Э. Русская идиллия. С. 532.
108
[Вацуро В. Э.] От бытописания к «поэзии действительности» // Русская повесть XIX века. История и проблематика. Л., 1973. С. 207–208.
109
Там же. С. 209.
110
Панаев В. И. Иван Костин. С. 9.
111
Полевой Н. А. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 370.
112
Полевой Н. А. Избранные произведения и письма. С. 381.
113
Плечова Н. П. Идиллия в русской прозе 1840–50‐х годов. Дис. … канд. филол. наук. Псков, 2007. С. 26.
114
Майков В. Н. Литературная критика. М., 1985. С. 343–344.
115
Там же. С. 388.
116
Н. П. Плечова вплотную подходит к объяснению широкого распространения и популярности идиллического модуса в 1840‐е гг., но отсутствие социологической оптики не позволяет ей дать исчерпывающее объяснение (Плечова Н. П. Идиллия в русской прозе 1840–50‐х годов. С. 33–35).
117
См. об этом: Журавлева А. И. Ранние статьи А. А. Григорьева как источник книги В. В. Виноградова «Школа сентиментального натурализма» // Время и текст: историко-литературный сборник. СПб., 2002. С. 181–185.
118
Жанна в прямом смысле слова пастушка, так как пасет коров. Пасторальный роман Санд «Волынщики» (1853), хотя и был переведен на русский в 1854 г., уже не вызвал такого интереса.
119
См. об этом: Gramm M. The Politics of George Sand Pastoral Novels // George Sand Today. Proceedings of the Eighth International George Sand Conference – Tours 1989 / Ed. by D. A. Powell. N. Y.; Boston; London; Lanham, 1992. P. 167–179; Crummy M. I. Mythologizing the Peasant: Social Control in Honoré de Balzac’s Scènes de la vie de campagne and in George Sand’s Pastoral Novels: Ph.D. dissertation. Stanford University, 1992; и др.
120
См.: Holland K. Literary Contexts of Triangular Desire: Natalie and Alexander Herzen as Readers of George Sand // Russian Literature. 2007. Vol. 61. № 1–2 (January – February). P. 175–205.
121
Кронеберг А. Французская литература. Последние романы Жорж Санд // Современник. 1847. № 1. Январь. Отд. III. С. 87–88.
122
Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 3. М., 1978. С. 328.
123
Примечательно, что под пером позднего Белинского и Кронеберга Жорж Санд в своих «сельских романах» предстает если не как реалистка, то как протореалистка, в то время как во Франции эти произведения критиковались за идеализм и сентиментализм.
124
[Гаевский В. П.] Обозрение русской литературы за 1850 г. // Современник. 1851. Т. 25. № 1–2. Отд. III. Критика. С. 55–56. Сам автор в момент написания (1848–1849) характеризовал ее как «повесть в совершенно новом роде: опыт простонародной русской, сермяжной идиллии» (Письмо Д. В. Григоровича Н. Сатину // Русская мысль. 1902. № 12. С. 166).
125
Эдельсон Е. Н. Отечественные записки в 1850 г. // «Современник» против «Москвитянина»: Литературно-эстетическая полемика первой половины 1850‐х годов / Под ред. А. В. Вдовина, К. Ю. Зубкова и А. С. Федотова. СПб., 2015. С. 66.
126
«Картины г. Григоровича хороши потому, что они проникнуты тем идиллическим элементом, который должен составлять характеристическую особенность простонародных произведений» (Де‐Пуле М. Ф. Повести и рассказы Григоровича // Русское слово. 1860. № 3. Критика. С. 34).
127
«Современник» против «Москвитянина». С. 379.
128
Противопоставление идеализации и идиллии, скорее всего, восходит у Анненкова к Гегелю, который в «Лекциях по эстетике» опровергал мнение, «будто наилучшей почвой идеала является идиллическое состояние, так как в нем совершенно отсутствует раздвоение. <…> Какими бы простыми и первобытными ни были идиллические ситуации, <…> эта простота представляет столь малый интерес по своему подлинному содержанию, что не может быть признана истинной основой и почвой идеала» (Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Т. 1. С. 248).
129
Так, например, уже в 1860 г. в упомянутой рецензии на собрание сочинений Григоровича Де-Пуле оперирует анненковским понятием идеализации скорее в нейтрально-положительном смысле: «Ни одно произведение Григоровича не проникнуто такой идеализацией, местами натянутой, как „Рыбаки“. Изолировав своих героев от целого мира, поместив их на привольных берегах Оки, автор оторвался от простонародной почвы и дал свободный простор своей фантазии; художественно-картинная обстановка помогла идеализации» (Де-Пуле М. Ф. Повести и рассказы Григоровича. С. 36).
130
«In falsely identifying himself with the rustic commoner, in other words, the privileged aesthete helped to ward off associations of guilt brought about by glaring contrasts in real social conditions. <…> Pastoral fantasy proved useful as a balm for the troubled „political unconscious“ of the Russian landowner» (Ely C. This Meager Nature: The Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb, 2009. P. 44).
131
«The universalist, ahistorical, and erotic aspects of the traditional and neoclassical pastoral had been discarded, but the countryside was still connected to visions of unspoiled nature, simple and genuine human relationships, and the innocence of youth. This interpretation of rural Russia offered elites the imagined experience of a cleansing and reawakening to their innate native sensibilities, which seemed to have been lost in the urban, Europeanized environment in which they spent so much of their time» (Ibid. P. 124–125).
132
Такие причины популярности повестей о дворянском детстве предложил Э. Вахтель: Wachtel A. B. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford, 1990.