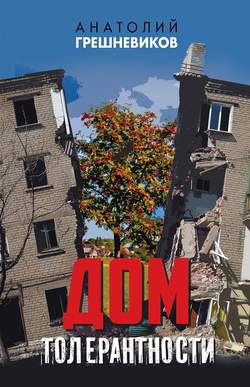Читать книгу Дом толерантности (сборник) - Анатолий Грешневиков - Страница 4
Толерантность
Роман
Глава третья
ОглавлениеВ кабинете Николая Степановича, развалившись на диване, сидели два журналиста и попеременно записывали в блокноты чужие мысли. Человек, из которого они вытаскивали, будто клещами, нужные слова, был Иван Никодимыч. Он с трудом вспоминал тот праздничный день, когда жители новостройки под звуки духового оркестра закладывали на территории своего двора небольшой парк. В голове роились события, фамилии… Рассказывать о каждом человеке, принявшем участие в посадке берез, ему особо не хотелось. Многих он не помнил, многих вообще не знал. И главное, он норовил поведать журналистам о неприятном допросе в полиции, о хамском поведении майора, запомнившегося еще с первой встречи. Но от него требовали воспоминаний…
Идея предать гласности покушение чиновников на парк принадлежала Николаю Степановичу. Журналистов искать не пришлось. Он поручил первую статью написать дочери Гале и зятю Виктору. У них это получилось быстро и профессионально. Уже на третий день появления бульдозера в парке в городской газете вышла критическая заметка. Вывернутые наизнанку неблаговидные дела местных чиновников задели их, они забегали по домам и квартирам с единственным желанием потушить скандал и договориться мирным путем.
Передышка оказалась недолгой. Чиновникам после встреч с несколькими жильцами показалось, что их уговоры возымели действие, и они якобы получили одобрение… Но так не могло быть. И короткое время простаивания техники Иван Никодимыч использовал в своих целях, не совсем в благовидных, а точнее, вообще не в благовидных: ночью он проник в кабину бульдозера и грамотно повредил системы управления. Утром признался во вредительстве Николаю Степановичу. Разругались они моментально и довольно крепко. Постороннему человеку могло показаться, что неприемлемый для интеллигентного геолога отчаянный поступок старика-фронтовика закроет дверь для их общения. Однако час прощения наступил, и Николай Степанович вечером пригласил воинствующего соседа к себе в кабинет для беседы с журналистами, чтобы на страницах городских газет вновь появились статьи в защиту парка и о недопустимом произволе властей, которые явились бы свидетельством не столько налаживания отношений между поссорившимися соседями, а скорее сигналом к выбору более законных методов борьбы с чиновниками.
К удивлению Николая Степановича, дочь-журналистка налету схватила мысль отца – написать историю создания парка. А заодно противопоставить тех, кто заботливо высаживал деревца, думая о будущем, тем, кто выкорчевывал их память.
В глазах отца взрослая дочь, дотошливо выпытывающая у старика нужные ответы, все еще оставалась ребенком: та же чистая крылатая душа, тот же необузданный характер и строгая мужественность. В семье выбор Гали необычной профессии никто не одобрял. Переживали, вдруг ее неистовость, жажда справедливости доведут до беды. Мать подталкивала ее стать врачом. По ее мнению, в большой семье хоть один человек, но обязан знать законы врачевания, должен в минуты болезни выбрать и предложить правильные таблетки. Только отец радовался безмерно и открыто, когда дочь поступила на факультет журналистики. В тот день он держал на семейном совете речь, волнующую душу каждого сидящего в зале за столом, так как давно уверовал в то, что любая профессия может открыть мир, а может закрыть. Журналистика открывает талантливому человеку возможность выражать свою эпоху, синтезировать ее характерные черты. Его понимание законов журналистики было близко к идеализации… Потому он принимал корреспондентов как врачевателей душ и не без гордости говорил дочке: «Это большое счастье владеть человеческой душой…».
Сегодня на дворе была другая эпоха, и настал день, когда отец мог наблюдать, как работает его дочь. Кажется, со временем и Галя должна была измениться, но она оставалась прежней. И если старик-фронтовик не понимал, какую статью журналист уже мысленно пишет, то он догадывался.
Иван Никодимыч давно потерял деловитое спокойствие, степенность, отвечал на вопросы Гали, как и положено, развернуто, ярко.
– Саженцы никто не заказывал. Их нигде не продавали. Потому каждый привозил саженцы самостоятельно. Брали их там, где находили. Евсеич, тот, что с пятого этажа, привез березку электричкой из родной деревни. Память. Деревни нет, а дерево вон какое вымахало. Я часто его курящим в парке видел. Стоит у дерева, смолит, как паровоз, а окурки не бросает… Деревню, поди, вспоминал. Однажды, мне признался: прожил, мол, неплохую жизнь, заработки имел нешуточные, а по ночам дышать не мог… Вся подушка мокрая от мыслей о деревне. Когда помер, велел увезти себя в деревню, на погост, к родителям. А дети отказались, заартачились… Деревня, мол, не жилая, на заброшенное кладбище некому будет приезжать. А вот библиотекарша свою березку на велосипеде приволокла. Сказывала мне, что росла она в селе, откуда родом Есенин. Поэт такой был. Писали, будто он покончил жизнь самоубийством. А она наотрез отказывалась признавать это, убеждала меня, факты приводила, что его убили. Всё стихи Есенина читала… Она их много знала. Я ничего в них не понимал, но слушал, приятно для души-то…
– А почему в парке посажены одни березы? – спросила Галя, махнув зажатым в руке блокнотом в сторону окна. – Почему не липы, не клены? Липа пахнет – аж на километр запах кружит голову. Да и библиотекарша наверняка на клен могла согласиться. У Есенина столько чудных стихов про клен…
– Зачем напраслину говоришь?!.. Она любила березы… А предложил посадить березы я… Почему? Да потому, что от них много света. Выйди, посмотри, какой двор светлый.
– Ваша береза, выходит, тоже историю имеет?
– Еще какую!
Иван Никодимыч сидел, отстраненно смотрел на Галю, смотрел и не шевелился. И вдруг вскочил с кресла, поправил волосы, заходил взад-вперед по кабинету. Между шкафами, забитыми книгами и минералами, заметался его клокочущий взволнованный голос.
Николай Степанович понял, как больно задел его простой вопрос… Он переживал за старика, который в последние дни жил одной бедой… Жил желанием спасти от бульдозера выросшую на его глазах сотню высоких стройных берез.
Голос старика был таким сильным, что не только Николай Степанович замер, но и Маша, стоящая у окна, оторопело обернулась к нему. В ходе всей беседы она тихо занималась своим делом – привычно стирала тряпкой пыль со стола и подоконников.
Старик молча смотрел в окно. Затем очнулся и поведал историю появления в парке дорогого его сердцу молодого деревца.
– Привез березку я из деревни Войсковицы, что под Ленинградом. Там наш офицер-танкист Зиновий Колобанов уничтожил в одном бою сразу 22 фашистских танка! Двадцать два! Один час схватки с врагом – и победа!!!.. Произошло это сражение на моих глазах. А именно – 19 августа 1941 года. Мы все знали экипаж танка КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова. Все… Я сам горел в том бою. Наш экипаж подбил у немцев четыре танка. А Колобанов остановил двадцать два. За этот подвиг танкист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но причем здесь книга, мать вашу?… То был подвиг! Такого героя забыли! Безмозглые. Завистливые. Кругом равнодушие и политические проститутки… А я ту битву не могу забыть. Колобанова должны были представить к званию Героя….Представили. И не дали, проходимцы. Сколько я ни бился, сколько не писал, добивался правды, все было тогда бесполезно. И вот я с того места битвы, с поля, заросшего березками, и привез в наш парк крепкое деревце. Могу показать, где оно растет…
– Подождите… Тут такая история! Березки подождут. Я напишу очерк про него. О нем ведь никто почему-то не знает. Пап, ты слышал про этого танкиста?
– Нет, Галя, к своему стыду только сейчас узнал.
– Иван Никодимыч, а про этого Колобанова в прессе писали? Книги про него есть?
– Какие книги, дочка? Его подвиг, его имя предано забвению.
– Как забвению? Почему?
– Все просто. Зиновий Колобанов – герой. Славить себя он не мог. Не его рук это дело. А вот те, кто о героическом подвиге танкиста, получившего в том неравном бою от фашистов 130 прямых попаданий в танк, должен был кричать на каждом углу, писать книги, они молчали… Колобанова представили после того боя к званию Героя Советского Союза. А в штабе Ленинградского фронта наградной лист переписали и дали нашему герою всего лишь орден Красного Знамени. Начальники в погонах – проститутки. Как и начальники на телевидении, в газетах… Я им кучу писем направил, рассказал всю правду о Колобанове, а они ничего так и не напечатали. Из-за них страна не знает своих героев.
– А разве что-то изменится, если страна узнает? – вмешался в разговор Виктор.
– У вас, молодых, может ничего и не изменится, – старик прикрикнул на журналиста, нахмурил брови. – У меня изменится, точно знаю. Я могу защищать только ту страну, в которой герои Колобановы. За нее воевал… А сегодня за вашу страну, где герои Чубайс и Чикатило, я кровь проливать не буду.
– Мне Чубайс тоже до лампочки, – поморщился Виктор.
– Всем Чубайс до лампочки… Только в каждой газете и каждый день на телевидении говорят про Чубайса. И не говорят, что реформы Гайдара-Чубайса загубили 12 миллионов российских душ, говорят другое – будто он талантливый управленец. Какой-то менеджер.
– Но это может быть и так?!
– Глупости. Все это ваши журналистские выдумки. Но я о другом… Скажи мне, что это за страна такая, где все знают про Чубайса и Чикатило, про своих людоедов и потрошителей, и никто не знает про Колобанова, за час боя уничтожившего 22 фашистских танка?! Это не страна, это дурдом. Я за дурдом кровь не проливал. Я не признаю страну, где героев создает телевидение, а не жизнь, борьба. Фальшивые герои фальшивую страну творят… Страна, где не знают и не чтят своих героев – обречена. Страна, где в умах молодежи застрял Чубайс, а не Колобанов, никогда не будет страной. Это дурдом.
– А как же парк? – вопрошал Виктор, цепляясь за слова старика. – Вы же его защищаете несмотря ни на что.
– Защищаю, – строго промолвил Иван Никодимыч, окидывая молодого журналиста недоверчивым взглядом. – Потому что там есть береза с поля битвы, и она мне дорога как память о Колобанове. В этом парке есть и рябина… О ней ты спроси у своего отца.
– Это бабушкина рябина, – закивала головой Галя, смущенно посмотрев на отца и прикрыв рукой вспыхнувшие краской щеки.
– Ты не туда разговор заводишь, Виктор, – осторожно выпалил Николай Степанович, всем строгим видом показывая, что ему не нравится ни тон беседы, ни заумные колючие вопросы, ни подвохи.
– Я парком интересуюсь, – понизил голос Виктор. – Надо же о парке писать…
– А вы так и напишите, что, уничтожая парк, вы, господа чиновники, убиваете память людей, – нравоучительно заявил Николай Степанович.
Иван Никодимыч тяжело прошелся по кабинету, осторожно присел на стул, опустив голову, словно боясь испортить отношения с молодыми людьми. После появления в городской газете смелой статьи про парк ему стали звонить знакомые и передавать слова поддержки, и он понял, как важно расшевелить общественное мнение. Неравнодушные люди находили время позвонить, написать протест в администрацию района. А у чиновников появился зуд, желание доказать свою правоту, открыто унизить тех, кто выступил против них и идет якобы против течения. Но силы не оставили его. С каждым новым звонком у Ивана Никодимыча появлялась уверенность, что он переубедит чиновников, спасет парк от бульдозера. А главное, он спасет в себе человека, он не позволит втаптывать себя в грязь… На кону стоит слишком многое, дорогое, память о боевом товарище, о Зиновии Колобанове. Ему начихать на требования чиновников. Он – горел в танке, обожжен жизнью, крайне неудобен и чиновникам, и даже самому себе. Но он остро необходим связанным с ним людям, необходим Николаю Степановичу, желающему спасти рябину старушки Надежды Павловны Мазаевой. Конечно, ему легче жить, когда чиновники не достают, когда его душевному спокойствию ничто не угрожает. Недавно он признался Николаю Степановичу, что если бы он согласился на вырубку парка, на отсутствие собственного мнения, то жил бы в ладу с собой. А ежели бы еще и не высказывал открыто это собственное мнение, то слыл бы среди чиновников хорошим человеком. На ту тираду сосед ответил категорично, что боевого танкиста, прозябающего в беспринципности и пассивности, он бы не пустил в свой дом.
Блокнот Галины лег на стол… Ее глаза требовали продолжения рассказа старого танкиста. Но тот молчал. Тогда ей пришлось самой завязывать новый разговор. Виктор, раскусив обиду Ивана Никодимыча, хитро улыбнулся и тоже закрыл блокнот. Напряженную обстановку спасло искреннее, отеческое участие Николая Степановича в продолжении беседы. Вспомнив про последний приезд Надежды Павловны Мазаевой из деревни в город, про то, как она попала в больницу, и там ее рябиновое варенье и бесконечная беспредельная доброта покорили врачей, он передал право дочери Галине дорассказать историю появления бабушкиного саженца в парке.
То была грустная история. Галя помнила ее в деталях, ибо сама участвовала в ней. Бабушку часто привозили из деревни и устраивали в больницу. Перед тем как лечь на химиотерапию, затормозить расползание раковой опухоли, она длительное время жила в их квартире. Отец уступал кабинет. В нем подолгу стоял неприятный запах лекарств. Именно отец первым и успокаивал ее, выслушивал, и потому знал, что такое боязнь врачей, нежелание оставлять деда одного с большим хозяйством, состоящим из кур, двух кошек и сварливой козы. Она, видимо, стыдилась своей слабости, вернее, того, что про нее догадается семья, потому всегда торопилась лечь в больницу.
В ту памятную сырую осень бабушка опять приехала к ним в гости, чтобы подлечиться у знакомых врачей. Она ловко распаковала коробки с домашними соленьями, выставила на стол банки с вареньем. В руках у нее был еще один длинный тонкий сверток из газет… Никто на него не обратил внимания. Вечером бабушка должна была надиктовать внучкам секрет приготовления сладкого варенья из несладкой рябины. Галя припасла тетрадку… За ней тогда ухаживал Виктор, и она обещала его удивить кулинарными способностями. Но во время ужина бабушка побледнела, застонала от неожиданно охватившей грудь тупой боли, и ей вызвали скорую помощь.
– Больше мы Надежду Павловну, нашу любимую бабулю, и не видели, – дрожащим голосом сказала Галина, продолжая долгий рассказ. – Рецепт ее мне пригодился. Даже не один. Она научила меня готовить и джем из рябины, и варить варенье из твердых рябиновых ягод. Мы увезли бабушку в деревню, похоронили. Через неделю заметили в прихожей, за одеждой, какой-то сверток. Я вспомнила, что его оставила бабушка. Трясущимися руками вскрыла его, а там саженец. Не живой, не мертвый. Куда его девать?… Папа сперва поставил его в ведро с водой, а потом высадил во двор. Там в парке уже давно росли березы. И теперь вместе с ними, там, на углу, где хотят поставить торговую лавку, растет бабушкина рябина.
Рассказ Галины тронул старика-фронтовика, царапнул его за сердце, и он вновь заговорил о судьбе парка.
В затянувшуюся вечернюю беседу неожиданно вмешался телефонный звонок. Сквозь приоткрытую дверь Николай Степанович слышал, как жена начала говорить тревожным голосом со старшей дочерью Елизаветой. По отрывкам речи стало понятно – случилась беда: гулявшая в ресторане дочь оказалась без денег.
Он уже не участвовал в искреннем исповедальном повествовании старика-танкиста. Мимо ушей пролетали вопросы Гали и Виктора. Ему слышался голос жены, и по нему он догадывался, чего стоит доверительная прямота дочери. Жена наверняка начинала волноваться, лицо её краснело и бледнело одновременно. В ее неторопливом, но напуганном голосе все больше звучали щемящие нотки сочувствия.
Ольга Владимировна минут пять советовала дочери, где и как одолжить деньги, чтобы расплатиться с официантом. И пока она искала выход из сложившейся ситуации, Николай Степанович решил – надо ехать в ресторан и самому выручать Елизавету. Забавно-слезная сцена, происходящая на другом конце телефонного провода, могла скверно закончиться… Хорошо, если приводом в полицию. А если ресторанные вышибалы начнут издеваться над ней?! Да и полицейские сегодня ведут себя хуже бандитов. Одним словом, беспредельщики. Нет, он поможет дочери сам.
Маша уловила нервное напряжение отца… И когда тот шепнул ей на ухо, что едет забирать Лизу из ресторана, она навязалась ему в напарники. Больше он никому не признался в мотивах отъезда, надел костюм, сунул кошелек в карман, попрощался с Иваном Никодимычем, и, велев жене держать язык за зубами, удалился из квартиры.
Он мчался на такси в незнакомый ресторан «Техас», боясь мрачных предчувствий. Уже было ясно: дочь увлеклась незнакомым кавалером, а тот оказался шулером, пригласил ее выпить шампанского, познакомиться поближе и бросил, смылся тогда, когда пришло время за ужин платить. Елизавета обливается слезами, впервые попав в дурацкое положение, звонит матери, так как у нее нет не только иностранной валюты, но и рублей, чтобы заплатить за дорогое угощение. Рядом за столиками сидят с недоуменными лицами пижонистые пары, но никто помочь не берется. Именно так он понял сложившуюся ситуацию из услышанного разговора дочери с матерью.
Ему до боли было жалко Лизу. Он ругал себя, ведь именно ему недавно пришла в голову идея поругать дочь за то, что она слишком замкнулась, всё время проводит дома одна… Вот и познакомилась, и сходила в ресторан. Теперь наверняка бранит отца за плохой совет.
Весь долгий, напряженный путь к ресторану ему хотелось одного: чтобы слезы дочери облегчили ее бедное сердце, и она не держала бы на него зла. А Маша в эти минуты думала о своем будущем возлюбленном, о том, что он должен обладать отцовской решительностью. Она цепко держалась за рукав его пиджака, и, даже входя в ресторан, не отпускала его руку. Ей приятно было ощущать мужскую силу.
Столик с ярким букетом роз и бутылкой открытого шампанского, за которым сидела, съежившись, Лиза, они отыскали сразу. Подошли незаметно. Позади дочери стоял высокорослый, напыщенный, с черными, стреляющими по сторонам, глазами, официант.
– Лиза, мы здесь, – бодро и громко сказал отец, сказал, так, чтобы слышала не столько зареванная дочь, сколько неприступный истукан в белом пиджаке.
– Папа! – обрадовалась, вскакивая из-за стола, провинившаяся гостья.
– Ну что, девчонки, будем гулять! – скомандовал Николай Степанович и решительно уселся на стул с высокой узорчатой спинкой. – Официант, можно вас попросить принести мне коньячку, а девочкам шампанского…
У взрослых дочек озорно, по-детски засверкали глаза, недоуменно приоткрылись губы, выказывая белый цвет красивых зубов. Еще шире открылся рот у официанта. Он так опешил от услышанного предложения, от появления незнакомого мужчины, что просто обомлел. Немота длилась заметно долго.
– Рыбки красненькой принесите, – гремел жизнерадостный голос отца. – Еще фруктов, лимончик порежь… Ну, ты знаешь!..
– А деньги у вас есть? – осторожно спросил официант, вытирая вспотевший лоб.
– Не переживай, – успокоил встревоженного долговязого мужчину Николай Степанович и достал из кармана толстый кожаный кошелек. – Чего раньше времени распереживался? Я с дочками отдохнуть решил…
– Пожалуйста, отдыхайте. Только вам и за прежний заказ придется заплатить.
– Хорошо.
Ресторан гудел от задорной музыки. Люди отдыхали пышно, бурно, празднично. В центре зала, в кругу, в шумном танце мелькали восторженные лица, страстно тянущиеся вверх руки. Одни пары старались придать своему танцу формы легкости и плавности. Поведение других возбуждало любопытство, ибо молоденькие девчонки так вертели задницами, так задирали ноги, что, казалось, вот-вот могут шлёпнуться на пол. Приблизившаяся близко к столику Николая Степановича самовлюбленная дама танцевала прямо перед ним, плясала лихорадочно, на последнем пределе. Щеки ее алели от избытка краски, из-под выщипанных бровей, из орбит выпирали блекло-зеленые глаза. Своё присутствие в ресторане она объясняла откровенным желанием увлечь любого интересного мужчину. Засмотревшись на размалеванную особу, дразнившую окружающих своей вульгарной наружностью, он в один миг испугался своих мыслей и отвернулся. За противоположном столиком ему попала на глаза девушка с большими чистыми глазами. Положив на край стола тонкие руки и подперев кулаками подбородок, она нежно смотрела на своего парня. В душе геолога что-то встрепенулось. Именно так, трепетно, не отрывая глаз, чуть наклонив голову, смотрела на него юная Оленька в их первый поход в ресторан.
Длительное и непонятное молчание отца прервал голос Лизы. Только заплаканные глаза, настороженный взгляд, брошенный на него, выдавали ее состояние. Хотя появление отца позволило ей успокоиться и прийти в себя.
– Папа, откуда у тебя деньги? – спросила она, стремясь удовлетворить жгущее ее душу любопытство.
– Продал коллекцию минералов, – легко признался отец.
– Какую? – испуганно спросила Маша, кладя вилку на тарелку с крабовым салатом и желтым, разрезанным пополам, лимоном.
– Алтайскую.
– С Рубцовского месторождения? – настойчиво продолжала пытать младшая дочь.
– Да, Маша, с тех рубцовских шахт, где мы с тобой нашли замечательные образцы самородной меди и ее минералов – куприта и азурита.
– Мой любимый азурит. Я порезала об него пальцы…
– У меня еще осталась одна коллекция.
– Когда ты успел? Зачем?
– Чтобы заплатить одной газете, – из груди отца вырвалось неожиданное признание, которое его тотчас напугало.
Он не желал говорить про ту сделку с редактором газеты, боялся говорить о ней вслух, но слова вырвались наружу.
– Ты проплатил статью в защиту парка?! – догадалась Лиза.
– Про какую газету вы говорите? – строго спросила Маша, не понимая, о чем шла речь.
– Все это ерунда, Маша, – успокоительно заявил отец и взял дочку за руку. – Мелочи жизни. Главное, мы здесь… Я так давно не был с вами вместе, в ресторане…. Давай танцевать.
Маша согласилась, живо вытащила его к подиуму, где гремели ударные инструменты и бренчали гитары. Думая о своей любви к отцу, обнимая его, она стала настолько счастливой, что нахлынувшая на нее грусть по поводу проданной коллекции минералов, исчезла, и лицо ее расцвело солнечной улыбкой.
Николай Степанович несколько секунд думал о коллекции, затем переключился на пляшущих рядом смазливых девушек. Танец, вызывавший у него живейший интерес, приковывал к их одежде, легкой, короткой, вынуждающей подглядывать. Смущение то появлялось, то проходило. Чтобы не ставить себя в неловкое положение, он поворачивал голову к дочке. Та понятливо кивала головой, лукаво подмигивала.
– Папа! – это слово в устах дочки прозвучало как грозный приказ, исключающий возражения.
Он перестал смотреть по сторонам. К нему вернулась мысль о проплаченнной в газете статье.
Первую заметку они сочиняли вместе. Иван Никодимыч заглянул вечерком с исписанными листами бумаги. Признался ему, что как только начинает писать, мысли появляются правильные, а вот на бумагу ложатся почему-то совсем другие. Все предложения пришлось переписывать раз пять подряд, но ничего путного так и не получилось. Текст выходил из-под карандаша сумбурным и неубедительным. И тогда Иван Никодимыч решил побеспокоить соседа: «У вас все-таки высшее образование!».
Вместе им удалось написать злой материал, кусающий и власть за равнодушное отношение к заботам и тревогам людей, и правоохранительные органы за нежелание исполнять профессиональные обязанности. Дочь Галя взялась выступить посредником… Она отнесла заметку знакомым журналистам. Через день они позвонили и, извиняясь, сказали, что газета подобные материалы публикует лишь на платной основе. Николай Степанович долго не мог сообразить, почему ему надо платить за возможность высказать свою позицию по судьбе парка… Раньше наоборот редакция газеты присылала ему гонорар за любую опубликованную статью, независимо от того, шла в ней речь о защите леса или о тайнах алтайских рудных месторождений.
Галя пояснила, что те гонорарные времена давно канули в Лету, и нынче, в рыночные времена, газеты вынуждены самостоятельно зарабатывать любыми способами себе на жизнь. Критика в адрес представителей власти рассматривается как заказной материал, потому за размещение его и берут деньги. С одной стороны, журналисты тем самым проявляют себя коммерсантами, с другой стороны, подстраховываются на случай обращения чиновников в суд.
Николай Степанович все равно не внял аргументам дочери, попытался убедить газетчиков, чтобы те проявили гражданскую позицию и выступили в защиту парка бесплатно. Но те наотрез отказались. В момент последнего напряженного разговора по телефону упрямая журналистка с ехидным голосом вообще бросила трубку… Пришлось соглашаться на условия газеты. Единственную уступку журналисты сделали Гале в виду ее знакомства с ними, и якобы из некой профессиональной солидарности. Когда Николай Степанович передавал в конверте тысячу долларов дочери, то просил ее передать коллегам, что у них не только основы профессионализма отсутствуют, но и элементарные признаки наличия совести.
Появление той статьи позволило защитникам парка выиграть время.
Ресторан «Техас» принимал все больше новых гостей. Но, как заметил Николай Степанович, они чаще норовили не за столы сесть, чтобы окунуться в ритуальные беседы за бокалом вина, а спешили в танцующую толпу. И ему, плавающему среди кружащихся пар, становилось все теснее, теснее. Завершив медленный вальс с Машей, которая неустанно удивляла своими легкими движениями, азартом, сложными фигурами, он пригласил на танец и Лизу. Но если Маша вела за собой отца, инициатива была на ее стороне, в ее руках, то со старшей дочерью выходило все иначе. Она оказалась в плену ведомого, бездумным исполнителем чужой воли.
Вскоре Николай Степанович предстал перед официантом – легкий, плечистый, ворот чистой рубахи распахнут на груди и вылез из-под светлого пиджака.
Высокий, брюзгливый мужик смотрел на него недобрым глазом ровно столько времени, сколько тот доставал из кошелька деньги. Когда расчет был получен, как и неплохие чаевые, он резко изменился в лице и проводил нежадного клиента с двумя барышнями до такси вполне доброжелательным взглядом.
Лиза попыталась в машине покритиковать отца, побрюзжать по поводу бесполезно отданных официанту чаевых: «Он меня обзывал! Этот верзила не достоин никакого поощрения!..». Однако Николай Степанович утихомирил раскрасневшуюся от возмущения Лизу, обнял на заднем сидении обеих дочек и задремал…
Ночь над домом Мазаевых радовала яркими звездами, напоминающими новогодние игрушки.
Жильцы томились в ожидании следующего дня, появления во дворе бульдозера. Иван Никодимыч в очередной раз коротал бессонные ночи, то впадал в отчаяние, то приободрялся, намечал новый план борьбы с чиновниками.
Полон сомнений был и Николай Степанович. Правда, он ощущал, что корнем всех бед для их некогда тихого дома является не продажная местная власть, а настырность и алчность нового угрюмого жильца Анзора, его стремление укротить население и поставить торговую лавку.
Два дня подряд группа людей выходила и утром, и в обед, и вечером из своих уютных квартир на улицу высматривать наступление техники на парк. К счастью, жизнь текла мирно, тихо… Исключая вечернее время. После работы в квартире Анзора собиралась молодежь и устраивала шумные оргии. Музыка продолжала мешать людям и общаться, и отдыхать. Участковый приезжал по вызову, брезгливо выслушивал жалобы и, пожимая плечами, давая знать, что ничем не может помочь, уезжал восвояси. Люди смиренно ждали окончания грохота барабанов, затем в гневе, в расстроенных чувствах, напившись корвалола, засыпали.
На третий день во двор пришла беда. Ощущение, что она вот-вот появится, уже жило в людях.
Ранним утром Иван Никодимыч выпустил собаку на улицу. Больные ноги не позволяли ему выходить вместе. Жильцы дома знали про миролюбивый характер пса, видели не раз, как он спокойно бродил между деревьями, делал там свое дело, и возвращался к хозяину. Никто не жаловался на Верного, не упрекал его в агрессивности.
Гулял пес, как правило, недолго. По возвращению на лестничную площадку, подходил к незапертой двери, толкал ее лапой… Старик встречал четвероногого друга, защелкивал замок.
В это утро все сложилось по-другому. Пес Верный выбежал на улицу и пропал.
Пригретый утренним солнцем парк молчал. На березах лопнули почки, со дня на день из них вылезут свежие зеленые листочки. Вчера на небе сияла праздничная весенняя радуга, раскинувшаяся от края до края. Сегодня по нему плыла гряда длинных облаков, суливших теплый дождичек.
Иван Никодимыч глянул на часы, висящие на стене, в голове засвербила мысль: Верному пора домой. Он медленно прошелся по комнате, поглощенной загадочно-пепельным сумраком, подумал, что у собаки кроме собственных сложностей могут возникнуть непредвиденные, например, кто-то нарочно плотно захлопнет входную дверь или подопрет ее палкой так, что животному и не под силу будет ее открыть. Для успокоения он выглянул в окно… Там царила пустота.
Тревожное утро еще не наложило на него усталости, и он собрался искать Верного. Накинув на понуро обвисшие плечи пиджак, он еще раз выглянул в пустой двор. За окном дышал серенький рассвет. И как ни тяжела была походка его обожженых на войне ног, он пошел разыскивать друга.
Раскисшая земля давно вобрала в себя холодную воду, оголила стылые трамвайные рельсы. На мёрзлом асфальте не осталось следов весенних луж.
Он брёл по улицам в стоптанных резиновых тапках, с непокрытой головой, в рубашке, неряшливо заправленной в брюки.
Верный будто сквозь землю провалился. Расспросы прохожих не помогли, никто пса не видел. Лицо старика побледнело, в морщинах застыло напряжение, глаза мокро блестели… Иван Никодимыч испытывал одно чувство: бесконечной жалости к пропавшему другу, который скрашивал его незавидное одиночество, служил верой и правдой, помогал жить.
Два часа ходьбы так вымотали старика, что он решил вернуться домой. С лица его не сходили задумчивость и испуг, а взгляд, блуждал по сторонам в надежде отыскать знакомый силуэт.
В парке на скамейке он переждал несколько минут, успокаивая боль в ногах, прислушиваясь к учащенно бьющемуся в груди сердцу. Проходившая мимо полноватая женщина с авоськой в руке поинтересовалась, не нуждается ли он в помощи. Иван Никодимыч помотал головой, стесняясь произнести громкое слово, которое нарушило бы тишину бесполезными объяснениями.
Он ждал собаку весь день. Заходил просить помощи к соседу Николаю Степановичу, но тот задержался в университете. Ольга Владимировна сказала, что ждать его бессмысленно, на кафедре сложные переговоры.
Ночью ему было не до сна. Передумал всякое… Может, Верный попал под колеса машины, может, его поймали молодые душегубы… Прошлым летом они ездили по улицам на специальной машине и вели отстрел бродячих животных.
Лишь к утру глаза его тяжело сомкнулись… И, как назло, в дверь позвонили. Иван Никодимыч открыл. Перед ним стоял осанистый бородатый старик с одутловатым лицом. Они встречались в магазине в очереди за молоком.
– На дереве случайно висит не твоя собака?! – прошептали его бледные губы.
– Нет, этого не может быть, – испуганно, с дрожью в голосе, ответил Иван Никодимыч и молча, медленной неровной походкой, побрел за бородачом.
Пока шли – оба молчали. Сопровождающий тупо смотрел под ноги на пыльные ступеньки, всем своим видом демонстрируя глубокое внутреннее равнодушие.
Лишь в парке, подойдя к рослой березе, где на сучке на толстой веревке висел Верный, он процедил сквозь зубы:
– Кому мешала псина? Бегала себе, бегала, вреда не приносила… Совсем озверели люди.
В стороне от несчастного дерева стоял еще один мужчина, подавленный и расстроенный. На его худощавом лице замер все тот же немой вопрос: зачем убили собаку и повесили ее у дороги на виду у прохожих?!
Старик обмяк при виде мертвого друга. Ему не надо было спрашивать ни себя, ни окружающих, кто и зачем убил Верного. Он сразу мог ответить: это дело рук Анзорa, тот не раз угрожал, обещал убить собаку, вот и сдержал слово, сделал гнусное дело, чтобы запугать старика. А заодно отомстить за неоткрытую торговую лавку, за публикации в газете.
Над березовым горизонтом проползла туча, делая его узким и хмурым. Дунул теплый ветерок, коснувшись мягкой седины старика, обрамлявшей крепкий морщинистый лоб. Он смотрел на Верного, содрогаясь от мысли, что это именно он висит, и не знал, как и чем ему помочь. Руки дрожали… Достав из кармана скомканный носовой платок, он положил его на один влажный глаз, затем на другой, но слезы все равно тихо побежали по щекам, по жилистой шее.
Бородач принёс лестницу, забрался по ней, перерезал веревку и помог Ивану Никодимычу осторожно опустить тяжелую тушу Верного на землю. Затем унес лестницу и больше не вернулся. Старик сидел на земле, крепко прижав к сухой груди четвероного друга. Ноги у того уже окаменели, на зубастой черной пасти застыла пена.
Полчаса мимо него проходили люди, о чем-то сокрушались… А он не слышал за своей спиной ни грозных речей, ни полушепота взволнованных мужчин и женщин.
Вечером Николай Степанович и Алексей Константинович помогли старику вывезти собаку за город и захоронить ее в лесополосе. Убитый горем, он даже не стал примечать место могильного бугорка, так как знал, что сюда, в такую даль, ему никогда не добраться.
Прощание проходило тихо и без слез. Старик вспомнил, как Верный будил его по утрам, покусывая за руку, скуля у кровати, и стаскивая на пол одеяло…
– А если бы я раньше его сдох, то на моей могиле он бы месяц выл страшно, громко, тоскливо…
Эти последние горькие слова Иван Никодимыч, задыхающийся, обессиленный болью, сказал уже в отъезжающей машине, в дороге, уходящей в городскую темноту.
За мутным окном Николай Степанович разглядел очертания далекой деревушки. Вспомнил недавние слова Маши. Она бредила поездкой к деду Матвею… Сейчас и ему захотелось освободиться от жизни в каменном доме, уехать навсегда в далекую тихую деревню, к желанному покою.
…Память об убитой собаке дала о себе знать через несколько дней. В парк заехал тяжелый бульдозер, люди высыпали навстречу ему из квартир, а среди них не оказалось старика. Николай Степанович поинтересовался, может, кто-то видел его…. Получив отрицательный ответ, он понял: у старого соседа депрессия. Наверняка сидит в затхлой комнате и заливает горе самогоном, поминая четвероногого друга.
Следом за бульдозером в парке появился автобус с полицейскими. Из него первой к протестующим людям вышла знакомая чиновница. Николай Степанович узнал ее по энергичному лицу, движениям, жестам, и, конечно же, по свободно льющейся речи.
– Писатели нашлись на мою голову, – гремел ее залихватский голос, выманивающий из автобуса полицейских со щитами и дубинками. – Я вам тысячу раз говорила, не надо строчить кляузы в газеты, у нас принято законное решение – здесь будет стоять торговая лавка.
В ее руке была зажата бумага. Когда грозная говорливая чиновница потрясла ею над головой, из автобуса вышел невозмутимый Анзор. Его нервная фигура замыкала группу вооруженных молодцев. Увидев Николая Степановича и Машу, стоящих перед гудящей техникой, он подошел к ним.
– У нас на Кавказе говорят: «Один в поле воин…», – его лицо расплылось в наглой улыбке.
– А я слышала, что у вас один в поле нахал, – парировала Маша. – Для тебя же я эту пословицу переиначу так: «Один в поле – арбуз!».
– Мне дали разрешение на строительство. Я вам его показывал. Все законно. Уйдите, пожалуйста, не мешайте мне строить.
Отец долго не вступал с ним в разговор. И лишь когда полиция выстроилась в шеренгу, изготавливаясь к движению на протестующих, когда черноглазый, в нахлобученной фуражке, с короткими усами парень схватил за рукав Анзора, он решил обратиться к нему.
– Молодой человек, можно вас попросить сделать одно одолжение… Небольшую уступку.
– Конечно, можно, отец, – гордо заявил Анзор. – Говорите. Что для вас сделать?
– Можно не все березы уничтожать?..
Усатый парень потащил приятеля в сторону. Он тоже был кавказец по обличью и акценту. Не дав Анзору ответить, он решительно, с горячностью возразил:
– Нет. Будем весь парк рубить.
– Нет, не будем весь рубить, – возразил Анзор. – Мне нужна лишь площадка под стройку. Часть деревьев спилю, маленькую часть детской площадки сокращу… Все останутся довольны, всех все устроит. Вот увидите. Мы будем дружить.
Приятель насупился, но промолчал, не стал перечить, выкручиваться, подчеркивая тем самым, что не он хозяин положения. А обрадованный начавшемуся разговору Анзор миролюбиво продолжил:
– Я хочу со всеми мирно жить, дружить… Я буду вам помогать.
– Мне помогать не надо, спасибо, – Николай Степанович потряс указательным пальцем. – Вы лучше сделайте доброе дело: не рубите все березы подряд.
– Я так и хочу.
– И если можно, я вас очень попрошу, не губите вон ту рябину…
– Она бабушки нашей, – подала жалостливый голос Маша.
– Да пусть растет ваша рябина, – одобрительно сказал Анзор, прибодрившись от возможности угодить понравившейся ему девушке. – Она и не мешает стройке.
Николай Степанович хотел попросить не выкорчевывать еще и березу соседа-танкиста, но вспомнил, что она росла на другом конце парка.
Полицейские, не встретив сопротивления жильцов дома, оттеснили их к подъездам и забрались обратно в автобус. Утихомирившаяся чиновница спрятала бумагу в черную папку, радостно покачала головой, будто сотворила спортивный рекорд, и важным шагом подошла к Анзору.
– Приступайте к работе, – по всему двору разнесся ее командный голос. – Пилите. Они мешать не будут… И придерживайтесь плана застройки. Чтобы у меня ни-ни… А то я покажу…
Николай Степанович взял за плечи Машу, и, не дослушав поручений никудышной чиновницы, побрел домой.
На пороге квартиры он остановился. Вспомнил про старика. Тот наверняка не знает о том, что парк окончательно приговорен к вырубке. Стоит ли при его-то горе говорить ему об очередной беде. Но завтра это сделают другие, и неизвестно, в какой форме… Чтобы не усугублять положение расстроенного старика, Николай Степанович решил зайти к нему и поведать все как на духу.
– Маша, иди отдыхай, – попросил он дочь. – Скажи маме, я у Ивана Никодимыча задержусь ненадолго. Не захворал ли он ненароком?…
– Ладно. Иду. Папа, а хорошо, что ты попросил Анзора не трогать бабушкину рябину. Он ее побоится срубить, вот увидишь…
– Ты его арбузом назвала. Почему?
– Торгаши потому что… У него все друзья арбузами торгуют. А строит из себя великого бизнесмена.
– Обидела человека.
– Его не обидишь… Все, пап, я пошла.
Дверь соседа оказалась не запертой на замок. Николай Степанович прежде чем нажать на звонок, постучал по дереву, а дверь и поехала внутрь… Он зашел, извинился, спросил негромким голосом:
– Жив ли, Иван Никодимыч?
В ответ – подозрительная тишина.
Воздух в прихожей стоял спертый, чужой. Он осторожно заглянул в зал, в большую комнату, откуда тянуло запахом дешевого одеколона, клея и политуры. На полу у входа валялся разбитый стул с отлетевшей в сторону ножкой. На расстеленной по полу газете стояла банка столярного клея. Старик, видимо, собирался отремонтировать, склеить сломанную мебель.
– Иван Никодимыч, отзовись. Ты где?
– Здесь я, лежу на диване, – послышался больной голос старика. – Зажги свет, выключатель за дверью.
Николай Степанович нащупал кнопку, нажал ее и в освещенной просторной комнате увидел соседа, скрывающегося под одеялом.
– Ты вроде как ремонт затеял, – сказал он сходу, одобрительно щелкая языком, и показывая рукой на разломанный стул.
– Да сел тут на него и упал, подвела рухлядь, – отозвался старик.
Голос у него изменился, натужно хрипел. На лице заметно прорисовались грубые черты, глубокие глаза.
Подсев на край дивана, Николай Степанович поправил одеяло и посмотрел на старика, который после убийства собаки резко сдал, лежал с совершенно помертвевшим лицом. Из хрипящего рта отвратительно пахло перегаром. У изголовья стояла фигурная подставка для цветов, но на ней громоздилась не ваза, а бутылка из-под самогона. Стоял уже пустой граненый стакан. Закуска отсутствовала.
– Зря один пьешь, – пристыдил больного Николай Степанович, охваченный нервным переживанием.
– Зря, – сказал старик в отчаянии и с внезапным волнением взглянул в лицо сидящего рядом гостя.
– …Меня бы позвал.
– Тошно мне, Степаныч. Был Верный и нет его. С кем я теперь остался?
– Одиночества боишься.
– Кто ж его ждет, Господи Боже?! Его нормальные люди боятся. Болтать болтают, я, мол, в одиночестве хочу побыть… А как останешься один на один с собой, так волком воешь.
– Жениться надо было.
– Дурак ты, Степаныч. Не зли меня… Я любил свою жену. Любил. А любови много не бывает. Любови много только у самцов. Просто мне надо было раньше умереть. Вообще, Господь должен так устроить жизнь, чтобы жены мужиков хоронили, а не наоборот. Женщина, вот она может жить одна, ей с одиночеством легче справиться.
– Писателем давай становись. Статью про парк написал, теперь про любовь пиши… Кстати, парк мы не отстояли… Мы только что…
– Я все видел в окно, – махнул рукой из-под одеяла старик, прерывая речь соседа. – Видел, какой важной птицей выхаживала тетка с бумагой из администрации. Купил ее этот прохвост Анзор.
– Говорят, деньги дал и разрешение получил.
– Тут и сомневаться не стоит. Степаныч, может, мне сжечь бульдозер? Или сжечь ларек, как только он появится?.. Мне терять нечего. Я тут встретил во дворе Анзора, он пообещал жестоко расправиться со мной. Ты, мол, контуженный, мертвец уже. Так и сказал, паршивец. Приехал тут, командует, порядки свои устанавливает. Надо вообще-то мне его грохнуть… А то тычет мне – ты, мол, контуженный, ты – мертвец… Откуда этот слизняк может знать про контузию?!..
– В доме теперь многие знают, что ты героический танкист…
– Герой Колобанов, а не я. Кстати, у тебя дочка Галя обиделась тогда на меня. Ну, во время разговора о Колобанове, о Зиновии. Она поинтересовалась, почему Колобанову не присвоили звание Героя Советского Союза, а я обиделся тогда почему-то, не ответил. Так передай ей, если она будет материал писать, пусть зайдет ко мне. Я ей такой материал дам, она ахнет. Сегодня можно всю правду напечатать. Закон позволяет. Колобанову не присвоили звание, я тебе открыто скажу, по политическим соображениям. Тогда за политику могли расстрелять. И он, я тебе скажу открыто, ходил под трибуналом. Мужик был стойкий, правдивый. А бесстрашный такой… Первую звезду Героя ему давали за финскую, за прорыв линии Маннергейма. Он ее даже получил. Я видел на фотокарточке. Но тогда на участке фронта, где воевал Колобанов, случилась неприятность… Как только войну объявили оконченной, финские войска узнали первыми про это и кинулись к русским в окопы. Братание гремело на всю часть. А в это время на другом участке фронта еще шли бои. Вот тут Колобанова и схватили… Ты, мол, братался, с врагами, а рядом гибли наши люди. Чушь. Ну а тогда за это его хотели расстрелять. Славу Богу, отняли звезду да лишили звания капитана.
– В Отечественную, получается, он воевал старшим лейтенантом? – спросил Николай Степанович, заметив, как оживился лежащий на диване старик.
– Старлеем…. Под Ленинградом, когда подбил 22 немецких танка, он мог получить уже вторую звезду Героя. Но наши штабные крысы, политработники, припомнили ему финскую войну, братание, и вновь лишили награды.
– Несправедливо.
– Где ты видел справедливость? Человек дважды мог стать Героем. Он им и был. Но нашим властям нужны «проститутки». А еще им деньги нужны. Деньги для них все, это их бог. Деньгам они молятся. Есть деньги – будет справедливость, нет – выходит, и справедливости никогда не увидишь. Я тут, Степаныч, одну тайну тебе скажу, только ты не смейся и не говори своим…
– Если тайна, зачем тогда о ней говорить? – обидчиво заметил Николай Степанович.
– Я тут накопил денежек с пенсии…
– Ну, вот, ты мне про свои деньги сейчас тайны выдавать начнешь.
– Да не про деньги тайна. Про книгу. Я расписал за свою жизнь на пенсии, скажу тебе открыто, целую тетрадку. Ее, правда, малость мой Верный покусал… Не давал писать, рвался все гулять в парк. Это – мои воспоминания о войне. В ней о Колобанове вся правда, тютельку в тютельку… Я чего хочу тебе сказать… Давай с твоей Галиной, она же журналистка, издадим книженцию… Сейчас за деньги все можно напечатать. Я узнавал. Я хоть помру, а долг перед Колобановым исполню. Да и память о нем будет жить.
– Надо с Галей поговорить. Дело хорошее. Я уверен, она возьмется…
Николай Степанович еще несколько минут держал в напряжении старика, помогал ему отвлечься от бутылки и нахлынувшего горя. Ему многое нравилось в старике, почти все мысли он разделял. Единственное недопонимание жило в его растревоженной душе в эти минуты откровений… Отчего в нашей великой стране наши правители так несправедливы к своим великим защитникам?! Вот есть танкист, не раз горевший, уничтоживший не один вражеский танк, есть герой Иван Никодимыч… И наша власть все, что могла ему дать, – это работу простым шофером. А кем трудился после войны другой герой – Колобанов? По признанию Ивана Никодимыча, он работал на автомобильном заводе. Дожил до 1994 года. Похоронен в Минске. И все герои, и все праведники, и все честные люди – они крутили баранки, стоят и сегодня у станков. А всякая мерзость с портфелями под мышкой ходит по министерским кабинетам. Такую политику он не понимал и не принимал. Недавно Галя рассказала другую историю. Про военного летчика. Тоже герой. Но после войны, после того, как страна отстроилась, он стал работать шлифовщиком на станке. И как ни пыталась Галя разузнать у него, почему он не гнушался рабочей робы, почему не требовал должности какого-нибудь начальника, так и не добилась внятного ответа. Видимо, правда, другое было время, другие боги, другие ценности, другие люди.
Он оставил старика отдыхать за полночь. Взял с него слово – больше не пить. Для подстраховки бутылку самогона, стоящую у дивана, засунул в холодильник. Впереди их ждала работа над рукописью…
Николай Степанович тихим шагом пробрался в квартиру, разделся, лег осторожно под бок к жене. Ольга не спала. Поворчала, повернулась к мужу:
– Коля, тебя почти не бывает дома… Я тебя так редко вижу.
– Жизнь чего-то завертелась… Давай все бросим и поедем, отдохнем…
– В деревню!?
– Почему в деревню?
– Маша говорит, поедемте все в деревню…
Утром в доме Мазаевых размышления о поездке в деревню уже не вспоминались. Ольга Владимировна подливала всем домочадцам в чашки крепко заваренный зеленый чай, мазала на хлеб масло, подрезала колбасу и сыр, убывающие из общей тарелки.
Первой на учебу побежала Маша. У нее наступала пора зачетов, экзаменов. Она с тревогой ожидала их, волновалась, порой даже губы помазать помадой не успевала.
Шальной ветерок тотчас пробрался в ее светлые волосы, рассыпал их по плечам. На автобусной остановке ее ждал Денис. Она опаздывала, потому решила срезать дорогу через парк… Маршрут знакомый, опробованный, главное, надо смотреть под ноги, чтобы не запнуться, не упасть на землю. С ней такое часто случалось.
Неожиданно сбоку раздался знакомый разнузданный голос Анзора.
– Ну, что, красивая, поехали кататься! – сказал он, повторив слова какой-то песни, уже не раз повторяемой им. – Давай до училища довезу?!
– Я доеду сама, – вымолвила нехотя она.
Маша посмотрела в его сторону и… обомлела.