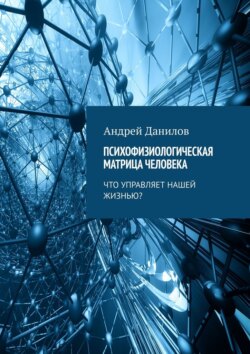Читать книгу Психофизиологическая матрица человека. Что управляет нашей жизнью? - Андрей Данилов - Страница 4
ЧАСТЬ I ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ
Глава 2 ИСТОКИ ТЕОРИИ
ОглавлениеСистемный взгляд на поведение человека как на сложное сочетание физиологических, эмоционально-когнитивных и социальных процессов в той или иной мере в науке присутствовал всегда. Другое дело, что доказательная база, служащая одним из основных критериев истины в науке, до определенного времени позволяла предполагать такой синтез, в общем-то, только умозрительно. Все это касается западной научной традиции, на протяжении почти трехсот лет существовавшей в жестких рамках редукционизма, изначально сформулированного Декартом и доказавшего свою несомненную эффективность на практике открытиями И. Ньютона, У. Гарвея, Ф. Бэкона и т. д.
Восточная научная мысль всегда существовала в холистической парадигме, рассматривающей любой объект как часть системы, связанной с ним тысячами невидимых нитей, оказывающей на рассматриваемый объект постоянное влияние и, в свою очередь, зависящей от влияния объекта. Однако психике человека, его экзистенциальным потребностям в коллективистских культурах Востока отводилось весьма скромное место. Индивидуализм на Востоке, пронизанном философией буддизма и конфуцианства, никогда не приветствовался, оставляя безусловный приоритет гармоничности связи человека с окружающим миром.
Так же обстояло дело и с восточной медициной, оперирующей абсолютно абстрактными, с точки зрения западного человека, категориями течения жизненной энергии Ци по определенным каналам и меридианам тела и видящей причину любой болезни в разбалансированности этого энерготока. Методы восточной медицины также существенно отличались от медицины западной: акупунктура, аюрведические препараты, специфический массаж, выглядевшие в глазах образованного и прогрессивного представителя западной цивилизации отголоском дремучей архаики средневековья с его травами, заклинаниями, ведьмами и кострами. Правда, при всем этом на практике восточная медицина была изумительно эффективна, дополняя, а иногда и превосходя методы западной медицины, так что к середине ХХ века наметилась слабая тенденция к мирному сосуществованию этих двух систем, в конце тысячелетия приобретя уже серьезный размах.
Этому, безусловно, способствовали впечатляющие открытия в области квантовой физики, зарегистрировавшие дуальность состояния элементарных частиц, способных одновременно существовать и в виде волны, и в виде частицы, влияние на их поведение стороннего «наблюдателя», невозможность точно зафиксировать одновременное положение частицы в пространстве и во времени и т. д. Это дало мощный толчок развитию теорий нелинейных и диссипативных систем, кибернетики, синергетики, теорий самоорганизации, хаоса, катастроф и множества других концепций, полностью изменивших парадигму научной мысли в конце ХХ – начале ХХI века.
Неопределенность, вариативность и изменчивость стали полноправными участниками научного процесса, и с этой точки зрения системный подход, объединяющий и синтезирующий отдельные части целого, получил долгожданную легитимность. Холизм Востока обрел рациональное объяснение, которое исчерпывающе можно выразить словами физика Д. Барроу: «Если говорить языком современной науки, на Западе господствует взгляд на природу как феномен линейный, где каждое явление, наблюдаемое в данное время в данном месте, обусловлено исключительно теми событиями, которые произошли несколько ранее где-то неподалеку. Холистический взгляд на природу, присущий народам Востока, такую примитивную линейность отвергает, поэтому в их космологии доминируют нелинейные возмущения, которые, взаимодействуя между собой, формируют чрезвычайно сложное целое. Не то чтобы восточный взгляд был неверен. Он попросту слишком опережал свое время. Только совсем недавно, вооружившись возможностями компьютерной графики, ученые стали описывать внутренне сложные нелинейные системы» [7, с. 31].
Такой глобальный переворот в научной методологии не мог не сказаться на науках, изучающих поведение человека. Первым шагом к синтезу физиологических и психических параметров стала теория И. П. Павлова, описавшего рефлекторные механизмы психофизиологических реакций [77]. Одновременно с И. П. Павловым, строившим свою теорию на изучении висцеральных реакций организма, прежде всего, слюноотделения, концепцию рефлексов развивал В. М. Бехтерев, сфокусировавшийся на моторных реакциях и изучении работы головного и спинного мозга. Именно он в одном предложении сформулировал мысль, которая, по моему мнению, является ключом к пониманию истинной природы поведения человека: «Психология не должна ограничиваться изучением явлений сознания, но должна изучать и бессознательные психические явления, и вместе с тем она должна изучать также внешние проявления в деятельности организма, поскольку они являются выражением его психической жизни» [12].
Влияние В. М. Бехтерева на развитие системного подхода во многом остается недооцененным. В основном этот перекос произошел из-за чрезмерной идеологизации учения И. П. Павлова, наиболее соответствующего, как казалось партийным функционерам, установкам марксизма-ленинизма, к которому сам великий ученый не имел никакого отношения. Теория В. М. Бехтерева оказалась в тени концепции И. П. Павлова, а между тем, он расширил свою модель психофизиологических процессов до более глобальных обобщений, выделив 23 закона механики, которые, по его мнению, универсальны в сфере неорганической и органической природы, а также в области социальных отношений [11].
Необходимо отметить, что в это же самое время А. А. Богданов разрабатывал концепцию новой науки, названной им тектологией [15] и призванной объяснить любое явление Природы на основе единых принципов. В. М. Бехтерев пришел к схожим выводам независимо от А. А. Богданова, став, таким образом, одним из «праотцов» общей теории систем, формальным основателем которой считается Л. фон Берталанфи.
Следующим этапом формирования системного подхода к поведенческому акту можно считать рождение теории функциональных систем, которую разработал ученик И. П. Павлова – советский физиолог П. К. Анохин. В этой теории он предложил считать организм человека системой, части которой кооперируются друг с другом для достижения полезного для всей системы результата [2]. Согласно данной теории, любое целенаправленное действие происходит на основе мотивации, формируемой физиологической или социальной потребностью. Эта потребность должна доминировать над всеми остальными потребностями, которые она подавляет. Далее запускается механизм реализации рассматриваемой нами мотивации в форме конкретного действия.
Это действие не может быть спонтанным, так как любая особь (животное или человек) имеет специфический набор индивидуальных программ достижения той или иной цели, и для выбора наиболее оптимальной реализации своей задачи система обращается к памяти, в которой хранятся все возможные варианты, актуальные для конкретного индивидуума. Выбор предпочтительного варианта действий осуществляется не только слепым копированием варианта, который, в схожих условиях, уже когда-то сработал. Мозг получает обратную связь от сенсорных систем организма, а также систем, наиболее значимых с биологической точки зрения – пищевых, болевых и т. д., и, обобщая всю информацию, выбирает оптимальную стратегию.
Все эти факторы определяют программу действия до того, как это действие будет совершено, причем П. К. Анохин утверждал, что весь этот сложный процесс происходит в одном нейроне мозга. Весь комплекс информации обрабатывается, приводится к единому знаменателю и запускает возбуждение аксона этого нейрона. Еще одним важнейшим компонентом поведенческого акта является формирование модели предполагаемого результата действия, с которой соотносится уже реальный результат реального действия. Если эти модели совпадают, действие завершается. В случае несовпадения или недостаточно полного совпадения весь цикл запускается снова, до момента достижения абсолютной согласованности.
Разрабатывая эту модель, ученый сформулировал принцип активности любого организма, который он назвал «опережающим отражением действительности». Согласно данной теории, «Внешние воздействия на организм (А, Б, В, Г, Д и т. д.), систематически повторяясь в течение определенного времени, вызывают в протоплазме живого существа определенный ряд химических реакций (а, б, в, г, д). Протоплазма получает возможность отражать в микроинтервалах времени своих химических реакций последовательность событий внешнего мира, которые по самой своей природе развертываются в макроинтервалах времени. Достаточно появления первого фактора (А), чтобы привести в активное состояние всю последовательность цепи химических реакций. Скорость химических реакций протоплазмы обеспечивает опережение организмом развертывания последовательных, многократно повторяющихся внешних воздействий. Это свойство Анохин расценивал как живой, универсальный и единственно возможный путь приспособления организма к внешнему миру. Вся история животного мира показывает усовершенствование этой древнейшей закономерности, которую П. К. Анохин называет опережающим отражением действительности» [86].
Теория П. К. Анохина представляет собой первую попытку приведения к единому знаменателю физиологической, психической и социальной систем, описывающей взаимное влияние организма и среды. Результаты своих изысканий П. К. Анохин опубликовал в 1939 году, и сейчас, спустя 80 лет, можно констатировать, что актуальность этой работы ни в коей мере не утрачена.
Немного позже, в 50-х годах, набирающее силу научное направление этологии – изучения поведения животных не в лабораторных условиях, а в естественной среде обитания, в лице его самых ярких представителей, нобелевских лауреатов К. Лоренца и Н. Тинбергена, предложило еще один принцип системности поведенческого акта. Двигательные программы, обладающие качествами целостности и завершенности, было предложено называть Фиксированным Комплексом Действия (ФКД), от английского Fixed Action Pattern. Вначале ФКД рассматривался как расширенная форма инстинктивного поведения животного, однако со временем этот принцип распространился и на поведение человека, включая и психический аспект его жизнедеятельности.
Д. А. Жуков пишет: «Человек приобретает и формирует ФКД в процессе накопления индивидуального опыта. Следует обратить внимание, что ФКД – это действие, а не только движение. Фиксированными могут быть как последовательности движений, так и психические стереотипы» [46, с. 143]. В части практической реализации ФКД этологи в целом повторяют схему, изложенную П. К. Анохиным, выделяя, однако, эмоции как ключевой фактор формирования этого сложного акта поведения: «На следующем этапе поведенческого акта совершается серия движений, в результате которых происходит некое изменение во внешней или во внутренней среде. Полученный результат, т. е. эти изменения, сопоставляется с ожидаемым. Эмоции снова играют ключевую роль: несовпадение или неполное совпадение результата с ожидаемым вызывает недовольство и прочие отрицательные эмоции, которые побуждают животное или человека либо применить другой ФКД, либо внести изменения в программу действия. В результате нескольких таких циклов полученный результат совпадает с желаемым; возникающие при этом положительные эмоции становятся сигналом для пополнения памяти. В нее помещаются сведения о потребности, состоянии внешней среды, сам ФКД, который привел к удовлетворению данной потребности, и сведения о его эффективности, т. е. о потребовавшемся количестве энергии и времени» [46, с. 146].
Изучая концепции системного подхода к феномену поведения человека, невозможно игнорировать еще одну теорию, автором которой является внучка В. П. Бехтерева, выдающийся нейрофизиолог Н. П. Бехтерева. Когда, уже сформулировав свой взгляд на закономерности функционирования этой сложной психофизиологической системы, которая управляет нашей жизнью, и назвав ее «Матрицей», я начал поиск аналогов моих взглядов, я обнаружил, что Н. П. Бехтерева, описывая свою теорию устойчивых патологических состояний, задолго до меня применила этот термин, связав его с формированием определенной структуры долгосрочной памяти: «Стабильность устойчивого патологического состояния, как и устойчивого состояния здоровья, связана с формированием соответствующей матрицы в долгосрочной памяти. Можно было бы себе представить, что речь идет, скорее, не о формировании новой матрицы памяти, а о перестройке существовавшей: этого нельзя ни исключить, ни подтвердить полностью. Важным в этой концепции является лишь само введение представления о матрице памяти, ибо только таким путем можно объяснить устойчивость нового состояния. Только формирование матрицы памяти обеспечивает преодоление состояния нестабильности, длительное существование в условиях которого сложно, а зачастую и несовместимо с жизнью. Представления о роли матрицы (метасетки) памяти в поддержании жизнедеятельности организма разделяют Ж. Барбизе, а также Д. К. Камбарова, В. К. Поздеев, М. М. Хананашвили.
Именно матрица памяти устойчивого патологического состояния на какой-то отрезок времени не только определяет, но и ограничивает колебания множества составляющих его компонентов принципиально таким же образом, как это происходит в условиях поддержания констант нормального гомеостаза» [13, с. 7].
Честно говоря, эти сведения меня очень обрадовали, так как они подтвердили, что, не обладая фундаментальными знаниями в области физиологии, я, тем не менее, иду в правильном направлении.
Итак, давайте в общих чертах рассмотрим теорию Н. П. Бехтеревой, которая формулируется таким образом: «Условием адаптации организма к среде при повреждениях мозга и организма является формирование устойчивого патологического состояния, поддерживаемого соответствующей матрицей долгосрочной памяти. Выход из устойчивого патологического состояния может идти не плавно, а через фазы дестабилизации, причем последние должны находиться под строгим лечебным контролем» [14].
Необходимо отметить, что в данной теории рассматривается формирование деструктивных структур в мозге, связанное с патологиями разной природы. По мнению Натальи Петровны, эти структуры создаются таким образом: «Мы полагаем, что при хронических заболеваниях приспособление индивидуума к среде происходит обычно не за счет восполнения пораженных звеньев из резервов мозга, а за счет формирования своего рода нового гомеостаза, нового устойчивого состояния. Оно формируется при перестройке активности очень многих систем и структур мозга, в том числе – что очень важно подчеркнуть – исходно непораженных. И очень нередко в клинической картине заболевания мы имеем дело прежде всего с проявлениями гиперактивности этих структур, а не с проявлениями собственно поражения» [13, с. 7].
При попытках воздействия на матрицу устойчивого психологического состояния (УПС) включается механизм сопротивления: «Матрица устойчивого состояния, обеспечивая иерархию и взаимодействие разнообразных реакций организма при устойчивом нормальном и устойчивом патологическом состояниях, являясь необходимым условием адаптации организма к среде, играет своеобразную негативную роль при лечебных воздействиях. Ее негативная функция определяется не только этим противодействием, но и ее ограничительной ролью, причем в последнем случае доминирует ограничительная роль ранее регулировавшей гомеостаз матрицы памяти. Закрепленная в памяти минимизация использования структурных возможностей мозга создает предпосылки для оптимального развития специально человеческой деятельности – высших функций мозга, при развитии устойчивого патологического состояния препятствует использованию потенциальных структурно-функциональных возможностей резервов мозга для компенсации функций. Дальнейший прогресс болезни может быть связан с увеличением количественных перестроек и истощением компенсаторно-гиперактивных систем. Уже в этом случае количественные изменения приводят к качественным сдвигам, хотя возможно и первично-качественное изменение течения заболевания в форме поражения новых структур и систем мозга. Это включает дополнительные системы и структуры в обеспечение устойчивого состояния – формирование следующего патологического состояния, еще более далекого от нормы» [13, с. 7].
Таким образом, согласно теории устойчивого патологического состояния, при возникновении отклонения от нормы, в мозге формируются определенные структуры, обеспечивающие приспосабливаемость организма к новым условиям существования. Со временем эти структуры стабилизируются, становясь привычными для организма, и при попытках воздействия на них с целью исцеления активно сопротивляются этому, истощая ресурсы организма.
Я достаточно подробно, с приведением объемных цитат автора рассмотрел эту теорию именно потому, что она имеет непосредственное отношение к теме этой книги. Абсолютно соглашаясь с Н. П. Бехтеревой в части описания формирования и структурирования механизмов УПС, я считаю, что это явление невозможно ограничить лишь функциями физиологии и рассматривать только как следствие поражения мозга.
По моему мнению, УПС, определяемое мной как Психофизиологическая Матрица, является стабильным состоянием каждого условно здорового человека. Его влияние, кроме физиологии, распространяется на сферу психики и социальных взаимоотношений, образуя устойчивые блоки единой системы, деформирующие исходные сознательные установки на счастье, здоровье и максимальную реализацию своего потенциала. И любая попытка трансформировать негативное воздействие этой системы на человека встречает ожесточенное сопротивление на всех уровнях формирования ее деструктивных установок. Как можно преодолеть это сопротивление, мы подробно рассмотрим в следующих частях этой книги.
Изучая историю формирования системного взгляда на поведение человека, невозможно не упомянуть о вкладе в этот вопрос великого австрийского психолога В. Райха, исследовавшего не только связь физиологических, психических и социальных процессов, но и задумавшегося о влиянии на эти процессы «оргонической энергии», объединяющей их, по его мнению, в единое целое. Можно по-разному относиться к этой стороне его деятельности, но его теоретические выводы о роли физиологических систем организма в формировании психологических паттернов, выразившихся в концепции «мышечного панциря», представляющего собой проекцию психологических блоков, на мой взгляд, бесценны. На практике эта теория воплотилась в создание направления телесно-ориентированной психотерапии, обладающей колоссальным эффектом и оказавшей огромное влияние на все методики, корректирующие психику посредством работы с телом.
Райх, к сожалению, не сформулировал ясной теории взаимосвязи физиологического, психического и социального компонентов жизнедеятельности человека, будучи увлеченным эфемерной энергией, идею которой отвергало научное сообщество. Но его гениальная интуиция прояснила многие закономерности, на основе которых эта взаимосвязь проступила более отчетливо.
Завершая данную главу, мы можем констатировать, что взгляд на многочисленные аспекты поведения человека с точки зрения единой системы, допускающей определенные обобщения и даже некоторое подобие алгоритмизации этих процессов, вполне допустим. Но, рассматривая физиологические, психологическо-ментальные и социальные процессы как единую систему, нам необходимо помнить о том, что любые, даже самые элегантные теоретические построения, могут очень серьезно корректироваться практикой.