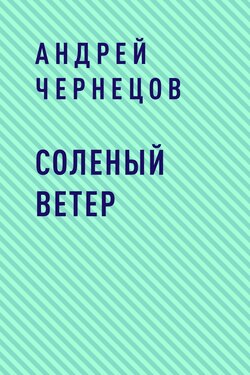Читать книгу Соленый ветер - Андрей Николаевич Чернецов - Страница 1
Оглавление1. Улица Гавена.
Сухой плющ украшает старые стены. Ветры изрыли теплый инкерманский камень. И весь он теперь покрыт норами мелких насекомых и жилищами пчел. Город разбежался и растянулся возле моря, в утесах скалистых берегов, в путанице промасленных бухт. Он поднимается на Холм Беззакония щербатыми лестницами и сбегает вниз козьими тропами.
Черепичные крыши утопают в крепких кронах тисовых рощ. Иглами вросли в небо нежные, стройные кипарисы и строгие пирамидальные тополя. Тесно прижимаются друг к другу старые, каменные дворы, полные кошек и рассыпанных по полу греческих орехов. Среди платанов ветер шелестит сухой листвой и разносит запах рыбачьих снастей и водорослей.
На рассвете море едва качается, объятое голубым серебрящимся туманом. В полдень набегает волнами на берег, сияет, подсвеченное золотым палящим солнцем. И только ночью становится самим собой, отражая блеск сигнальных фонарей, зажженных на рейде.
Днем за высокой решеткой видны борта военных кораблей. Желтое пиво в пузатых кружках пенится на исчерченных проклятиями и признаниями в любви деревянных столах. Морские офицеры в белой форме флегматично переставляют шахматные фигуры.
Белые стены равелинов наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестит в бойницах. Сквозь плиты пробивается настырная полынь. Чайки мокрыми лапами топчут чугунные шары, вышедших в тираж, пустых мин. Черные бока в разводах ржавчины. В трещинах камней извивается колючий куст держидерева. Алый сок ежевики на губах.
Таким запомнился мне Севастополь – город моего детства. Город абсолютного счастья. Город русских моряков. Когда же всё изменилось? Мы переехали в маленький, северный провинциальный городок. И всё пошло наперекосяк.
Мы ехали вдоль серых полей, с выжженными клоками земли. Вагоны поезда были исхлестаны дождем. Серые капли бежали по оконному стеклу. И все это словно было предзнаменованием наступающей катастрофы.
Мы прожили в этом сером городишке не более полугода и родители развелись. Я ходил в новую школу и мне там не нравилось. Я часто вспоминал нашу жизнь у Чёрного моря. Там я всегда был окружен разнообразными и доброжелательными людьми. Теперь я ощущал вокруг себя абсолютное безлюдье. Я не был влюблен ни в одну из девочек моего класса. Еще отвратительнее были мальчишки. Все они напоминали мне мелких, тупых, агрессивных обезьян.
Из школы я сбежал, сбежал в художественное училище. Закончил его, но работы в городе для меня не было. Нужно было мыкаться, выискивая заказы, батрачить на угрюмых, жадных, провинциальных кулачков. Это было отвратительно!
Мать и сестра с ее мужем не давали мне покоя. Я был даже рад за отца, что он сбежал из этого вертепа. Хотя бы один из нас был счастлив. И тогда я решил, что одиночество лучше, чем вечное сплетение в клубке взаимных обид, неадекватных и утомительных. Опостылевшие семейные раздоры почти довели меня до психического заболевания. Я больше не хотел быть ни их свидетелем, ни невольным участником. За окнами сеялся дождь. Казалось, что октябрь в этом проклятом городишке не кончается никогда. И в этот момент я решил накопить к лету денег и вернуться в Севастополь. Всю зиму я посвятил поисками работы и нашел приличный заказ на реставрацию старого храма.
Поезд протиснулся сквозь ущелье Инкермана. Казалось, меловые скалы подступают к составу так близко, что опасно вытягивать руку из вагонного окна – можно разорвать ее о несущиеся мимо камни. В вышине жарко горело солнце. Яркой триумфальной медью сияли оранжевые выступы, с вкраплениями малахитового мха на отрогах.
Поезд по дуге миновал маленький севастопольский вокзал и замер. Молодая луна низко висела над городом, и нежный свет её играл серебром в неглубоких лужах. Недавно прошел дождь. Пахло влажной южной порослью. И от этого кружилась голова.
Я расположился в привокзальном парке. Постелил на мокрую скамейку куртку и бросил рюкзак. Ночь не задержалась. Луна побледнела и выцвела, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Вместе с течением звезд ночь шла к рассвету.
Неподвижные облака чуть подернулись пурпуром. Над городом царила неподвижная, мечтательная и абсолютная тишина. Багряным веером лежала заря на тумане, который словно стекал с кустов и деревьев, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце.
Зашевелись дворники и служащие вокзала.
И вот уже сверкает над головой бездонное небо. Только в одном месте остановилась стайка облаков: мелких и тонких. От их пронизанной светом белизны веет недолгой, утренней прохладой. Легкий шелест идет по тисовым кустам, и уже назойливо звенят мошки, кружась перед самыми глазами. Тени акаций пляшут на белых стенах.
У милой, интеллигентного вида, старушки я снял небольшую хибару на отшибе улицы Гавена. Жилище не ахти, зато отдельный вход и небольшая верандочка с шезлонгом. Комнатушка, в которой я поселился, была под стать своей хозяйке. Здесь словно пересеклось несколько эпох. Древний, лакированный буфет царского времени вполне спокойно существовал с обоями советской эпохи. На подоконнике цвела азалия, и мохнатая пчела осторожно перебирала ее нежные лепестки. В открытое окно солнце напустило целую стаю озорных зайчиков, они отразились от зеркала, и весело скакали по обоям. Ветер проносился по комнате. Струи света бегали от ветра по стенам, перескакивали с вазы на золоченую раму, с рамы на лакированный бок буфета, били золотым веером по нежного цвета шторам.
Я подошел ближе к зеркалу, чтобы внимательнее рассмотреть удивительную раму. Она представляла собой целый венок из фантастических трав и соцветий, бледно окрашенных листьев и гроздьев винограда. Глубокой прозрачности зеркало отразило мою удивленную физиономию. Меня осенила догадка – венецианское стекло. Я осторожно прикоснулся к стеклянной гортензии. Она была матовой, словно присыпана пудрой. В полоске света цветок отливал нежным, розовым огнем.
Я достал свои припасы, выпил чаю из старинной чашки с золотым ободком. Откинулся в кресле и с удовольствием закурил папиросу. Пепел я стряхивал в завитую раковину рапана, покрытую окаменелой пеной. Мне показалось, что однажды утром, много лет назад, солнечный свет вместе с шумом прибоя упал в эту раковину и так в ней и остался на вечные времена. И от этой мысли, мне впервые за много лет стало легко и спокойно на душе. Я заснул.
Проснулся я уже вечером, и несколько минут широко распахнув глаза, оглядывал темную, незнакомую комнату, припоминая, как сюда попал. Осознание, где я нахожусь, снова наполнило мою грудь ощущением неизбывного счастья. Я вскочил с дивана, быстро ополоснул лицо в раковине, зачерпывая пригоршнями и брызгая в лицо холодной водой, и выбежал из дома.
Густые сумерки опустились на Севастополь, но до полной темноты осталось еще пара часов. Я решил использовать их с толком.
Гудок парохода прорезал ночь и гортанным эхом прокатился над городом. Я пробежался кривыми улочками, оставив в стороне Карантинную бухту. В теплом воздухе, в горьковатом запахе цедры и бальзамическом благоухании садов таилось необыкновенное обаяние юга, уже слегка забытое мной. Его особенная красота.
Я пересек 6-ю Бастионную улицу. Окунулся в наступающую ночь. В теплое дыхание эвкалиптов и секвой. Город не отвлекал меня блеском бурлящей ночной жизни, слепящими фарами машин, рекламными огнями ресторанов Артиллерийской бухты. Только слегка будоражил обоняние тонкий запах настоящего турецкого кофе. Нигде так хорошо не готовят кофе по-венски, как здесь в Севастополе. На секунду я чуть было не поддался искушению, и повернул голову в сторону сияющих заведений, уже предчувствуя на языке нежный аромат кофейных зерен, сладких сливок и ликера. Однако, стряхнув наваждение, я ринулся дальше.
И вот уже – Графская пристань. Я перелез через острия чугунной ограды. Над моей головой шумел-гремел посудою и дискотекою шалман. Но его суета не достигала меня. Вода черным гудроном блистала во тьме. Море шумело, звало меня к себе. Волны щелкали о каменный причал ракушками и голышами. На влажную пристань ложилась волна за волной, увитая белым кружевом пены. Мглистый вечер сливался с темным пространством воды. Морской прибой блестел, как черное зеркало, и в нем отражались звезды.
В детстве мы часто купались здесь. Сейчас пристань была пуста. Конечно же, никто из взрослых не осмелился бы здесь нырять. Я мгновенно сбросил с себя одежду, разбежался и, сгруппировавшись, врезался в воду, подняв фонтан бриллиантовых брызг!
Ночь опустилась над морем. Освещенные последними проблесками из-за горизонта, в лиловой дымке таяли облака. На другом берегу в рыбачьих домиках загорались огни. Темная пелена неба поднялась над Северной бухтой. Там садились ужинать усталые люди с шершавыми, морщинистыми руками, они только что вернулись из бухт, где ловили кефаль, бычков, скумбрию и чируса. Мгла воцарилась над слободками. Чёрная, непроглядная южная ночь с искрами светлячков во тьме.
На улицу Гавена я вернулся ближе к рассвету, справедливо полагая, что в непроглядной тьме южной ночи я просто не смогу отыскать свое новое место жительства. Я не спеша шел по старым кривым улочкам, то поднимаясь на очередной холм, то спускаясь по ступенькам из ноздреватого камня. Свежий ветер с моря трепал мои волосы, и они быстро высыхали в теплом севастопольском воздухе.
Я долго плутал, выбрав в качестве ориентира острую иглу минарета. Наконец свернул в улочку, которая показалась мне наконец-то знакомой. Деревянный темный дом стоял в саду, в зарослях крапивы. Кое-где сквозь ее резные листья выглядывали пунцовые мальвы. На столбе качалась лампочка, устроившая вокруг себя ажиотаж мотыльков и других мелких летающих обитателей южной ночи. Ветер шумел кронами акаций и раскачивал белые свечи каштанов.
Ночь была освещена громадной, страшной, черно-алой луной. Белым полем волновался бурьян в темной раме тисовых кустов. Кот, вышедший из зарослей, остановился, приподнял одну лапу, чтобы сделать еще один шаг, но так и замер на одном месте, уставился на меня сияющими, янтарными глазищами. Сверлил убийственным взглядом, как рыбак, у которого спугнули поклевку.
***
2. Знакомство на пирсе.
Вставать пришлось рано утром. Я побежал представиться в учреждение с жутковатым названием «Управление охраны объектов культурного наследия». Пожилая женщина долго рассматривала мои документы. Она словно прикидывала, можно ли мне доверить серьезное дело. Похоже, ни диплому, ни примерам моих работ, она всерьез не доверяла и рассчитывала только на свою проницательность. Ее взгляд жег меня, как рентген. Я уже всерьез начал опасаться лучевой болезни.
Почему то вспомнилась история с да Винчи. Нет, нет, упаси меня все что можно, я не сравниваю себя с великим Леонардо. Но случай вышел забавный. Да Винчи предлагал свои услуги герцогу Миланскому. В резюме художник написал: «Знаком с механикой, архитектурой, баллистикой, химией, астрономией, математикой, артиллерией, искусством вести оборону и осаду крепостей, пиротехникой, строительством мостов, тоннелей, каналов, а также могу рисовать и ваять наравне с кем угодно». Кстати, как утверждают его современники, Леонардо отлично пел, играл на лютне, сочинял стихи, музыку, гнул подковы, ломал в пальцах серебряные монеты, а также построил первый в мире летательный аппарат. Герцог Миланский долго размышлял, а потом махнул рукой, словно бросаясь в пропасть неизвестности: «Кажется, это человек способный». И велел принять Леонардо на службу.
Следуя правилу герцога, дама из отдела кадров, наконец лениво махнула рукой и сообщила, что я смогу приступить к работе не раньше понедельника. Это меня вполне устроило. Я помчался на пляж в Песочной бухте.
Это самое тихое место в городе – детский пляж. Утром на сером песочке в небольшом количестве расположились молодые мамаши и не очень – бабушки. По отмели бегали детишки в панамках. Измученные нарзаном отцы семейств тоскливо поглядывали в сторону шашлычных.
В маленькой бухточке не вода, а густой суп из медуз. На горизонте медленно пляшет ржавый сейнер. Небольшое пространство песчаного пляжа утыкается в лужайку, на которой цепкими корнями цепляются за твердую, крымскую землю изогнутые стволы держидерева. На бетонной основе маленькие кафе-чебуречные. Они рассыпают в воздухе соблазнительный аромат и отдыхающие, выбравшись из воды, по-утиному раскачиваясь на горячих каменных плитах, бредут осведомиться о ценах.
Как следует накупавшись и ощущая высыхающую морскую соль в волосах, я отправился на квартиру. Пока закипал чайник, я подошел к лакированной, книжной полке красного дерева. В приморских городах обожают писателей-маринистов. И, конечно же, здесь тоже были сочинения Стивенсона и монографии, посвященные войне 1854 года – первой обороне Севастополя. Мемуары флотоводцев. «Порт-Артур», «Цусима», «Фрегат «Паллада». Но мне больше приглянулся четырехтомник Паустовского.
Я наскоро перекусил и вышел на воздух. Благоухание цветущих южных садов охватило меня и повлекло по ступеням из ноздревато камня. Крымский строительный известняк. Из него изготовлены тропинки многих севастопольских улиц. Здесь их принято называть трапами, как на флоте.
С обеих сторон к трапам тесно прижались каменные дома, увитые плющом и виноградом. В раскрытых нараспашку окнах бурлила темпераментная жизнь. Горячая южная кровь давала о себе знать в выхлопах заливистого смеха и в бурных семейных сценах. Звенела посуда, заливисто лаяли псы на взлетающих на стены котов.
Я поднимался на Исторический бульвар, или как его здесь запросто называют Историк. Шумели на ветру кипарисы, весь в розовом сиянии цвел миндаль. Внизу лежала Южная бухта, а над лестницами вздымался к небу памятник Тотлебену в окружении, ощетинившихся штыками, грозных матросов. В Крымскую войну Тотлебен возглавлял инженерное прикрытие города.
Говорят во время второй обороны, в 1941-м немецкой артиллерией у памятника срезало снарядом голову. Однако даже немцы, уж на что фашисты и то проявили уважение к соплеменнику и выдающемуся фортификатору. Саперы вермахта дернули из порта пару наших сварщиков и по-быстрому приварили голову на место. Правда легенда утверждает, что впопыхах оккупанты присобачили инженеру голову одного из матросов, так что после победы советским скульпторам пришлось вернуть Тотлебену его заслуженную часть тела.
Дальше, на вершине кургана, среди рощ раскинулись бетонные бастионы. Я бродил среди траншей. Гладкие, черные, стволы чугунных пушек грозно возлежали на станках, нацелившись на севастопольские бухты.
Я прислонился к одному из орудий, его мощное тело хранило тепло солнечного, крымского полдня. Акации в цвету роняли под напорами ветра свои лепестки. Ворохи цветов с шумом, точно сухой прибой, мчались по мостовым, набегали на бордюры и стены домов
Расположившись на лавочке под гостеприимной, широкой кроной, я укрылся в тени от палящих и жалящих мою белую кожу, лучей и раскрыл пожелтевшие страницы. И на меня с них накатило тоже ощущение, что жило в моем сердце вот уже несколько дней. Автор шел теми же улицами и вдыхал бальзамические ароматы севастопольских дней. Он видел белую песчаную косу, и несколько хаток на ней. Распятые на просушку, старые сети в лохмотьях водорослей. Пляску байд на изумрудной волне.
Зачитавшись, я не заметил, как солнце сдвинулось, потеснило тень дерева и начало обжигать мои ноги. Только внезапно проснувшееся чувство голода и убавленный сумерками свет заставили меня оторваться от книги. Я потянулся, с сочувствием посмотрел на покрасневшую кожу ступней, и поплелся в кафе «Бастион».
Впереди были выходные, поэтому ночью я отправился на Парк Победы. В отличие от уютных бухт, этот пляж выходил в открытое море, рассекая многокилометровые, широкие волны, узкими волнорезами.
Когда минуешь бетонные стрелы пирсов, чувствуешь, как тебя пронзает волна длинной от одного меридиана до другого. Космическое расстояние нанизывает тебя, как нитка иголку. Я вышел на берег. Солнце ещё не побагровевшее с досады, что пора покидать сцену неба, сияло золотым пламенем. Самый искренний и ласковый свет. Я сплел ноги листьями лотоса, и вертел в пальцах гладкие голыши. Я не верю в эту чепуху с медитациями. Но если что-то нужно запомнить, можно долго смотреть, а потом резко захлопнуть ресницы, словно отбивая на матрице снимок.
Бетонные стрелы волнорезов. Редкие головки далеко заплывших купальщиков. И шорох волны, качающий тебя, уже нанизанного на нить.
Вокруг сияло море.
На следующее утро я отправился на маяк. К сожалению, подойти вплотную у меня не получилось. Путь преградил военный забор. И я любовался издалека, со стороны Казачки.
Маяк возвышался на каменистом мысу. Под ребристыми, оранжевыми утесами плескался зеленый прибой. Оттуда доносился шум волн, а дальше, до горизонта, безбрежной синей стеной стояло море, как необычайный, дивный и ясный сон.
Я вылез из воды. Было приятно ходить по сухим, теплым камням и оставлять на них мокрые следы. Следы эти высыхали на глазах. Рядом ползали суетливые крабы, забирались в брошенные раковины рапанов и гневно посматривали оттуда на меня круглыми глазами на тонких присосках. На берегу пахло йодистыми испарениями от водорослей и веяло свежим, ультрамариновым бризом.
На пирсе Казачьей бухты терлись боками разноцветные яхты. Паруса хлопали на ветру. Скрипели снасти. Старик, свесивший голые, морщинистые ноги с дощатого причала, был похож на бывалого шкипера. Думаю, он даже немного играл этот персонаж. Белая, выгоревшая фуражка, лихо заломленная на седой, коротко стриженый затылок, с сияющим крабом над погнутым козырьком. Выбеленный, изношенный тельник. Короткая трубка в пожелтевших от времени и табаку зубах.
– Вы шо-то тут позабыли молодой человек или просто так – любуетесь горизонтами природного ландшафта?
– Любуюсь, – признался я. – А кроме того, не могли бы вы мне подсказать: можно ли тут нанять небольшую лодку за сравнительно вменяемые деньги?
– Почему нет? Можно взять ялик напрокат. И в смешную цену.
– А где?
– Та вот прямо тут у меня.
Старик нехотя поднялся с нагретого пирса.
– Тут целый сарафан отдыхаек, а им сдавать лодку для катанья – только море поганить. Я так считаю. А вы я вижу человек с фантазией. Кем будете по профессии?
– Художник – реставратор.
– Достойная профессия. Художник? Маринист? Ну, да станете еще. Море – это болезнь, и я вижу, вы уже ей заразились. Это нормально. Я сам – всю жизнь на коробках. Куда только судьба не носила от Новой Гвинеи до Антананариву. И заметьте, не по Индийскому океану, а через Атлантику в Тихий.
Старик шел осторожно переставляя, видимо давно больные, ноги.
– Тебе на что ялик? Рыбалить или так покататься?
– Да, как придется. Вообще я хотел бы научиться, хоть немного управляться с парусной яхтой.
– Это можно. Научим.
Старик подвел меня к эллингу, который по виду был лет на сто старше моего провожатого. Дверцы покрылись рыжими разводами, доски разъела морская вода, ржавые шляпки гвоздей плясали в подгнивших отверстиях. Скрипнули петли и я увидел лодку. На удивление ялик был в полном порядке.
– Ключ здесь будешь брать.
– А как же с оплатой?
Старик подошел к пустой, пузатой морской мине и указал на отверстие в ее черном корпусе.
– Клади сюда бутылочку красной «Мадейры» и пользуйся лодкой. А захочешь побалякать, заходи в гости, вон мой кубрик, я тут сторожем состою при яхт-клубе.
Трясущийся морщинистый палец указал на зеленый, маленький как скворечник, мезонин торчавший неподалеку. Я согласно кивнул.
– Предлагали мне тут отдыхаек катать, там вроде и денег побольше. Нет. Не могу. Не люблю я пассажиров. Да и стар уже, в глазах – темная вода. А тут и к морю поближе, и спокойнее, и в свободное время приляжешь в каюте, почитаешь. Тут у меня собралась библиотека приличная. Заходи, полистаешь, полюбопытствуешь.
– Благодарю, я с удовольствием.
– Сейчас не часто встретишь человека с книгой под мышкой, – старик кивнул на томик Паустовского, который я прихватил с собой.
Земля белела под сверкающим, горячим солнцем. Зной и тишина. Только тихо накатывает прибой на камни, оттачивает гальку, доводит до совершенства.
– Кто не видел моря, тот живет половиной души, – вздохнул старый шкипер. – Ну, ты заходи, паренек, если что…
– А как вас зовут?
– Спросишь деда Игната, меня тут каждая собака знает.
Дед, ссутулившись, отчалил, а я отправился домой – на улицу Гавена.
***
3. Херсонес.
Вечером я отправился на Херсонес. Минуя кассу, я легко перелез через каменную стену, прошел лабиринтом каменных строений. В разрушенной греческой крепости готовилось какое-то представление. На лужайке окруженной древним известняковым амфитеатром была сооружена дощатая сцена. Я поднялся по лестнице и вышел на подмостки. Вдали звучали отголоски морского гула. Невольно захотелось прочесть что-нибудь из Шекспира на память, но к своему стыду на память я почти ничего припомнить не смог, кроме хрестоматийного: «Быть или не быть…»
Я прошел мимо гигантского колокола, обнял колонны древней базилики, облитые медью заходящего солнца. Поклонившись, миновал дверной проем в разрушенной стене, с причудливой кладкой.
Лестница, которая помнила еще шорох эллинских туник и оттиски римских сандалий привела меня к морю. Гладкие голыши качались в белой пене прибоя.
Неподалеку от берега скалистый утес погружался в сумерки и вскоре совсем в них исчез. Сухие стволы держидерева цеплялись за уступы в щебенчатой земле. Пахло нагретым камнем и сочной листвой тиса.
Я вошел по пояс в теплую, но свежую воду. Рядом со мной на волнах плавали отражения звезд. Я пошел глубже и всем телом почувствовал ласковое, но мощное движение моря. Оно едва заметно колебалось. В сумраке южной ночи благоухали левкои.
Смыв с себя пыль долгого дневного перехода, я уселся на травянистом обрыве. В гуще ночи, внизу рокотали волны. Долетал запах мокрых ракушек. Белыми клочьями летела пена на мокрый гравий. Потемневшее море подернулось мелкой рябью.
Задремавшие усатые колосья шуршали между моих ног, среди белой травы алел багульник, чуть покачиваясь, издавая тонкий аромат. И над всем побережьем стояло благоговейное молчание.
С моря стали наползать облака. Засвежело, стало легче дышать. Вдруг по краю неба рассыпались белые трещины молний, эхом аукнулся вдалеке гром. Но дождя не было, черная туча шла стороной. Тихую задумчивость и грусть навевал облачный, серый вечер.
Согретая за день земля дышала влажным теплом, запахом прошлогоднего бурьяна и ароматом молодой зелени. Под синей фатой надвигающейся ночи древние руины приобрели сказочно волнующий вид. Как бальзам струился вечер. И было легко.
Развалины на скалах. Серые стены с жёлтыми выступами и малахитом лишайника. Не всегда можно угадать, где кончается древняя кладка и начинается первозданная порода ракушечника и песчаника. Под ногами шуршат перламутровые осколки мидий, мелкие обломки черепков, обточенные тысячелетними волнами голыши.
Среди стен Херсонеса до сих пор находят уникальные вещи, которые произвели на свет мастера задолго до нашей эры. Древние светильники с гербом города Ольвии, который построили выходцы из Милета перебравшиеся на берег Черного моря и назвавшие это место – раем. На покрытой патиной меди распростер крылья орел, парящий над дельфинами. Бронзовые, свинцовые и золотые монеты. Их привозили из метрополии. На древней чеканке названия исчезнувших городов: Неаполис, Ольвия, Пантикопея, Родос, Фанагория. Мраморные статуи. Белый камень с изображением кривого виноградного ножа, как утверждает легенда – памятник рабу.
Когда-то Херсонес был форпостом древней Эллады на дальних берегах. И Черное море называлось Русским или Понтом Эвксинским, что значит – Гостеприимное море. А Крым именовался Киммерией.
Херсонес вел торговлю со всем античным миром. Но однажды великая языческая культура была сметена ураганом варварства. Здесь воцарился мрак христианства.
Среди верхнего слоя раскопок, однажды нашли мраморную голову юноши. Очевидно, творение великого мастера жившего до нашей эры. Она была покрыта коростой окаменелой пыли. Кто-то из диких обитателей времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену своей халупы вместо строительного камня.
При виде этой обезображенной головы невольно вспомнишь о бесчеловечном, разрушительном давлении христианства, о серости и тупости, которые пришли на смену солнечным культам древности. Но прошлое не кануло в Лету. Ибо культура – есть память.
Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчание воды в подводных пещерах. Море словно бормотало во сне. Я вспомнил, как однажды еще мальчишкой сидел здесь в конце лета. Тогда я заметил то, что заставило меня приподняться и встать в полный рост на темном берегу. Это явление я видел впервые, хотя и много читал о нем.
Дело в том, что на море не бывает осени. Весной блеск и звенящий поток ликующих звуков охватывает весь залитый солнцем простор. Яркий ковер свежих красок, полон сказочных образов и соцветий. Расстилается всходами зеленая долина. И по ней словно разбрызган пестрый узор: пурпур, золото, бирюза, алый бархат, среди сизых пучков густо пахнущей полыни. Ветерок вздыхает над степью. И стелется над кустами чертополоха золотистая пыль, алмазными гранями сверкая на солнце. В оглушающей тиши только жаворонки за черной пашней рассыпают заливистые трели. И плывет теплое марево над волнистой ширью трав, над редкими в кронах садов крышами, среди далекого и вольного простора. Молодая весна, весна родины, привычная и знакомая, вдруг открывается в этот миг перед человеком в новой, невиданной красе.
В апреле солнце поднимается с каждым днем все выше над морскими просторами. На берегах расцветает миндаль и акация. Верхний слой воды нагревается. В нем стремительно разрастется бурная жизнь. Это размножается планктон. Каждую весну море заполняют диатомеи – микроскопические водоросли. И тогда море приобретает сказочный оттенок, словно набросив волшебный, сияющий шлейф. Оно словно светится изнутри неоновым блеском. Только это свечение – живое и теплое, как голубой огонь, сияющий под покровом волн. Это первозданный свет творения, который исходит из колыбели жизни – мирового океана. Когда-то космические силы, используя температуру и давление, создали в природной лаборатории теплых глубин, новые виды, вдохнули жизнь, а затем и разум в обитателей этой планеты.
Наступает лето. Морская толща плохо проводит тепло. Нагретая вода лежит сверху слоем на пластах холодных и темных глубин. И эти слои не перемешиваются. Все может изменить только могучий шторм. Но летом их почти не бывает. Только осенью море быстро охлаждается. Бури перемешивают воду. И море сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Вода насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона – вторая морская весна. В конце лета море опять цветет.
В эти месяцы с сентября по октябрь вода становится темно-зеленого цвета, и только песчаные отмели, где водорослям не за что укорениться, белеют островками под светлыми волнами. Заросли поднимаются со дна, и все побережья завалены гниющей, морской травой. Так и происходит здесь смена времен года: зима, весна, лето, а потом вторая весна и снова зима.
После второй весны приходит черноморская зима. Серые, холодные волны штормов бьют о берег. Водоросли увядают и глубины замирают в безжизненном сне. Черноморская рыба: скумбрия, макрель, чирус уходит в теплое Средиземное море. Планктон умирает, и море превращается в хранилище ледяной воды. Норд-ост, или если сказать более экзотично – бора устраивает страшные ураганы по всему Черному морю. Разрушительная сила этого ветра так велика, что он может вырывать с корнями деревья, переворачивать многотонные грузовики, ломать стены и опрокидывать на землю людей. Над прибоем стелятся туманы. Снег ложится и тает на волнах. Жизнь замирает по всему побережью в ожидании лета.
Прошуршал ветерок в кронах туи, набежал прохладной струей. То ли туман, то ли пыль поднималась над комьями каменистой земли. Звенело в ушах, как будто далекий детский крик, но нет никого. Теплая, прибрежная, неподвижная тишь висит, колдует над полями и степью…
Мне показалось, я задремал. Мне снилось сияющее море, полное диковинных водорослей, организмов и рыб. Сквозь бесконечные просторы космоса летел луч абсолютного разума и зажигал островки сознания на далеких планетах, обрастающих атмосферой и водяным покровом. В теплых волнах рождалась новая жизнь и стремилась к зеленеющей на горизонте суше.
Я встал и потянулся. Легкий утренний озноб пробежался по всему телу после сна на берегу. Нежным пурпуром окрасился горизонт. Солнце показалось над волнами. И я увидел стаю дельфинов. Они неслись, как легкий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Когда перед его носом кипят пенные буруны, а вдоль бортов расходятся многоярусные, морские волны. Дельфины резвились и перепрыгивали через малахитовые, водные гребни. Подставляли восходящему солнцу влажные, блестящие, серые бока. Дельфины шли к берегам.
***
4. Странная встреча.
Скрипнул стол. Старая зеленая скатерть, с материками вытертой ткани, с проплешинами истлевших нитей. Оранжевая лампа, раздающая уютный свет и собравшиеся в углах комнаты тени. Нежный скрип половиц. Шелест листвы за окном.
На бежевых обоях широкий квадрат картины. В сияющей медной раме из витых ракушек, на холсте – лазурное море и яхта под кипельно-белым парусом, что проходит между мысом и маяком.
Я всегда мечтал купить яхту и отправиться в кругосветное путешествие. Однако денег, которые я мог здесь заработать, едва хватило бы на проживание и стол. Поэтому мечты пока оставались мечтами, но периодически я высчитывал, сколько мне нужно откладывать, чтобы накопить на небольшую лодочку под парусом.
Ночь миновала. Утром я отправился на базар купить фруктов. Надел бледно-песочные шорты и красную футболку с надписью «СССР». На углу меня тормознул незнакомый парень: майка-алкашка, худые, загорелые плечи, побелевшие на солнце волосы и прозрачные, добрые глаза местного лыгана.
– Закурить не будет?
Приятно, когда зажигалка освещает хорошее лицо. Парень поблагодарил и кивнул на алую футболку, где белым светом сияла аббревиатура: СССР.
– И я когда-то жил в этой стране.
– Теперь это – история.
– Ты шо приезжий?
– Да, но я жил тут когда-то.
– Та ты шо! – искренне обрадовался незнакомец. – А хде?
– На Хрусталях.
– О-па! Вот это я прозрел! Так выходит мы – земляки. И я – с Хрусталей. Ты ваще чем тут заниматься думаешь? Отдыхать?
– Нет, я поработать приехал.
– Та ты шо! И шо за работа?
– Надо тут храм один отреставрировать. Историческая ценность, ну и типа того…
– Ты шо, реставратор?
– Ну-да!
– Вот это номер! Меня Буга зовут. Бугенс.
– Бугес?
– Ну, буги-вуги. Бугенс. Слушай, а ты шо тут потерял?
– Хотел фруктов купить.
– Та какие фрукты. Забей. Давай я тебя угощу.
Но по факту это мне пришлось его угощать.
Сначала мы двинулись на 5-й километр, а потом на автобусе рванули по пыльному Балаклавскому шоссе до самой бухты. Мимо пробегали виноградники и персиковые рощи. Говорят, что в переводе с тюркских языков Балаклава, это что-то вроде «рыбьего гнезда», а еще слово созвучно с баклавой – так называют слоеное греческое печенье на меду. По моему здесь хватает и того и другого – и соли и меду.
Прошуршал ветерок в сухом кустарнике, набежал легкой прохладой, и опять зной неподвижный, тяжкий, чуть колыхающийся. Пыль поднимается под колесами от разбитых комьев земли. Жаркая, недвижимая тишина распростерлась над персиковыми рощами. Голубой кромкой сияют горы вдалеке. И над всем полем, горами, рощами и виноградником сияет свет золотой и ясный. Царит благоговейное молчание.
В Балаклаве мы выбрались из автобуса и пошли пешком. Взяли молодого белого крымского вина. В полулитровых бутылках, в которых обычно продают пиво или лимонад, закрытых железными крышками. Алкоголь почти не чувствовался, пьешь будто прозрачный виноградный сок, но идти стало значительно веселее.
Морская гладь – чистый ультрамарин. Волн ни высоких, ни малых, и ровно сияет поверхность. В глубине между мутно-зеленой бахромой водорослей оживленно снуют крабы и мелкая рыбешка. Словно в медленном танце, качаются раковины мидий. У причалов стучат бортами яхты, катера и ялики.
На скалах желто-оранжевый известняк пробивается из буйного покрова вечнозеленых кустарников. Наверху генуэзская крепость. Бухта наглухо закрыта от ветров и бурь высокими отрогами. Два выбегающих мыса и узкий заход в гавань – лучшее место для стоянки кораблей.
Не к этим ли берегам приставал корабль вечного скитальца Одиссея? Известняк под ногами хранит следы скифской конницы и оттиски римских сандалий. Высушенный солнцем грунт, словно спрессованный прах поколений. Караимские кладбища и белогвардейские клинки, осколки греческих амфор и ржавая немецкая каска. Как-то в детстве гуляя по виноградникам в окрестностях Балаклавы, мы нашли французскую пуговицу времен первой обороны…
Незаметно истлел день. Мы вернулись в город. Сумерки, как всегда внезапные и решительные на юге, обрушились на город. Среди благоухания акаций зацвел едва заметный аромат марихуаны.
Мы зависли в каком-то парке, на лавочке. Пытались найти общих знакомых. Я вспоминал имена одноклассников. Впрочем, без особого успеха, много времени прошло. Хотя, по-моему, Бугенса это не расстроило. Казалось, он не жаждал пополнения нашей компании. Каждый раз, когда он рассказывал про кого-то из своих экзотических знакомых, и я проявлял к этой личности интерес, Бугенс сразу, резко обрывал рассказ.
– Та там такое… У него дома реально музей. Целая коллекция. Там каски разные: немецкие, французские, румынские…
– Слушай, а может сгоняем к нему в гости? Интересно все-таки.
– Та он на Летчиках живет, это ш Бермудский треугольник.
– У тебя что дел навалом?
– Та ну, это маета. Давай лучше еще по пивку зацепим. А помнишь какие пельмени были на Гоголях?
– И еще там вареники вкусные делали.
– Что-то я стал зябнуть. Не послать ли нам гонца….
– В магазин без продавца, – закончил я за Бугенса очередную севастопольскую коронку.
– О, да ты местный! Выкупаешь?
– О то ш!
– У меня щас такое кино. С женой не живу, только наведываюсь в гости. Она там у мамы забаррикадировалась, короче военные действия по полной программе.
– Так может, прокатимся пока к твоему товарищу-коллекционеру, я бы заценил его раритеты.
– Оно тебе надо?
– Всегда мечтал заиметь австрийский штык.
– Та не – без мазы. Он такой знаешь… Ноу тауэр.
– Это что значит?
– Без башни.
Я все понимал. Это такая милая курортная афера. Обаятельный лыган знакомит оккупанта с местными достопримечательностями. И по ходу разводит доверчивого туриста на угощение. Бугенс понимал, что я располагаю ограниченным количеством наличности и могу угостить одного, много – двух упавших на хвоста. И каждый новый прибывший персонаж уменьшает дозу дешевого пойла, на которое рассчитывал Бугенс.
Я не обижался на Бугенса. Просто было немного жаль, что он променял сокровища своего острова на мутную, тусклую жижу из ближайшей пивной.
– Давай тут через рынок срежем по сократу, – сказал Бугенс оправившись.
Возле рынка, который уже закрывался, топорщили локти трое мускулистых, загорелых парней. Они оценили меня пристальными взглядами. А я как назло в этот день вырядился: светло-песочные армейские шоры, яркая футболка, кипельно-белая кепочка. Ну, вылитый денди.
У пацанчиков был похожий гардероб. Светлых тонов шорты и рубашки-поло, белоснежные кепочки с лихо согнутыми, по-хулигански, козырьками. Сияющие в темноте кроссовки. Один из них посмотрел на меня с уважением. До меня долетели обрывки беседы.
– Шо ты мне гонишь?
– Я тебе говорю – фонарь. Шо покурил, шо радио послушал.
– Ну ты исполнил!
Тот который оценивал меня на расстоянии, жестом прервал разговор.
– Смотри-ка – Бугенс!
– Здорово, Сильвер, – Бугенс смело направился к парням. Пожал им руки. Сильвер ответил на его рукопожатие открыто, с едва заметной усмешкой, остальные двое скривили рожи.
На общем фоне Бугенс в своей растянутой майке непонятного цвета и трениках с пузырями конечно же выглядел не очень импозантно. Он явно вызывал недоумение, и это недоумение отчетливо светилось в глазах незнакомцев.
– Ты щас на Хрусталях обитаешь? – спросил Сильвер.
– Та когда как, – Буга уклонился от прямого ответа.
– Ты с женой живешь или как?
– Та она у тещи сейчас. Сильвер, у меня такая дочка. Ты ее увидишь – проорёшь! Заходи в гости, как-нибудь.
– Не, я не с Ушаковской балки.
– Ну, или к бабке моей закатывай. Помнишь, где ее халупа?
– В том доме еще матрос Кошка жил.
Парни примирительно усмехнулись.
– Заходи, пофестивалим, как в юности.
– Че-то ты интригуешь, – усмехнулся Сильвер. – А это кто с тобой?
– А это мой дружище – художник. Он сам – с Хрусталей.
– Что-то я его не помню.
– Та он в детстве там жил, потом переехал.
– А ну тогда понятно. Ладно, Буга, пока. Ты бы тут по темноте не шароебился.
– Та мы всё, уже отваливаем. Ну, все до свидания, давай!
– Давай, я позвоню тебе, гуд бай!
Когда мы отошли, я слышал, как кто-то из пацанчиков спросил Сильвера о Бугенсе. До меня ветром донесло ответ.
– Та, так. Дешёвый артист.
Бугенс похоже этого не слышал, он кажется даже был рад этой странной встрече.
– Знаешь кто это? Сильвер!
– Пират? – усмехнулся я.
– Зря смеешься. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.
Я счел за лучшее промолчать.
– Сильвер – серьезный пацан, – продолжал Бугенс. – Это он со мной так запросто перетёр, потому что мы в фазанке с ним вместе учились. Потом нас обоих погнали. Меня за пьянку, а его… Та шо короче долго рассказывать, то древняя история.
– Слушай мне пора, – оборвал я поток его воспоминаний. – Не подскажешь, как до Гавена лучше добраться.
– Та вон топик летит. Ныряй. Ну, давай, не пропадай! Заглядывай на Хрустали, проведай малую родину. Пока!
Топик действительно летел и минут через пятнадцать я уже нежился на прохладных простынях.
***
5. Шторм.
Порыв ветра зашвырнул в открытое окно пригоршню высохших лепестков и заколыхал шторами. Это означало, что пора вставать. Я помчался на кухню и через минуту воздух в комнате наполнился щелканьем разбитых яиц, ароматом пригорающего масла, жареных помидоров и укропа. В кружке темнел круто заваренный чай.
Нервно перебирая мелкими листьями, заволновались акации, покачнулись их белые гроздья. К дыму кухни примешивался запах отцветающих мандаринов. Кто-то из соседей выставил на подоконник кадку с экзотическим цитрусовым деревцем.
Под потолком от проникнувших в комнату солнечных лучей зажглась отключенная старая люстра. Ее подвески были сделаны из полупрозрачного, дымчатого стекла. По вытертым обоям забегали зайчики, отскакивая от кривых оконных рам. Ветер раздувал кремовые занавески, играл тюлью, и люстра поблескивала, как богемский хрусталь, отражая живой утренний свет.
На новом месте работы мне очень понравилось. Ленивые плотники приходили часам, к десяти и сразу садились завтракать. До обеда они обычно успевали сколотить одну секцию лесов, а потом снова кушали и погружались в золотой сон сиесты. Часам к трем рабочие начинали постепенно исчезать. Их ежедневная трудовая вахта больше походила на итальянскую забастовку.
Я знал, что храм, который предстоит реставрировать, не принадлежит церковной администрации. Здание было закреплено за местным управлением культуры. По счастью храмовники не успели наложить на помещение свою жадную лапу. И все-таки я опасался, что придется общаться с попами, выслушивать их елейные, лицемерные проповеди и смотреть в их алчные, сальные глазенки. Однако, обошлось. Иногда с инспекцией приезжала все та же усталая женщина из «Управления охраны объектов культурного наследия». По счастью, долго она не задерживалась. Часам к четырем я обыкновенно бывал уже свободен. Иногда я просто показывался на работе для галочки, договаривался с бригадиром, что он меня прикроет и исчезал с самого утра. После этого я мчался в Казачку к деду Игнату. Там я рыбалил с его лодки, а когда у деда было время и настроение, он потихоньку учил меня парусному делу. Я начал с грехом пополам управляться с такелажем и уже отличал грот от стакселя. В качестве гонорара деду Игнату, я оставлял возле ветхого эллинга, в полости старой морской мины бутылку красной «Мадейры».
Темный берег с рыжими проплешинами песчаника. Над ним утесы с прозеленью мха. Море накатывается на пляж и шуршит галькой. Волны сияют на солнце и пестрят всеми спектрами ультрамарина. Возле берега, они под цвет прибрежному камню – серые, с бурунами белой пены на загривках, потом голубые, бледно-зеленые, малахитовые и наконец вдали ярко синие.
Подкрашенные водорослями, зеленоватые маленькие волны плещутся о маслянистые сваи бревенчатого пирса. Качаются мачты яхт. Вспухают на ветру паруса. Запах железных бортов, заросших по ватерлинии бахромой водорослей, смешивается с ароматом жареной кефали. Голубой простор, лазоревые дали. Небо и море, и парус на границе синих вод.
Я пробирался мимо пирсов к деду Игнату. Решил порыбачить. На этот раз оделся попроще. Натянул истертую, с бахромой на рукавах, легкую рубашку в оранжево-коричневую клетку. Нахлобучил на голову старую, заляпанную краской панаму-афганку.
С моря нахлынул туман. От него отсырела трава под эллингами. Сквозь белое марево просвечивало солнце. Дед Игнат сидел в своем скворечнике, свесив больные ноги с дощатой площадки. Я окликнул его, он просемафорил мне ответное приветствие и жестами напомнил, как я должен расплатиться за ялик. Скинул сверху ключи от эллинга.
Я подошел к старой, пустой, морской мине, которая вздулась черным боком под каменным сараем. Одним рогом она была намертво закреплена. Приподнял свободный бок и просунул в отверстие бутылку красной «Мадейры». Хитрость деда Игната была мне понятна, мина находилась все время в прохладной тени каменной стенки и на треть была погружена в воду – естественный холодильник для напитков.
Я подошел к эллингу и отомкнул замок. Вывел лодку и закинул весла. Волны бесшумно выходили из тумана, набегали на берег и так же беззвучно снова уходили в молочную дымку. Мертвые морские коньки валялись на прибрежной гальке, их ворошили назойливые крабы. Вершина маяка запуталась в облаке. В утреннем мареве отчетливо слышались отдаленные голоса и гудки пароходов на рейде.
Пришлось поработать веслами. По утру – это лучше любой зарядки. Я вышел на свое привычное место, возле небольшого островка. В тихую погоду я подходил к каменистому берегу, где торчал ржавый борт брошенного катера, привязывал шлюпку к железной решетке и удил с борта рыбу.
Сегодня я запланировал поймать хотя бы парочку жирных скумбрий. Но попадались почти одни бычки с широкими черными мордами. Иногда клевала лупоглазая ставридка. На молу со стороны порта было тихо, но за спиной гремело море, изредка окатывая меня пенными брызгами.
На всякий случай я закрепил снасти бечевой. Солнце пригревало сквозь туман и рубашку. Я стал потихоньку задремывать. Ветер гнал мутноватые волны, белесая мгла клубилась на горизонте. Тень от лодки качалась на волнах. Небо на юге синело, слабый туман курился над прозрачной водой. Было так тихо, что стук весел о борта гулко разносился над поверхностью вод.
Не знаю, долго ли я проспал, но когда проснулся было душно, темно и беспокойно. Лазурь подернулась серой завесой. Влагой набухли облака. Густая муть вздымалась над морем. Затмили солнце грозовые тучи.
Я сидел спиной к открытому морю и неожиданно услышал тихий набегающий гул. Я оглянулся. Резкий ветер гнал обрывки грязных туч. Мгла висела над горизонтом. В ней ярко блеснула молния. Небо, словно изорвано в клочья.
Вдруг по краю неба рассыпались белые трещины молний, эхом аукнулся гром в назревающей темноте урагана. Волна хлестала в утесы, и удары ее становились все тяжелее. Чайки заметались с испуганным криком.
Вода вокруг сразу почернела и подернулась зыбью, словно кожа от холода мурашками. Я отвязал от решетки конец веревки и налег на весла. Налетел шквал. Меня обдало ледяными брызгами. Ветер стремительно свежел, и вскоре волны начали захлестывать ялик.
Твердые капли дождя защелкали по банкам. Серое и мутное небо раскололось грохотом.
Я оглянулся назад. Шторм бил в окна низких портовых зданий. Море, разрезанное бетонными молами, набрасывалось на берег. Бушевало пенными брызгами. С оглушающим грохотом обрушивало гигантские волны. Расшвыривало прибрежную гальку и вырванные с корнем водоросли. Уносило с пляжа разный сор. В гневе своём стараясь очистить берег даже от тени человеческого присутствия.
Залив покрылся мрачною мглой. Гул ветра и грохот морского обвала. Тяжелый дождь шумел по улицам. Горы дымились. Я вглядывался в мутный шквал, обрушившийся вокруг, наискось бивший по пристаням и пытался рассмотреть, что творится на берегу. Но тут сорвался ливень и закрыл все мрачной стеной.
На море так бывает часто, ветер начал поворачивать, задувать от пристани, и меня стало сносить в открытое море. С шумом и плеском рушились волны. Быстро стемнело. Вдали мутным светом зажегся маяк.
Мокрая рубашка прилипла к телу, сковала движения. Руки с непривычки ожгло. Работая веслами, я сорвал с ладоней кожу. Когда я снова оглянулся, маяк горел уже вдали.
Я утратил ощущение времени. Всем телом наваливаясь на весла, я старался приблизить лодку хоть на дюйм к спасительному берегу, но берег только удалялся. Стремительно наступала ночь. Тяжелая тьма гудела и бесновалась вокруг. Я с трудом различал, что творилось вокруг.
Я греб и выл от напряжения и ужаса. Мокрые волосы застилали лицо. Тяжелые, соленые капли выжигали глаза. Но это не имело значения, все равно ничего не было видно. Стоило мне хоть на секунду перевести дух, и тугой напор ветра отжимал лодку дальше в открытое море.
Я оглянулся и выругался: маяк едва заметно светил в ночи одинокой звездой. Меня быстро сносило, и у меня уже не было сил, чтобы сдвинуть лодку против неистового, шквального ветра. Тут я заметил, что на дне ялика уже набралось порядочно воды. Я схватил ковш, зачерпнул и начал отливать воду за борт. Меня охватил отчаянное упорство.
Когда я поднял голову, свет маяка едва цеплялся за кромку горизонта. Я взялся за весла и начал грести, стиснув зубы, упорно и равномерно. Странно, что мою лодку до сих пор не перевернуло очередным шквалом. В кромешной тьме я уже не видел, куда направляю движение. Меня охватило странное отчуждение, и я работал скорее механически, инстинктивно сражаясь за жизнь. Я греб навалясь на весла всей тяжестью своего истерзанного тела. Я ругался сквозь зубы, проклинал и небо, и землю и море. Казалось, обрушившаяся ночь никогда не закончится. К небу взлетали столбы черной воды и пены. Ялик бросало из стороны в сторону, словно лист, попавший в водоворот.
Внезапно вспыхнула молния, и я увидел в белом блеске небольшой пустынный остров, почти утес, полностью облитый водой. Напрягая все жилы я пытался направить лодку к нему, но уже не было сил, и ялик не подчинялся моей воле, его кружил морской, штормовой вихрь.
До островка оставалось всего несколько метров, и я принял решение. Рискнул. Выпустив весла, я поднялся на дрожащих от напряжения ногах и прыгнул за борт. Я мог разбиться о прибрежные камни или не вынырнуть из-под толщи бушующих волн, но тогда я об этом не думал. Пустой ялик бросило на облитые пеной выступы, и я увидел, как его в щепки разнесло волной об утес.
В небе гремела симфония шторма, свистящего ветра, раскатистых ударов гигантских волн о скалы. Несколько размашистых движений в ледяной воде и я судорожно уцепился за камни. Обдирая руки, я выкарабкался на островок, ступая среди хищных, изъеденных морем обломков гранита. Волны яростно били у меня за спиной, накрывая брызгами все пространство утеса. Я лежал вцепившись в грунт, словно зачарованный этим зрелищем.
Казалось, тяжелые волны таили в себе падающие звезды. Они сияли нездешним светом, летели наискось, пылая темно-красным мутным огнем. Перед тем как ударить в скалистый берег они загорались белым пламенем, похожим на свечение.
Временами рев ветра стихал. Буря откатывалась, набирая силу, и рокотала вдали от острова. Но вот шквал налетал снова. И, казалось, из-под меня выдвигаются камни, шатаются тысячелетние скалы и вот-вот сорвутся со своего насиженного места, подобно осенней листве. Плетьми свистят холодные брызги под ветром. И вот уже море бьет в утес с такой силой, что камни дрожат. Волны перехлестывают высокий выступ, и ветер разносит пенный ливень соленых брызг по всему пространству берега. Капли стекают по лицу.
Не знаю сколько времени я так пролежал цепляясь за скалистый берег, замирая в ужасе от того что следующая, более мощная волна, может смыть меня обратно в море. В полузабытьи я увидел, как рассеивается мгла и поднимается солнце.
Вскоре море успокоилось. Развеялась серая дымка. И вот уже солнце все истомило вокруг пьяным своим зноем, ленью и жаркой тоской. Налило тело усталостью, разогрело кровь, затуманило голову. Высохла среди каменных обломков темная, с серой плесенью, прошлогодняя ржавая трава, и, сквозь нее пробиваясь, тянулась к золотому солнцу, к синему небу свежая поросль, редкая и нежная. Пахло ракушками и полынью. И ярко было над головою голубое небо, аж больно смотреть. И радостно было видеть чаек, что ныряли в его бездонной глубине с торопливым криком своим и посвистом распростертых крыльев.
Где-то далеко или высоко, на воде или в воздухе, в пронизанном ярким светом пространстве звенел этот крик: громкий, призывный, ликующий. И сладким трепетом отозвалось ему сердце. Вольные, милые птицы! Какое счастье владеть этими далями. Высоко в небе сияет над простором и волей золотое, яркое солнце, чистое и жаркое в зените летнего полдня. Сладкая тоска теснится в сердце, желания смутные, и песня жизни рождается в груди…
***
6. Яхта.
Пригретый солнышком я едва разлепил глаза после чудовищной ночи. Я проснулся от странного звука, словно кто-то боязливо, тихонько позванивал в рынду. В не до конца рассевшихся пятнах тумана я заметил совсем близко от берега белый силуэт парсуной яхты, который почти сливался с молочным маревом.
Море, как зеркало. Ветер стих. Совсем. Я поднялся и, пошатываюсь, пошел к отмели, где удобнее было спуститься к волнам. Но стоило мне опустить в воду руки, как их прожгла ядовитая, непереносимая боль. Я вздернул ладони к лицу. Руки были сбиты в кровь, и когда волна размочила корку и промыла раны, морская соль вонзилась в ссадины и порезы.