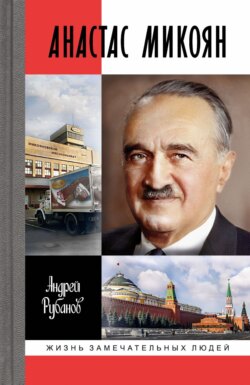Читать книгу Анастас Микоян - Андрей Рубанов - Страница 6
Часть I
1895–1939
Глава 2
Горец
2
Учёба
ОглавлениеОтец и мать Анастаса Микояна не знали грамоты. О существовании начальной школы в селе Санаин в первые годы ХХ века сведения расходятся: сам Анастас Иванович утверждает, что в монастыре жил единственный монах (имя его неизвестно), который и обучил мальчишку читать по-армянски. Биограф Артёма Микояна Михаил Арлазоров заявляет обратное: школа была, и преподавали там монахи, и не один, а несколько; школа была двухклассной, детей – мальчиков и девочек – обучали грамоте, письму, арифметике. Есть также сведения, что некий образованный армянин приехал в село Санаин, предположительно, скрываясь от властей, и предложил крестьянам учредить школу, за небольшую плату в течение года обучал их детей, но потом уехал, и школа прекратила существование.
Наконец в Санаин прибыл некий епископ из Тифлиса. В своих мемуарах Микоян не называет его имени. Возможно, речь идёт о священнике по имени Геворг Суренянц, с 1884 года он был главой Грузинской епархии армяно-грегорианской церкви, а с 1911-го – католикосом всех армян. Суренянц инициировал создание многих армянских школ и сбережение армянской культуры, в том числе патронировал и армянскую Нерсесяновскую духовную гимназию в Тифлисе. Можно предположить, что именно этот неординарный человек дал путёвку в жизнь герою нашей истории.
Епископ (предположительно – Суренянц) поселился при монастыре и решил перестроить свой дом. Он нанял для этих работ плотника Ованеса Микояна, а тот взял себе в помощь среднего сына, десятилетнего Анастаса. Смышлёный ловкий паренёк, самостоятельно обучившийся чтению и письму, попался на глаза епископу, и тот предложил отцу отправить сына в Тифлис, в духовную семинарию, и обещал протекцию.
Есть вечные, бесперебойно работающие механизмы воспроизводства культуры. В любом народе, в любом этносе появляются талантливые, способные дети. Однажды их подмечают, кто-то берёт над ними шефство. Так случается не всегда, но часто. Обязанность любого культурного человека – подметить другого культурного человека и помочь ему укрепиться в своей культуре.
Армянская цивилизация и армянская культура в те времена находилась под защитой Российской империи. Этому способствовала общая христианская вера. Но турки – мусульмане – продолжали вытеснять армян с их исконных земель, загонять их в горы, отнимать у них плодородные долины. Армяне, под давлением превосходящих сил, уходили дальше и дальше на север, поднимались в горы, строили там монастыри-крепости, свозили туда книги. Спасали своё знание и свою культуру.
В начале ХХ века древний город Ереван (Эривань) имел население едва в 30 тысяч человек, из которых армяне составляли только половину, а вторую половину – азербайджанцы-мусульмане.
В те времена базовой точкой закавказской цивилизации был Тифлис. Грузия того времени – наиболее устойчивая, благополучная и спокойная территория. Тифлис – один из исторических центров Российской империи, культурная столица Закавказья, большой, крепкий, благополучный город.
В начале ХХ века у Тифлиса появился конкурент, новая столица региона – нефтяной Баку.
От Тифлиса до Баку сейчас 12 часов на поезде. Тогда было вдвое дольше. В Баку добывали нефть, на работу брали всех. Там был даже оперный театр. В Баку был порт, дорога морем в Россию и в Персию. В Баку были конторы нефтяных магнатов, крупнейших банков, английские шпионы, контрабандисты.
Пройдёт 12 лет, и в 1918 году за бакинскую нефть будут драться четыре армии; Советская Россия выйдет победителем, а позже бакинская нефть станет важной статье экспорта молодой республики. В 1942 году германский вермахт предпримет громадные усилия, чтобы добраться до нефтяных приисков. Но это всё случится потом.
А пока – интеллигентный Тифлис, административная столица губернии и всего Кавказского наместничества, с населением до 200 тысяч человек, из них более трети – армяне, значительная прослойка русских. Грузины к армянам относятся спокойно, всё-таки единоверцы.
В Тифлисе работают духовные семинарии: Тифлисская (православный экзархат Грузии), для грузин, и Нерсесяновская (армяно-грегорианская), для армян. В Тифлисской, как мы помним, учился Сталин (с 1894 по 1899 год). Микоян учился в Нерсесяновской. Потом историки будут напоминать, что Сталин – «недоучившийся священник», семинарист. И Микоян такой же семинарист.
Объяснение здесь простое. На всей территории Российской империи преподавание во всех учебных заведениях велось на русском языке. Девочки к обучению не допускались, только мальчики. Если мальчик, армянин или грузин, не знал русского языка – путь в семинарию ему был закрыт.
Обучение на других языках разрешалось только в духовных учебных заведениях, готовивших священников для местных церквей.
Чтобы обойти этот запрет, армяне и грузины создали большие духовные семинарии, куда брали всех способных детей. Впоследствии они образовали крепкие национальные элиты.
Осенью 1906 года Анастас Микоян, в возрасте 10 лет и 10 месяцев, переехал в Тифлис.
Сначала отец определил его на жительство к своей родственнице; её имя история не сохранила. Сыновья женщины относились к Анастасу свысока, высмеивали: шустрых горожан забавлял деревенский новичок. Детские, мальчишеские конфликты – самые болезненные. Однажды дело дошло до драки.
Анастас, кстати, никогда не боялся ни драк, ни любых других противостояний, в том числе и с оружием. Но тогда, осенью 1906 года, у мальчишки не выдержали нервы, он насобирал по родственникам денег, купил билет на поезд и сбежал домой, в Санаин.
Отец и мать очень расстроились, но наказывать блудного сына не стали – наоборот, помогли. Отец дал сыну время успокоиться, и они вдвоём вернулись в Тифлис.
На этот раз Анастаса определили на другое место жительства: в доме у двоюродной сестры матери: Вергинии Туманян (тёти Вергуш). Домик семьи Туманян находился в армянском районе Тифлиса, в так называемом Суркарапетском овраге. С 11 лет и до 17 лет, все важнейшие годы своего отрочества, учёбы, время формирования характера и интеллектуального становления, Анастас прожил в этом доме. И здесь же встретил свою будущую жену, дочь Вергинии – свою троюродную сестру Ашхени.
Отец отвёл Анастаса в семинарию и его зачислили, и выдали форму семинариста: ботинки, чёрные брюки, чёрный китель с металлическими пуговицами, кожаный ремень с бляхой и фуражку. В 1906 году форменная одежда много значила. Крестьяне ходили в самодельной одежде и обуви. Офицеры щеголяли в отлично пошитых мундирах и сапогах. Инженеры имели свою форму, чиновники – свою. Одежда стоила дорого, ещё дороже стоила обувь. Сейчас пару брюк можно купить за гроши – в начале ХХ века приличные чистые брюки почитались за большую ценность. Одежду и обувь берегли, изношенную – латали, чинили. Мужчины и женщины обязательно носили головные уборы. Ходить с непокрытой головой считалось неприличным. Крестьяне носили шапки и снимали их только когда садились за стол. Отец Анастаса носил «городскую» фуражку. Женщины носили шляпки и шапки, мужчины – шляпы и фуражки, зимой шапки, папахи. Анастас Микоян соблюдал эту традицию, в молодости ходил в фуражке, потом в шляпе. На большинстве официальных фотографий он всегда – в головном уборе.
Начало зимы 1906 года. Анастасу 11 лет. У него есть ботинки, первые в его жизни. Форма, ремень. Каждое утро он пешком бежит из своего карапетовского оврага на учёбу в семинарию. Вечером возвращается с охапкой книг, потом читает при свете керосиновой лампы.
Формально хозяином дома считался Лазарь (по паспорту Габриэл) Туманян, образованный человек, работавший по торговой части, приказчиком в лавке, и мечтавший скопить капитал на собственное торговое предприятие. В свободное время он почитывал армянскую газету «Мшак» («Труженик»). Домом, семьей и хозяйством на деле управляла его жена Вергиния, или тётя Вергуш, как её называл сам Анастас. Она не умела ни читать, ни писать, но была убеждённой социалисткой. Откуда это в ней взялось, мы не знаем. У Лазаря и Вергинии было четверо детей: три дочери и сын Гай (Гайк), – он потом станет разведчиком, диверсантом, «советским Джеймсом Бондом», генерал-майором. Когда они взяли в семью 11-летнего Анастаса – подросла старшая дочь, 10-летняя Ашхен Туманян, строгая и замкнутая девушка, мечтавшая стать учительницей.
Первые годы учёбы в Нерсесяновской семинарии для Анастаса были счастливейшими. Появились друзья, такие же способные, как и он сам. Появился доступ к книгам. Начался период взрывного развития интеллекта, период запойного чтения.
Термин «запойное чтение» сейчас уже нужно объяснять, современному молодому человеку он незнаком. Современный потребитель культуры с детского возраста подключён к мировой сети и привык воспринимать только аудиовизуальную продукцию. Разум читающего ребёнка был устроен иначе. От текстов элементарных, примитивных, помещённых в букварь, читающий ребёнок, по мере развития, переходил к текстам всё более и более сложным, непрерывно расширяя свой словарный запас, пока, наконец, не переходил к изучению полноценной взрослой литературы. Культура была логоцентрична, знание хранилось только в тексте. За разъяснением того или иного текста ученик мог обратиться к учителю, но бывало так, что учитель не мог дать разъяснения, и тогда ученик постигал ту или иную книгу самостоятельно. Авторитет учителя был огромен, перед учителем крестьяне ломали шапки. Знание считалось священным. Наконец в жизни подростка во все времена многое значило – и теперь значит – удовлетворение самолюбия, как часть становления личной психологической конструкции. И Анастас Микоян, студент единственного в мире высшего учебного заведения для армян, в те годы безусловно удовлетворил своё самолюбие; учиться в Нерсесяновской семинарии было очень престижно.
Чтение он начал с художественных романов писателей Раффи («Давид-бек») и Хачатура Абовяна («Раны Армении»), но далее переключился на то, что сейчас называется нон-фикшн, в частности, на публицистику и политэкономию. Очень быстро, в течение года, выучился читать на русском языке. В семинарии преподавали иностранные языки. Анастас с первого года учёбы взялся также и за немецкий язык.
К 12 годам Анастас был ярко выраженным билингвой, двуязычным: родным его языком был армянский, он читал и писал по-армянски, но при этом превосходно читал по-русски и неплохо разговаривал. Правда, говорить по-русски было не с кем. Потом Микоян вспоминал, что в окрýге единственным русским человеком был городовой. «Ну не с городовым же мне разговаривать», – смеялся он.
К двум языкам легко встаёт и третий. В следующие юношеские годы Анастас овладел немецким. «Капитал», «Женщина и социализм» – эти библии социалистов Анастас прочитал в оригинале. И не просто прочитал, но писал конспекты, делал доклады для своих товарищей, а некоторые места сам перевёл на армянский.
К началу юности, к 16 годам, он владел четырьмя языками: родным армянским, русским, грузинским (разговорным) и немецким.
Немецкий язык он потом понемногу забыл, но билингвой остался до конца жизни. Во взрослом возрасте, как можно предположить, он думал на смеси двух языков – родного армянского и русского. В Армении он прожил первые 10 лет жизни, в России – более 60 лет. С женой он разговаривал и по-русски, и по-армянски, но его дети уже знали по-армянски только отдельные слова.
Английский язык он не выучил, не ставил перед собой такой цели; да и не имел времени. Его увлечение языками – юношеское, восходит к восторгу получения знаний, а когда они были обретены и систематизированы и настало время практики – интерес к языкам пропал. Но умение читать Маркса в оригинале и толковать его максимы на трёх языках – русском, армянском, немецком – сослужило Анастасу величайшую службу.
В семинарии негласно считалось, что выпускники по большей части станут не священнослужителями, а педагогами, будут учить грамоте армянских детей. Поэтому в семинарии преподавали педагогику и широкий круг общеобразовательных предметов: алгебру, геометрию, географию, литературу, физику, химию, ботанику, зоологию, психологию, физиологию, пение. Микоян хорошо или отлично успевал по всем предметам, кроме пения (слух подводил) и Закона Божьего: религия его не интересовала.
Молодые люди того времени, как и современные, были полны энергии. В Тифлисе тех лет они, понятно, не имели ни Интернета, ни мобильных телефонов. Не существовало ни баров, ни ночных клубов. Доступ к популярной музыке был ограничен, патефоны стоили дорого. Кинематограф бурно развивался (первый кинотеатр появился в Тифлисе в 1909 году), но далеко не всем был по карману – как и театр.
И вот основным развлечением молодёжи стали так называемые кружки.
В том или ином доме, с разрешения хозяев, обычно родителей, собирался юношеский кружок, иногда десять человек, а иногда и двадцать. Не вечеринка, не алкоголь и танцы – только споры, дискуссии. Обсуждали прочитанные книги, обменивались мнениями. Была возможность – приносили с собой чай и какие-нибудь баранки или сухари. В обязательном порядке скидывались на керосин для ламп. Керосин стоил дорого, его берегли, и если молодые люди собирались сидеть дотемна – керосин приносили свой.
В любой такой кружок допускались и девушки. Это было очень важно. Женщины в то время не имели равных прав с мужчинами. Женщин не допускали к учёбе в высшей школе. В начале ХХ века выросло поколение девушек, получивших начальное образование и желающих учиться дальше, но система этого не позволяла. Все эти девушки поголовно были социалистками, потому что социализм гарантировал женщинам равные права с мужчинами и отменял любое порабощение женщины.
Но и юношам – таким, как Анастас Микоян, – социализм давал надежду на то, чтобы реализоваться в подвиге, в большом деле, в великой битве.
Кружки были только частью грандиозной системы общественных собраний, важной для социальной жизни того времени. Пройдёт несколько лет и эта культура процветёт в Советской России. Собрания, сходки, маёвки, митинги, дискуссии, диспуты, публичные чтения, лекции, доклады и даже открытые суды – вот основа развития общества того времени.
Культура спора, публичной дискуссии, как развлечения, как полезного времяпровождения, возникла в те годы, и потом просуществовала до конца 1950-х годов, фактически более полувека. Сейчас эта культура живой дискуссии утрачена, её победил Интернет. В наше время люди не собираются в частных квартирах, чтобы попить чаю с сахаром и поспорить о книге Августа Бебеля «Женщина и социализм». А в 1912 году в Тифлисе на чтения Бебеля набивалось по 30 человек.
Сам Анастас Микоян сделался социалистом немедленно, как только обучился чтению на русском языке. Это было неизбежно, и это произошло. Социализм был модным, ярким, крутым и опасным. Социализм обещал справедливое распределение материальных и духовных благ, равный доступ для всех к образованию и здравоохранению. Социализм был вне закона – это невероятно возбуждало. В Тифлисе уже активно работали марксисты и большевики. В Тифлисе действовали подпольные типографии.
В июне 1907 года (Микояну тогда было 10 лет) в Тифлисе произошёл всемирно известный экс – ограбление казначейской кареты – где была похищена огромная сумма. Камо (под этой кличкой скрывался армянин Симон Тер-Петросян) стал живой легендой. Его поймали п посадили в тюрьму, в Метехский замок, – он оттуда бежал. Его ловили и сажали ещё несколько раз, он снова бежал.
В 1909 году Иосиф Джугашвили, подельник Камо, уже уехал из Тифлиса, был сослан в Вологодскую губернию. Анастас Микоян так и не встретился с Кобой ни в Тифлисе, ни позднее в Баку. Микоян был ещё юнцом, а Коба – взрослым профессиональным революционером. Они познакомились только в Москве, гораздо позже и при совершенно других обстоятельствах.
А пока в Тифлисе конца 1910-х годов быстро мужающий студент духовной семинарии Анастас Микоян создаёт собственный марксистский, социалистический кружок, становится неформальным лидером для группы друзей и единомышленников. Он делает обстоятельные доклады, пересказывает немецкие тексты Маркса и Каутского на родном армянском.
В его воспоминаниях приводится неполный перечень книг, внимательно им изученных: Климент Тимирязев, Чарльз Дарвин, Дмитрий Менделеев, Жан Жорес, Дмитрий Писарев (особенно повлиявший на Анастаса), Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Иван Тургенев, Иван Гончаров, Лев Толстой, Николай Чернышевский, Этель Войнич, Томас Мор, Анри Сен-Симон, Роберт Оуэн, Федор Достоевский, Джек Лондон, Генрик Ибсен, Фридрих Шиллер, Георгий Плеханов, Карл Каутский, Август Бебель, Карл Маркс, Владимир Ленин…
Есть такой документальный фильм, 1975 года, так называемое интервью для кинолетописи, режиссер – Александр Косачёв, студия «Центрнаучфильм» (Творческое объединение «Орбита»). В этом фильме Микоян, уже пожилой, 80-летний человек, безо всяких усилий припоминает множество имён писателей, философов, публицистов, теоретиков социализма и марксизма – их книги он изучил в ранней юности и всю жизнь следовал идеям, в них изложенным.
Анастас Микоян неизбежно сделался социалистом – и столь же неизбежно перешёл на позиции социал-демократов.
Годы отрочества закончились. Осенью 1913 года студенту Микояну исполнилось 18 лет.
Далее грянул роковой для мировой истории 1914 год.
В апреле студент Микоян, активный организатор студенческих собраний, попал наконец в поле зрения политической полиции. Его кружок расширялся, приходили новые и новые люди, однажды среди них оказался доносчик. Начальник Тифлисского жандармского управления полковник И.И. Пастрюлин изучил материалы на студента Микояна и приказал учинить обыск по месту жительства. Акт обыска сохранился и процитирован в книге «Дорогой борьбы»: «Произведённым обыском обнаружено в кармане брюк обыскиваемого Микояна два клочка письма на русском и немецком языках, шесть заметок на армянском и русском языках, в числе их одна заметка адресована Левану Айвазяну за подписью “А. Микоянц, 18 апреля: Леван, прошу следующее коллективное собрание назначить у меня”».
Обыск не имел последствий, студента Микояна никак не наказали. Но сам Микоян, надо полагать, немедленно почувствовал себя настоящим революционером. А также впервые ощутил бегущий по спине холодок: борьба, к которой он себя готовил, предполагала жертвы. И такую борьбу нельзя было вести в одиночку. Той же весной, или в начале лета, Микоян добился встречи с известным социалистом-большевиком Даниэлом Шавердяном[2].
Анастас очень старался произвести впечатление, и ему это удалось. Перед Шавердяном был настоящий самородок, крестьянский сын, выучившийся читать и писать в 10 лет, а к 18 годам овладевший четырьмя языками, штудирующий Маркса в подлиннике. Анастас заявил о своём желании вступить в партию социал-демократов-большевиков. Умный Шавердян немедленно отказал. Анастас был страшно расстроен. Шавердян пообещал, что вступление в партию – дело ближайшего будущего, и снабдил молодого активиста запрещённой литературой, в частности вручил брошюру под названием «Что делать. Наболевшие вопросы нашего движения» за авторством некоего Ильина.
На ближайшие годы Шавердян станет ментором Анастаса Микояна, старшим товарищем, советчиком. От него Анастас будет регулярно получать книги мыслителя, скрывшегося под псевдонимом «Ильин». От него Анастас получит первые навыки конспирации. От него Анастас узнал, что существуют провокаторы, доносчики, осведомители.
Даниэл Шавердян дважды повернул судьбу Анастаса. В начале лета 1914 года это случилось в первый раз.
2
Даниэл Шавердян (Шахвердян) – 32-летний дворянин – к тому времени принадлежал, как Сталин и Камо, к первому поколению закавказских социалистов. Образованный человек, учившийся в Петербурге, забросивший карьеру юриста ради политической деятельности, свидетель событий Кровавого воскресенья, участник революции 1905 года, автор многих статей в пролетарских газетах, с 1902 года член Союза армянских социал-демократов; в отличие от Камо и Кобы – любителей силовых акций – он тяготел в интеллектуальной, организационной работе.