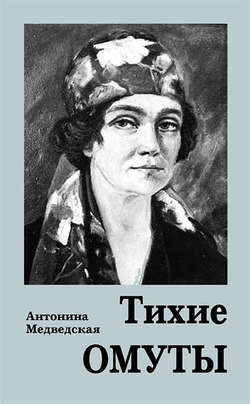Читать книгу Тихие омуты - Антонина Медведская - Страница 17
Часть I
Бабаедовский рай
14
ОглавлениеПришла пора осенняя – шевелись, Бабаедово: люд, уподобясь муравьям, запасай на зиму еду, не дай пропасть ни колосочку, ни картошинке, ни кочану капустному. Поплети лучок, пусть красуется на стене в кухне золотыми связками. Соли в кадушках огурцы пупыристые с дубовым да смородиновым листом, прикрой укропом – будет что зимушкой лопать. Не успела осень убраться на покой – зима тут как тут. Первый снег, первая пороша. С приходом холодов, с морозами пришла к бабаедовцам тревога. Страх. Нагрянет и к нам продотряд – считай, гибель. Хуторских раскурочили, пустили по миру, теперь за деревню возьмутся, того и гляди.
– Анюта, – успокаивал папа маму, – у нас запасов – кот наплакал. Да нас и не положено ни налогами обкладывать, ни продотрядам грабить. У нас охранная бумага – Павлик в эскадроне красных с басмачами воюет, а Андрей – рабочий, на отцовском месте у кипящего стекла поджаривается.
Папа молчит, думает… Я догадываюсь, о чем его мысли. Андрей из армии приехал в Бабаедово на побывку после ранения. На гуте обоих братьев Курсаковых уже давно не было. Они воевали в Красной армии. Андрей перед отъездом на гуту не появлялся домой до рассвета. Папа его ругал, называл жеребцом и лоботрясом. А потом стала приходить к маме Стефания. Сидела и плакала, сидела и плакала каждый вечер. Стефания приходилась племянницей Кандыбихе. Однажды принародно она заявила Андрею: «Я тебе, кобель горбоносый, такой приворот утворю, что отсохнут все твои причиндалы». Андрей испугался за «причиндалы» и укатил по новой железной дороге на гуту.
Зима выдалась хуже лютой мачехи. Снегу намело-навалило. Бабаедовских школьников когда подвезут, а когда и нет. Петр Звонцов всем ряснянским школьникам сгоношил бурки из кусков старого тряпья и выношенных огрызков овчиных кожушков. Павла с Касьяном сплели лапти. Бурки заправили в лапти и прошили дратвой. Радости было на весь белый свет.
Сейчас трудно себе представить этих ребятишек, во главе с Касьяном бредущих из школы в бешеной завирухе, в темени по снегу аж по пояс. И – диво! – никто за зиму не заболел, не закашлял. А щеки, носы и уши отмораживали. Тут уж Анухриха с банкой гусиного жира: намажет, пошепчет и на удивление всем – заживает все, что отморозили. А иному мальчугану скажет: «Что это ты морщишься? А ну-ко, лыцарь, спускай штаны. Спускай-спускай, а то отвалится кое-чего… Отморозил ведь. Я вот своей мазью помажу твой стручок, и будешь ты – жених женихом. Еще и лыбится, а то я не видела ваши причиндалики. О, видишь, как хорошо намазала – и заживет до свадьбы. Скажи своим товаришшам, нехай приходють».
Папа мой учил читать, писать Натальиных ребятишек, и еще трое бабаедовских приходили к нам, усаживались в кухне за столом и шуршали перышками номер 86 и «кобылками» по шероховатой бумаге тетрадей, сделанных Натальей из старых шпалер пана Ростковского. Чернила – из сажи и красной свеклы. Читали единственный букварь по очереди. И я помогала папе в качестве «учительницы».
А жить становилось все труднее и суровее. У людей кончились запасы соли, спичек, мыла.
Раза два Наталья приносила маме по полстакана соли и коробку спичек. Все же она «кормила суд». Продукты ей давали. А вот с мылом – большой дефицит.
Мама сидит на лавке у стола на кухне. Руки сцеплены на коленях. Лицо озабочено.
– В баню бы ребят, закоженели от грязи, да вот беда: где взять кусок мыла? – это мама спрашивала отца, а он ей не отвечал, может, потому что устал: глаза закрыл и сидит на лавке, опершись спиной о бревенчатую стену. Отец ездил в лес по дрова, он их еще по теплу заготовил: напилил, нарубил, в штабелек сложил. Я это хорошо знаю, потому, что вместе с отцом была в лесу и ему помогала. Мамин вопрос он не пропустил мимо ушей, понимал, что детям да взрослым давно пора вымыться в бане, только что же он мог ответить, когда и сам не знал, где же можно раздобыть хотя бы маленький кусок мыла.
А на следующий день произошло вот что. У старухи Михеихи околел кабанчик, за одну ночь околел. Что с ним приключилось, никто толком не мог понять. Думали, гадали и пришли к выводу, что подхватил он какую-то опасную свиную болезнь, раз околел за сутки. Теперь, того и гляди, пойдет эта зараза гулять по хлевам, все свиньи передохнут, а потому решили этого кабанчика из хлевушки выволочь, облить карболовой кислотой и отвезти подальше от греха – закопать на карьере, где когда-то брали песок на строительство железной дороги…
Когда старуха Михеиха утречком понесла корм своему кабанчику и увидела его бездыханным, она подняла такой крик и плач, что половина деревни сбежалась. Узнав, в чем дело, постояли люди у хлевушки, поохали, посочувствовали, поутешали:
«Бывает и похуже беда, да люди выдюживают… Человек – он на то и человек, чтоб все беды, которые валятся ему на голову, выдюжить…» Только все эти слова до сознания Михеихи не доходили, она погрузилась в свои переживания, как в омут: ничего не слышала и, неутешно плача и причитая, все смотрела и смотрела на своего околевшего кабанчика.
– Ну, чего ждем, мужики? Пора дело делать… Михеиху отстранили, кабанчика выволокли, полили вонючей жидкостью, а вот везти его и закапывать никому не хотелось: земля мерзлая, ее долбить надо, да опять же – лошадь запрягать… Обратились к моему отцу – мол, только что по первому снегу по дрова ездил: «У тебя и сани на ходу, свези, сделай уважение для обчества…»
– Свезу, авось мой коняка не надорвется.
– Ну, раз Гилярович согласен, то и я ему подмогу, – отозвался пастух Павла. – Не одному же человеку для всего обчества маету принимать.
– Могу и я помочь! – подал голос еще один мужик по прозвищу Алхимик.
Его недаром так прозвали: был он неравнодушен к химии, хотя нигде никакой такой специальной грамоте не обучался. И никому не было известно, где и как он добывал кой-какие диковинные товары, например, соду-поташ, купорос, карболовую и соляную кислоты, серу, деготь, скипидар и еще многое, чему он и сам не знал ни точного названия, ни назначения.
Народ стал расходиться: дело решено, нашлись люди, что свезут борова, закопают, а Михеиха поплачет, погорюет да купит малого поросеночка и снова станет кормить. Она последней отошла от околевшего кабанчика, не переставая плакать и сокрушаться: приедет сын Федька из города под Новый год за окороком, за колбасками, а нет ни того, ни другого. Попусту мужик приедет к матери, осерчает…
– А что, мужики, – весело сказал Алхимик, когда тяжелого кабана взвалили на сани, – давайте сварганим из него мыла. А то, что он заразный, так пущай и заразный: на огне да с химикатами самая что ни на есть заразная зараза не устоит – скукожится, такая-сякая…
Пастух Павла помолчал, почесал жидкую бороденку.
– Может, Алхимик и дело говорит… Без мыла ой как худо! Не больно-то ладно золой рубахи и портки стирать. А как бы сами-то в баньке отмылись, ребятишек обновили, а то знай скребутся – нет спасу…
– Во, Павла разумно скумекал. Нешто у нас мякина в голове, чтоб такое добро загубить. В етом кабанчике сала… А у меня, мужики, и посудина подходящая есть, и все остальное, что химии касаемо…
Отец молчал, а потому Алхимик взял вожжи из его рук и погнал лошадь к своему дому.
– Тебе, Гилярович, мыло, может, и не надо, ты, может, имеешь запасы, еще при царе Горохе подзапасся, – бубнил укоризненно Алхимик. – А у меня душа не позволит упустить такой шанс…
Алхимик подогнал лошадь к небольшой пристройке к сараю, куда доступа никому не было, ни один член его семьи не смел даже близко приближаться к двери с солидным замком, не то… «ка-ак пыхнет, ка-ак рванет, охнуть не успеете…» Ключ от замка Алхимик всегда носил с собой. Он скрылся за таинственной дверью и через малое время выкатил из пристройки чугунный котел, а потом вынес оттуда узел «химии», положил его в котел, а котел втроем водворили на сани рядом с кабаном.
– Теперь трогай, мужики! – дал команду Алхимик и пригрозил кнутом детям, высыпавшим на крыльцо:
– А ну, марш на печь! Вот я вас, голозадых… До карьера километра два с гаком. Алхимик деловито правил, а пастух Павла шагал рядом с санями, взвихривая неглубокий чистый снег огромными валенками, и улыбался. Ему не терпелось заняться новым неизведанным делом – превращением кабанчика в мыло. Отец шел за пастухом Павлом и думал. У него было пасмурно на душе: все же кабанчик – Михеихин, хоть и пропал, и общество решило, как с ним поступить, а все же… Как бы сраму на всю деревню не вышло! Но тут же всплывал в памяти вчерашний вечер, забота жены о куске мыла, без которого детей не вымыть, белье не выстирать, самим не вымыться… Нет, не хватило у него духа перечить Алхимику и Павлу, да и не послушают они его. «Что будет, то будет!»– решил он и, по-хозяйски взяв вожжи из рук Алхимика, пошагал рядом со своим рыжим коньком по направлению к карьеру.
… Мыловарщики вернулись только к утру. Не светились окна ни в одной деревенской избе. Когда отец вошел в избу, весь запорошенный снегом, я проснулась и увидела, как он подошел к столу и плохо слушающимися руками стал вытаскивать из мешка куски мыла и раскладывать их на разостланную льняную тряпицу. Он делал это медленно, и я считала про себя: один, два, три… Их было пятнадцать, пятнадцать кусков мыла! Такого мыла я после во всю свою жизнь никогда не видела: оно было белое, в ярко-голубые полосы и крапины, и от него шел непривычный, незнакомый дух. Сразу вся наша небольшая изба наполнилась этим духом. Мама стояла рядом с отцом, плотно сцепив руки на груди, и следила за каждым его движением.
– Анюта! – обратился отец к матери. – Испробуй, как оно?
Мама достала из печи чугунок с еще теплой со вчерашнего вечера водой, вылила ее в жестяной таз и сняла с гвоздя полотенце для рук, давно потерявшее свой настоящий цвет. Она намочила его в воде и намылила, а потом, бережно отложив мыло в сторону, стала тереть в руках это полотенце, оно хорошо отмывалось, белело!
– Ну, вот тебе и мыло, мойтесь, парьтесь, отстирывайтесь. Сегодня же и баню истопить надо, – устало проговорил отец. – Иди, Анюта, распрягай коня, подкинь ему сена, а я – спать, спать, ноги не держат…
К вечеру баня была готова, ее топили Алхимикова Файка, Павлова Гелька и моя мама. Им помогали дети, которые постарше. Дел было много, и всем находилась работа. Павлова Гелька прикатила из своего двора еще одну здоровую кадку: надо же нагреть воды столько, чтоб всем хватило, чтоб на три семьи… Одних ребят набиралось полтора десятка, да взрослых еще сколько. Баню топить было весело и интересно. Мы, мелюзга, здорово мешали, матери покрикивали на нас, но не гнали. Гелька сказала: «Пущай приучаются к жизни! «И мы, осмелев после таких ее добрых слов, старались: то норовили лишнее полено в топку затолкать, то, приоткрыв крышку на бочке, окунали озябшие ручонки в воду – почти кипяток – и норовили как можно дольше продержать их в этой воде. Но у нас полено отнимали, от бочки прогоняли и шлепали пониже поясницы, да не больно шлепали, и нам было очень весело: как же – баня! – радостное событие в нашей ребячьей жизни…
Когда мужчины и мальчишки вымылись, наступил черед женщин и нас, бесштанной мелюзги. На нашу долю оставались две полнехонькие кадки горячей воды и кадка студенки. Мы разделись в предбаннике, сбросив с себя незатейливую одежонку, и ввалились в баньку с таким восторженным визгом и шумом, что банька стала похожа на пчелиный улей перед ненастьем. Мы гудели на все голоса, брызгались водой и смеялись беззаботно и радостно до тех пор, пока наши матери не стали нас по очереди вылавливать, подтаскивать к тазу с водой и, намочив наши лохматые головы, намыливать их диковинным бело-полосатым мылом. Дикий ор, который мы устраивали, когда мыло попадало в глаза, ни у одной из матерей не вызывал снисхождения и жалости: они с азартом скребли головенки детей жесткими крепкими пальцами, смывали теплой водой, намыливали еще раз, и процедура повторялась. Не меньше досталось и нашим телам. В ход шла вехотка-рогожка, от которой кожа горела огнем. Но вот – ушат воды на голову, и марш в предбанник! Ага, как бы не так! – в предбанник: это для того, чтобы, натянув на себя чистые рубашки, сидеть там и ждать, ждать, ждать… Но нам не хотелось ждать. Изгнанная в предбанник мелюзга вывалилась из бани и ныряла в сугробы чистого белого снега, каталась и купалась в этом снегу, не чувствуя ни страха, ни холода, до тех пор, пока одна из матерей, выскочив из бани с безлистым березовым веником в руках, не загоняла нас, изрядно похлестывая, опять в баню и там вновь окатывала горячей водой всех подряд – и своих, и чужих…
За нами приехал отец на своем коньке, запряженном в сани. Мы, напялив на себя чистые рубашки, попрыгали на шуршащее сено, прикрытое рябушкой – самотканым покрывалом, сбивались в комок, и отец, накрыв всех разом своим большим дорожным тулупом, вез нас домой. У избенки Михеихи он остановил коня. Приподняв тулуп, отец окликнул меня и велел сбегать к бабке Михеихе, позвать ее в баню да отдать ей малый сверточек: я его ощупала и поняла, что в тряпицу завернут кусок мыла.
– Если спросит, где взяла мыло, скажи: «Это еще при царе Горохе у отца было, сберег…»
Я мигом шмыгнула на крыльцо, пробежала сени и, влетев в избу, громко позвала:
– Бабка Михеиха! Тебя в баню мыться зовут, вот тебе и мыло от царя Гороха…
В ответ – ни звука.
В избе стояла такая тишина, что в ушах зазвенело. Я подбежала к кровати и подергала одеяло, но бабка не шевельнулась. Мне стало страшно. Вмиг охваченная ужасом, я пулей выскочила из избы.
– Михеиха молчит, папа. Я боюсь…
Отец затолкал меня, босую, в одной рубашонке, под тулуп и, привязав коня к городьбе, пошел в избу старухи. Через минуту он вышел, держа шапку в руке.
– Умерла наша Михеиха, вечная ей память. Отгоревала… И надо же было этому кабаненку околеть… От грех, прости, Господи!
Мы повысовывались из-под тулупа, но отец строго сказал:
– А ну закрывайтесь, не то кнутом всех подряд! – Это относилось к нам. И опять сердито: – Но-о, трогай же ты, окаянный дармоед! – Это касалось трудяги-коня.
Скрипел свежий снег, схваченный небольшим морозцем. Над притихшей землей в далекой выси мигали загадочными огнями звезды. Мы дрожали под тулупом, а рядом с санями отцовские боты подминали с хрустом чистый снег.
– От грех, живешь на свете и жизни не рад. – Это относилось к Михеихе и к себе, придавленному нуждой и мучимому совестью, без вины виноватому…
Засуетились воробьи на крышах, на все лады зачирикали. Солнце, отдохнувшее за морями, за долами, вновь вернулось на круги своя. Ледяные сосульки капелью забавляются. Кончилась, лютая, наморозила, намаяла людей, – как и живы остались. Живы, да не все. Схоронили Михеиху, а вскоре и бабку Анухриху, лекаря народного.
– Скольких детенышей в свои руки приняла, пупки перевязала, первой перекрестила: «Живи с Богом. Спаси тя, Христос!» – Вот такими словами благословляла на жизнь каждого новоявленного, – так говорила, стоя над гробом у края могилы, многодетная мать, жена Алхимика. Она плакала и ветхим зипунчиком прикрывала выпуклый живот от холодного ветра.
Павла, Звонцов, Касьян, Алхимик опустили гроб в яму, закидали комьями мерзлой земли. Обухом топора Алхимик утрамбовал землю вокруг деревянного креста, а сбоку мужики вкопали квадрат земли с деревцем сирени. Это папа мой подарил Анухрихе такой букет, сказал: «Приживайся, расцветай по веснам». Алхимик заткнул топор за пояс:
– Отдыхай, добрая душа. Низкий поклон праху твоему от всего нашего обчества.