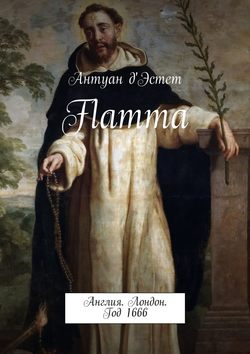Читать книгу Flamma - Антуан д'Эстет - Страница 7
Часть первая: Падение
Глава V. Падение
ОглавлениеДневник.
Окончание записей от 13 февраля 1666 года.
Я чувствовал себя разбитым, усталым. Мне очень хотелось поскорее вернуться в свою маленькую тихую келью, лечь в постель и забыться сном, с надеждою на то, что в этот раз он принесет мне отдохновение, успокоение и быть может забвение. Но на узенькой улочке, где ютился дом Скинов, нечего было даже надеяться найти наемный экипаж и я, медленно ковыляя, отправился в собор пешком.
Было довольно поздно. Туман уже опустился с крыш домов к их подножью и сгустился до такой степени, что дальше трех шагов разглядеть что-либо было непросто. Дома и раньше отчего-то казались безлюдными, а теперь такими же стали и улицы. Только на мосту Флит несколько раз дорогу мне перебежали кошки, наверняка встревоженные, отдаленным собачьим воем, раздававшимся с той стороны реки. Оставалось лишь догадываться о его причине, ведь трудно представить, чтобы сквозь туманную мглу можно было увидеть луну.
Как бы то ни было, этот вой, временами перемежавшийся с лаем, заставил меня ускорить шаг. Я опасался разбойников. Поздний вечер, густой туман, пустынные улицы: все делало это время очень удобным для воров и убийц. И, кажется, я имел основания для тревоги: меня вновь начали терзать предчувствия, а за каждым столбом или тумбой мне чудились тени. Столько неприятных, грустных и подчас страшных событий произошло со мной за день, что даже сама мысль: «Этот день еще не закончился», вызывала странное ощущение того, будто должно случиться что-то еще – нечто такое, что стало бы венцом всей этой череды несчастий. С нетерпением и страхом я ожидал этого события, надеясь, что хоть на сегодня оно окажется последним.
Погруженный в такие мысли, я не заметил, как туман расступился вокруг меня, и я оказался во дворе собора. Из задумчивости меня вывели какие-то голоса: прямо посреди двора стояли и разговаривали двое – мужчина и женщина. Чем ближе я подходил к ним, тем отчетливее слышал, как они ругаются, то и дело, повышая друг на друга голос и постепенно переходя на крик. Мужчина лет пятидесяти, среднего роста, с жесткими чертами лица, одетый в богатый, но сильно помятый костюм, выглядел крепким, изрядно подвыпившим и… почему-то смутно знакомым. Будто я видел его во сне или прошлой жизни, память о которых хранится где-то в недрах сознания, изредка извлекаемая наружу в виде неясного ощущения чего-то виденного мельком и уже давно позабытого.
– Нет, дрянная женщина! Нет, ведьма! Он простит меня. Это ничтожество всегда прощает! – очень громко, грубо, не стесняясь в выражениях, кричал он на миловидную девушку лет двадцати пяти, рыжие локоны которой виднелись из-под глубокого капюшона ее короткого плаща, накинутого поверх скромного и недорогого черного платья с алым шитьем, перетянутого корсетом фиолетового цвета, выгодно подчеркивавшим ее стройную фигурку. Та в свою очередь в долгу не оставалась.
– Как бы ни так! Забудь, что знал о нем, огнем, горит теперь в нем дух мятежный! – отвечала она до странности красивым слогом и голосом. А вместе они поднимали такой шум, что я, помнится, был удивлен тому, как эти люди до сих пор не привлекли к себе внимания патруля городской стражи или привратника собора.
Я знал, что не должен вмешиваться. Такие ссоры случаются у всех, случаются часто, сплошь и рядом – поругаются, успокоятся да помирятся.
«Выскажут друг другу все, что думают, облегчат душу, глядишь, еще дружнее станут» – решил я, проходя мимо. Но не успел я отойти, как за моей спиной коротко вскрикнула женщина. Я обернулся и увидел, как мужчина поднял свою тяжелую ладонь над этой хрупкой, испуганно сжавшейся в ожидание удара, девушкой. Вот уж этого я никак не мог допустить. С решимостью подобной той, что подняла меня на борьбу с болезнью в комнате кожевника Скина, я встал между ними в надежде не допустить рукоприкладства. Но этот человек опустил поднятую для удара руку на мое плечо и со словами «Не вмешивайся, святоша!», сказанными нетрезвым, но, опять же, таким знакомым голосом, грубо толкнул меня на землю.
Когда я почувствовал его прикосновение, мне показалось, что мои глаза вновь наполняются сверхъестественным огнем, как в доме Скинов. Но если ранее этот пламень придал мне решимости на благое дело, то сейчас меня передернуло от чувства, которого я раньше никогда не испытывал, и более того, считал себя неспособным когда либо испытать его. Это чувство – чувство непреодолимой ярости, ярости столь сильной, что гнев, поднимаясь из глубин души, застилает глаза кровавой пеленой и ты, целиком и безотчетно, подобно одержимому, впадаешь в какое-то безумное неистовство, будто само зло овладевает тобой.
Как ни мимолетна была эта вспышка, ее все ж оказалось достаточно для того, чтобы падая, я успел изо всех сил выбросить вперед руку, на которой висел тяжелый золотой крест. Удар был страшный! Я не видел, куда именно угодило распятие, но этот здоровый и крепкий мужчина мгновенно обмяк. Без вскрика, без стона… совершенно беззвучно… Он еще не успел упасть, как я осознал весь ужас совершенного мною поступка. Не поднимаясь, как был, на четвереньках, я приблизился к нему и убедился в худшем – он умер! Мои глаза застыли от ужаса: «Что же я наделал?!». Но свершилось то, чего я ожидал.
«Вот он – венец всех несчастий!» – сокрушался я, поддерживая в своих руках, истекающую кровью, голову жертвы невольно совершенного мною преступления. Казалось, ничто не может быть ужаснее того, что уже случилось. Казалось! Но лишь до тех пор, как еще одно существо (ибо я сомневаюсь в том, что это была женщина) присутствовавшее при этом… засмеялось.
Я смотрел на нее не в силах вымолвить ни слова от охватившего меня отчаяния и примешавшегося к нему удивления, а она… смеялась, и это было страшно. Еще более страшно от того, что смех ее был искренне счастливым. Я смотрел на ее развивающиеся рыжие волосы, выбившиеся неизвестно откуда налетевшим порывом ветра из-под капюшона; на ее большие серые глаза, на женственность черт ее прекрасного лица и не мог поверить, что смерть одного человека и «падение» другого могли доставить этому ангелу такое удовольствие. Но я и по сию пору, как наяву, вижу перед собой искорки ее красивых смеющихся глаз и раскрытый в радостном хохоте рот, обнажающий обрамленные линиями прелестных розовых губ маленькие белоснежные зубки, и у меня не остается более сомнений – она действительно была рада.
Пораженный, я поднял руку для того чтобы перекреститься, но заметив мое движение эта «страшно-прекрасная» женщина вдруг перестала смеяться, выражения радости сменилось на ее лице недоумением и какой-то даже растерянностью, а в глазах, которые казалось, стремились заглянуть мне прямо в душу, появилась непонятная смесь страдания и надежды. Выпростав из-под плаща свою тонкую поражающую изяществом руку, она призывным жестом протянула ее в мою сторону, будто желая увлечь меня за собой или удержать, что-то от нее ускользающее.
Я, было, отвлекся, наблюдая эту перемену, но вдруг с удивлением заметил на ее руке, чуть повыше запястья, ожог в виде креста. Еще так недавно я оставил подобный след своим распятием несчастному Скину, чтобы можно было ошибиться. И я продолжил креститься. Целая гамма чувств отразилась тогда на ее лице: отчаяние, раздражение, ярость, сменяя друг друга, преображали этот прекрасный лик; гнев же окончательно исказил его. Пылая охватившей ее злобой, она бросилась на меня и я, так и не закончив сотворение крестного знамения, отвернулся, прикрывая себя рукой от дьявольского виденья. И она… исчезла. Растворилась, оставив вместо себя облачко густого черного дыма, зависшее в нескольких дюймах от меня и скоро так же рассеявшееся. Однако это не стало для меня облегчением, ведь стоило ей исчезнуть, как вокруг меня вновь сомкнулась плотная завеса белесого тумана, а откуда-то сверху крупными хлопьями повалил снег. Все это сливалось в сплошное белое месиво, создавая впечатление окружающей меня пустоты, обостряемое к тому же абсолютной, ничем не нарушаемой, тишиной. И в этой пустоте существовали теперь только я и бездыханное тело человека, чья жизнь была невольно мною прервана. Во всем мире я остался один на один со своей жертвой, один на один с грехом. И я должен был принять его, но не смог. Я должен был раскаяться, подвергнуться суду и позволить свершиться возмездию. Но если за раскаянием дело не стало, то публичному признанию я предпочел этот дневник, суду – совесть, а казни – жизнь.
Я встал, все еще не торопясь уходить, и, поднимаясь, нащупал на снегу какой-то предмет, инстинктивно сжав его в ладони. Почти с радостью, и уж точно с благодарностью, я следил за полетом крупных снежинок, которые медленно кружась и падая, скрывали под своим покровом, холодным и сырым, как сама могила, следы моего преступления. Без сомнения, однажды я отвечу за него, но то будет уже не перед людьми, а перед богом.
Я решился, и уже не собираюсь отступать от своего решения, каким бы трусливым и бесчестным оно ни было. Но я не успокоился. Можно утаить вину от других (что я к стыду своему и делаю), но не от самого себя. Поэтому, вернувшись в храм, мне первым делом хотелось помолиться. Но мой взгляд все время натыкался на распятия и я содрогался: таким же, крестом я только что убил человека. Суеверная мысль одолевала меня: «Священный символ отныне вызывает у меня отвращение и страх. Перед людьми я буду вынужден лгать и притворяться, а пред собой – всегда видеть призрак сокрытой мною тайны, возникающий в душе вечным напоминанием нечистой совести. Воистину я проклят!».
В отчаянии я сжал кулаки, чтобы не закричать от раздирающих меня горя, сомнений, безысходности… и вдруг почувствовал, что в руке моей, что-то есть. Действительно, я все еще держал подобранный во дворе предмет, коим оказался маленький кошелек без вензелей и других знаков. В нем не было ничего, кроме черной и белой жемчужин.
«Margaritas1» – в изнеможении прошептал я, и вконец раздавленный, обессиленный, поднялся в свою келью, оставил там письмо, крест и жемчуг, – предметы, которые теперь даже видом своим угнетают меня, – и удалился в тайную комнату, где дописываю последние строки этой несовсем обычной исповеди, с надеждой никогда больше к ней не возвращаться.
***
Человек в черной сутане отложил в сторону перо; медленно, словно вспоминая, не забыл ли чего, отодвинул от себя тетрадь, в которой только что поставил точку и, погасив огарок наполовину догоревшей сальной свечи, тяжело спустился в келью. Прихрамывая, добрел он до своей постели и уже через минуту забылся сном, посланным природой не за грехи, а за страдания его.
1
Margaritas – жемчужина (лат.)