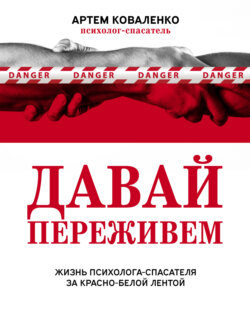Читать книгу Давай переживем. Жизнь психолога-спасателя за красно-белой лентой - Артем Коваленко - Страница 4
Глава 3
Первый выезд
ОглавлениеЕсли ты не аттестованный спасатель, то находиться в зоне аварийно-спасательных и других неотложных работ ты не можешь и не должен. По закону, который регламентирует деятельность спасателей, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций могут осуществлять только профессиональные спасатели. Именно с этой целью все психологи экстренных служб проходят первоначальную подготовку и аттестацию. Так должно быть в идеале, а по факту я прохожу подготовку в 2014 году, а первый мой выезд в составе оперативной группы происходит в 2013 году. Иначе как чудесами не назовешь.
Кстати, про праздники. Семь лет моей работы и службы психологом в силовых структурах у меня нет праздников, нет майских и январских выходных. Я ничего не планирую – планировать бесполезно – и все время ношу с собой телефон, который никогда не ставлю на беззвучный режим и никогда не забываю дома. В кармане или в сумке – внешний аккумулятор, паспорт, служебное удостоверение, «дежурная» тысяча рублей. На работе – комплект формы по сезону и та самая «тревожная» сумка. В любой день и любое время может раздаться звонок со словом «выезжаем!». Вопросов не задаешь, быстро собираешься, вызываешь такси и едешь на работу. Едешь и смотришь в окно на людей, у которых есть праздники, майские и январские выходные. На людей, которые могут себе позволить планировать свою жизнь. Приезжаешь в подразделение, надеваешь форму – и тогда уже узнаешь, куда предстоит ехать. Это когда происходит происшествие или чрезвычайная ситуация. В мирное время, когда все тихо и спокойно, я занимаюсь психодиагностикой. В МЧС я прихожу простым психологом, а через четыре года увольняюсь уже с должности начальника отдела психологической диагностики.
Декабрь подходит к концу – уже почти наступили новогодние выходные дни. Я выхожу из дома, когда вдруг раздается звонок. Беру трубку, а там – «выезжаем!».
Собираемся быстро: форма, «тревожные» сумки, водитель разбирается с путевыми листами и командировочными удостоверениями. Пока надеваю форму, кто-то мне дарит магнитик – новогодний подарок, декабрь же подходит к концу, и все понимают, что домой мы вернемся уже в январе.
Оперативная группа грузится в служебный транспорт. Выезжаем. Ехать нам около шести часов, и практически все это время телефоны разрываются – звонят начальники, заместители начальников, оперативные дежурные области, оперативные дежурные округа, московское руководство и московские оперативные дежурные. Всем нужны цифры – единицы, нули, двойки, тройки, – все это вертится в какой-то сумасшедшей круговерти: время выезда, количество выезжающих, телефоны, фамилии, маршруты, даты и т. д. Нам тоже нужны цифры: сколько пострадавших, сколько погибших, есть ли среди пострадавших и погибших дети, возраст детей, открыта ли «горячая линия», адреса больниц, моргов, адрес оперативного штаба, телефоны и данные местных психологов. Информационный стресс. В нагрудном кармане блокнот – все важные цифры записываю туда. Мы еще в пути, а блокнот уже порядком исписан.
Декабрь, темнеет рано. На часах вроде бы шесть вечера, а за окном сплошная ночь – только небольшая часть грязной обочины на долю секунды освещается красно-синими огнями проблескового маячка. Уже в пути начинаем распределяться по участкам работы – больница, штаб, «горячая линия», морг.
Так как зона ответственности моего подразделения – это весь Южный округ, то командировки дают мне возможность увидеть много городов, станиц, поселков, краев и областей. Местные достопримечательности увидеть, как правило, не удается – обзору открываются больницы, кладбища, морги и, если повезет, гостиницы.
По навигатору находим адрес городского морга, в котором уже находятся тела погибших. Едем туда всей оперативной группой.
Приехали. Снег покрыт твердой коркой – настом, – и мои тяжелые армейские «берцы» с хрустом пробивают дорогу. Вокруг все обледенело, и приходится предельно осторожно подниматься по ступенькам в здание с табличкой «Патологоанатомическое бюро». Длинное слово «патологоанатомическое» напоминает жизнь некоторых людей. Не всех, а только тех, у кого она действительно получилась длинной. Вытянутое одноэтажное здание – с виду обычное строение. Заходим внутрь. Сразу же отзваниваемся начальнику, заместителям начальника, оперативным дежурным области, оперативным дежурным округа, московскому руководству, московским оперативным дежурным – колоссальная трата времени. Приходится не только сообщить о прибытии на место, но и каждому ответить на множество зачастую ненужных и не относящихся к делу вопросов. Параллельно со всей этой суетой необходимо найти место для предстоящих ночевок и решить вопрос, где можно поставить отметки «прибыл-убыл» в командировочные удостоверения.
У входа в здание морга уже столпились люди. Предполагаемые родственники погибших. Утверждать, что это родственники, нельзя, пока не проведена процедура опознания – поэтому слово «предполагаемые». Произошло происшествие, погибли люди. Кто-то знал наверняка, что именно в том месте и в то время там находился его родственник или знакомый, телефон которого сейчас не отвечает. Кто-то просто не может дозвониться своему родственнику и не исключает вероятность его гибели в результате происшествия.
Здесь я не указываю, что именно произошло и в каком городе. Я хочу сознательно обезличить эту ситуацию, ведь, по сути, смерть – одна. Горе тоже одно. Поэтому от названия города, где это произошло, суть не изменится. Все это действительно произошло. Погибли люди. Погиб не один человек и даже не два и не три. Количество погибших – около двадцати. Именно столько жизней оборвалось в один момент, столько тел погибших привезли в черных мешках в морг для опознания. Кого-то из них собирали по частям.
Сейчас уже начнется первое опознание, и наша задача – сопровождение этой процедуры. Под запись предполагаемые родственники диктуют приметы предполагаемого погибшего. Все доставленные тела осмотрены, и по описанным приметам уже можно сделать предварительные выводы.
Как правило, всех погибших сортируют по половому и возрастному признакам: если родственникам предстоит опознавать женщину средних лет, то соответственно тела мужчин или детей предъявлять им не будут.
Два высоких парня, ростом под два метра, стоят здесь же, в коридоре, на входе. От них сильный запах алкоголя, они оба активно жестикулируют, кричат, постоянно задают один и тот же вопрос: «Как тебя зовут?» Говоришь им свое имя, но через время вопрос повторяется снова. Парни ищут своего знакомого – мы проверяем по спискам и находим человека с такими инициалами в графе «пострадавшие». Человек, которого ищут, жив. Пока жив. В таблице напротив каждой фамилии указаны полученные травмы. У человека, которого ищут два парня, – открытый перелом бедра. Я молчу и не говорю ни слова, кроме: человек с таким именем и фамилией в списках пострадавших, в списках погибших – не значится. Все. Я не могу дать гарантий. Нас, психологов, сейчас пять человек, и один из наших сотрудников успокаивает высоких парней с запахом алкоголя, говоря им, что человек, которого они ищут, жив и находится в больнице. «Все хорошо», – говорит им.
«Все будет хорошо», «добрый день», «доброе утро» и прочее «доброе» – это табуированные фразы, если ты работаешь с пострадавшими. Вряд ли день добрый у человека, потерявшего близкого родственника. Вряд ли утро доброе у человека, который пострадал в результате крупного ДТП, уже перенес одну операцию, готовится к следующей и лежит перед тобой в окровавленных бинтах. Что касается фразы «все будет хорошо» – то она дает гарантии, она подразумевает несбыточные и нелепые надежды. Кто я такой, чтобы обещать это хорошее будущее? А если человек выжил, но вдруг взял и умер в больнице, а я перед этим уверял его родственников, что все будет хорошо? Что тогда? Тогда негативные реакции будут в разы интенсивней, и я, по своей глупости и непрофессионализму, буду хорошим объектом агрессии.
Именно так все и происходит. Человек не значится в списке погибших, он выжил и попал в больницу с открытым переломом бедра. Но он умирает в больнице спустя несколько часов. Два парня под два метра ростом, с ложными надеждами на то, что все хорошо, ушли домой. Эти надежды им дал психолог. Профессионал он или нет – я не берусь судить его личность, но действия его непрофессиональны. Два парня с мыслями о том, что их знакомый жив, ушли, а через несколько часов привозят тело этого знакомого в этот же морг.
Человек умер. Но тело привозят в морг не сразу. Перед этим проходят еще процедуры опознания: приходят и уходят люди, истерика, плач, потеря сознания, агрессия, снова плач и истерика. Рядом дежурят врачи «скорой», и мы передаем им каждого второго человека, с которым работаем.
С типичным скрипом изношенных тормозных дисков возле дверей здания останавливается служебная машина – два работника выносят накрытое тело и заносят в морг.
– Оттуда? – спрашиваю двух уставших мужчин. Задаю странный общий и какой-то нелепый вопрос, но собеседники понимают, о чем речь.
– Нет, этот повесился, – указывает один из мужчин на тело, накрытое каким-то старым ковром, похожим на покрывало, или, наоборот, покрывалом, похожим на ковер.
– Мужик, помоги дотащить, – просит второй мужчина, но я не очень хочу нести тело. Я какое-то время медлю, и меня спасает третий работник, ловко выскочивший из здания.
Тело повешенного какое-то время лежит на носилках, и я его вижу, стоя рядом со служебным входом. Это мужчина с крупными лапами-ручищами работяги. Задать бы один вопрос «Зачем?», но кто ж на него теперь ответит.
На тот случай, если кто-то из родственников предполагаемых погибших придет к зданию морга ночью, я и моя коллега остаемся в морге до утра. Ночью раздается звонок – привезли тело того самого парня с открытым переломом бедра. Спустя час снова раздается звонок – это тоже кто-то умер, хотя был в списках пострадавших и не значился среди погибших.
Ночью больше никто не приходит. Нас разместили в каком-то кабинете напротив зала, где проводится вскрытие. Сон – это восстановление, поэтому при возможности нужно поспать. Сидя, положив голову на системный блок компьютера, но это сон. Сквозь сон слышу звонок – это опять кого-то привезли. После звонка – быстрый топот ног в коридоре, а потом снова тишина.
Спать в морге: страшно или нет? Нет, не страшно. Это вынужденная мера, и ты это понимаешь. Эмоций и оценочных суждений при такой работе, как правило, нет. Делаешь работу на автомате, по алгоритмам и схемам. Усталости не ощущаешь, но понимаешь, что все твои реакции заторможены. Помимо выполнения задач ты фиксируешь важные сведения в блокнот, звонишь и передаешь данные оперативным дежурным: сколько процедур опознания прошло, сколько еще предстоит, сколько случаев психологической помощи оказано, какое содержание оказанной помощи и в каком количестве. Конечно, это мешает, но дает возможность кому-то где-то там, наверху, отчитаться о выполненной работе.
Ночью местный сотрудник полиции привозит нам чай и что-то перекусить. Обеспечение питанием психологов другого ведомства не входит в его должностные обязанности, он видит нас первый раз в жизни, но, исходя из личных мотивов, этот сотрудник полиции привозит нам еду.
Наступает утро. Нас еще не сменяют. Уже с утра у здания морга собираются люди – они стоят на улице, так как внутри уже нет места. Мне поступает команда убрать толпу людей от входа в здание – сейчас привезут тела и фрагменты тел остальных погибших, и людям, конечно, это видеть не нужно.
«Давайте отойдем в сторону», «Отходим», «Можно попросить вас немного отойти» – расставив руки и открыв ладони, я медленно иду на толпу. Люди меня слушают, не требуя объяснения причин – они просто отходят туда, куда я их веду.