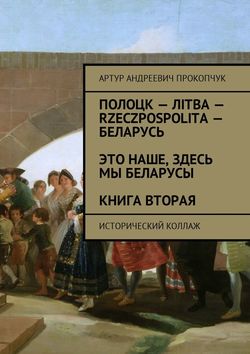Читать книгу Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж - Артур Андреевич Прокопчук, Артур Прокопчук - Страница 4
Часть III
XVI -XVII века
Великое княжество становится государством, Статуты ВКЛ
Реформация в ВКЛ, «золотой век» Литвы-Беларуси
ОглавлениеГосударственное строительство федеративного государства, Речи Посполитой, на первых порах, не препятствовало идеям Реформации, к тому же, при открытых границах нового государства, эти идеи проникали на земли ВКЛ и Польши многими путями. Например, торговые, а в прошлом и военные, связи с Чехией открывали путь проникновению реформаторских взглядов национального движения гуситов. Большое количество «шляхты», а потом и городского купечества, направлялось на учебу в Германию и Италию, и привозили оттуда новые представления о мире, новые книги и новые взгляды.
Ярким примером этому служит биография Франциска Скарыны, «литвина из Полоцка», сына полоцкого купца Луки, предвосхитившего реформационное движение в Великом княжестве, глубоко ознакомившегося с европейскими достижениями своего времени.
«Перевод «Библии» Скарыной, его философские воззрения, стали основой для развития национального самосознания, культурного суверенитета беларусов (литвин). Эти взгляды были разработаны далее молодыми реформаторами, Сымонам Будным и Василём Цяпинским, в предисловиях к «Катэхізісу» и «Евангелию»…
«Издание «Катэхізіса» на родном, беларуском языке, к которому имели отношение, вместе с Сымоном Будным, Мацей Кавячынски и Лаврен (Лаўрэн, бел. яз.) Крышковски, явилось эпохальным событием в истории становления идеи беларуского национально-культурного суверенитета…"[8].
Дальнейшим развитием этих идей явилась полувековая работа над Статутами Великого Княжества.
«Участники комиссии по подготовке Статута 1566 года, Августин Ратундус и Пётр Райз, настаивали на замене беларуского языка латинским. Патриотически настроенные беларуские юристы, в частности, писарь великокняжеской канцелярии, кальвинист Валадкович, воспрепятствовали этому, его поддержал руководитель „статутовой комиссии“, канцлер Астафий Валович. Статут был опубликован на беларуском (старобеларуском) языке».
Употребление старобеларуского языка было ограничено территорией ВКЛ, но автономия княжества способствовала сохранению и развитию языка, требовала единого средства общения и управления государством, особенно в его письменной форме. Близость языков – старобеларуского и старопольского, позволяла легко встроиться различным институтам ВКЛ в общий процесс становления федеративного государства «двух народов». Старобеларуский язык стал вытеснять церковнославянский, на котором шли службы, исполнялась литургия в православных храмах, тем не менее, постоянно шло взаимное обогащение языков. Право исполнять церковные службы на родном языке символизировало право на все остальные культурные ценности. Культура, в первую очередь литература, становились национальными. Вместе с тем, старобеларуский язык стал приобретать новые, «польские» включения.
Так же, как в ХV веке, польский язык претерпел сильное влияние чешского и, с основанием Пражского Эммаусского монастыря, стал, по свидетельству выдающегося польского историка Яна Длугоша, распространяться в Польше, так и старобеларуский язык веком позже подпал под влияние польского языка. Образовывались формы языкового «двуязычия», использование польского в высокообразованных кругах ВКЛ и общение «dwujezykowa» («двуязычное», польск. яз.) в письме и в разговоре горожан. Переводчик «Лютерового катехизиса» Ян Малецки утверждал, что «не зная чешского, нельзя говорить на хорошем польском». Литературный обмен между славянами способствовал проникновению чешского в Хорватию и далее в Польшу и Великое Княжество Литовское. Этот процесс продолжался до расчленения Польши и присоединения земель ВКЛ (а значит беларуского населения), к Российской империи. На переломе двух столетий, ХVIII-го и ХIХ-го, стало особенно заметным воздействие «нового русского» языка на старобеларуский.
Выдающийся лингвист ХХ века, специалист по славянским языкам, в том числе и по языкам Великого Княжества Литовского, академик Вячеслав Иванов, так и не смог остановиться на каком-либо одном названии старобеларуского или староукраинского, между ними В. Иванов в своей классификации не делал различий, условно называя его то «западнорусским», то «рутенским» [15].
Впрочем, классик мировой лингвистики пришёл все-таки к окончательному выводу и сформулировал это следующим образом:
«Диалекты этого устного языка, представляющие собой раннюю форму западных восточнославянских диалектов – (старо) белорусского и/или (старо) украинского, использовались основной массой населения в повседневном общении и, вместе с элементами церковнославянского (преимущественно западнорусского извода) и польского языков, легли в основу главного письменного языка Великого Княжества Литовского, на котором, в частности, писались документы великокняжеской канцелярии» [там же].
Не будем противоречить классику, а приведем еще соображения других, в том числе и западных, специалистов в сфере лингвистики по поводу древнего беларуского языка и языка Статутов Великого княжества, который некоторыми лингвистами называется «канцелярским».
Читатель может опустить эти соображения, но язык, как ничто другое, стал основой культурного подъема, «Золотого века» Беларуси, и дал образцы для развития современного беларуского языка.
Если взлянуть на «Грамоту» Великого князя Витовта 1390 года, станет понятно, какой путь прошел древний общеславянский язык к современному беларускому языку через средневековый старобеларуский:
«Мы, Великiй князь Витовтъ чинимъ знаемо симъ нашим листомъ,
кто на него узритъ или услышитъ чтучи. Досмотрили есмо того,
жаловалъ Князь Андрий Васило на Свидригайла, а Свидригайло
жаловалъ на Андрея. И мы того досмотрили и раздЬлили того на
полы, что от Андреева села половина поля тянетъ, то есмо
повернули к Андрееву селу; а што отъ Свидригайловы земли
половина поля того, то есмо повернули Свидригайлови…» [16].
Приведу с купюрами некоторые выдержки из работы А.И.Журавского, раз уж речь зашла о «канцелярите» старобеларуского языка [17].
«Анализ канцелярского языка Великого княжества Литовского провел в 30-х годах нашего столетия норвежский славист X. Станг… Изучив язык грамот канцелярий Великого Княжества Литовского, исследователь пришел к выводу, что первоначально здесь существовало несколько типов актового языка, отличающихся друг от друга некоторыми, преимущественно орфографическими и грамматическими особенностями.
В северных областях Полоцка – Витебска – Смоленска употреблялась языковая форма, характеризующаяся «цоканьем», смешением е и i, связкой «есме» и некоторыми другими особенностями. Таких черт нет в документах, исходящих из канцелярии Витовта. Язык документов Витовта сближается с языком южных (украинских) канцелярий, но полностью не совпадает с ним.
Среди грамот короля Казимира южноволынский тип играет уже незначительную роль, большая часть его грамот принадлежит к северноволынскому или южнобелорусскому типу, но основное количество грамот этого времени происходит из белорусских областей, в которых «е» и «ять» совпадали во всех позициях.
Во времена короля Александра канцелярский язык становится более стабильным, он достигает прочной, устойчивой формы, которая отражается и в других памятниках того времени.
Позже, при короле Сигизмунде Августе, южный тип актового языка исчезает полностью. Канцелярский язык Великого княжества Литовского в это время выступает как язык белорусский, который находится в наиболее близком отношении к белорусским говорам около Вильно. В этом языке постепенно растворился и полоцкий тип актового языка, который раньше выступал в виде самостоятельной формы. Установленная X. Стангом 40 лет назад белорусская диалектная основа актового языка Великого Княжества Литовского не встретила возражения в лингвистической литературе и до настоящего времени остается последним словом науки по этому вопросу…
Следует отметить, что не только белорусская диалектная основа деловой письменности Великого княжества Литовского, но и принадлежность деловых памятников к литературному языку у белорусских языковедов никогда не вызывали сомнения.
Е. Ф. Карский, одним из первых, рассмотрев причину выступления в Западной Руси народного языка в роли литературного органа, показал, как постепенно на народной основе выработался язык, который с успехом употреблялся в государственных делах – грамотах, актах, статутах, в суде, этим языком пишутся «западнорусские» летописи, хроники, жития святых, даже чисто светские беллетристические произведения. В последнее время за включение деловой письменности в круг источников истории литературного языка высказался и белорусский исследователь Л. М. Шакун, подробно изложивший историю этого вопроса в восточнославянском языкознании» [17].
В пользу заключения Карского можно привести еще несколько соображений, главным образом внешнего, лингвосоциологического порядка. Прежде всего, следует принять во внимание некоторые количественные показатели по основным жанрово-стилистическим разновидностям старо-белорусского письменного языка. Выступление беларуского языка в роли государственного в Великом Княжестве Литовском повлекло за собой появление разнообразных документов общегосударственного и местного значения, типа договорных, жалованных, клятвенных, купчих, меновых и присяжных грамот, политических и торговых договоров.
В середине XV века деловая письменность в Великом княжестве Литовском обогащается новыми жанрами в виде судебников, статутов и других юридических кодексов. С конца этого столетия в практику общественной жизни вошли так называемые земские книги – собрания официальных документов о дарованиях и продаже различных владений…
Созданные в конце XIV – начале XV века в великокняжеской канцелярии актовые книги явились основой большого исторического архива, известного под названием «Литовская метрика». В состав «метрики» входят разнообразные по форме и содержанию документы, выдававшиеся королями, сеймами и правительственными лицами или же поступавшие к ним от правительств зарубежных стран, от местных служебных и частных лиц. В полном своем виде метрика имела свыше 550 томов и содержала материалы XIV – XVIII вв., причем документы от XIV до начала XVII в. в большинстве написаны на белорусском языке, позднейшие – на польском и латинском (нет ни одного документа, написанного на литовском или близком ему языке).
«Эпохой расцвета деловой письменности на беларуском языке является XVI век. Здесь прежде всего следует указать статуты Великого княжества Литовского трех редакций – 1529, 1566 и 1588 гг., из которых последний был даже напечатан. На беларуском языке в это время писались декреты сеймов и главного литовского трибунала, акты копных, городских, земских и подкоморских судов, акты и приходно-расходные книги городских управ, магистратов и магдебургий, реестры, фундуши и инвентари имений, староств, фольварков и деревень, завещания, частные письма и другие документы» [17].
Чтобы ни говорили лингвисты, Кревская, да и все последующие унии, способствовали «полонизации» Литвы-Беларуси, деформированию старобеларуского языка. «Полонизация» вначале проходила стихийно, ввиду значительных контактов местного, беларуского (литвинского) населения с польским, часто на основе заключающихся браков, особенно в «шляхетской» среде. Старобеларуский язык развивался, обогащался новыми формами, приобретал массу новых слов польского или немецкого происхождения. Почему только лингвисты, особенно русские, так сокрушаются по этому поводу – не вполне понятно. Хорошо образованному «беларусу» польская речь не режет ухо, а к немецким корням язык уже давно приспособился.
Позже этот процесс регулировался целенаправленной государственной политикой, в частности, проведением законов о государственных должностях ВКЛ. Кроме того, польский язык становился в ХVI веке таким же отличием «благородства», «маркером аристократизма», особенно в великокняжеском окружении, каким станет через триста лет в России французский язык в салонах высшего общества. Пушкин сначала выучил французский и даже первые свои стихи писал на этом языке. Толстой целые абзацы своей «Войны» записывал на французском. Что же – они что- либо потеряли из-за этого. Впрочем, таким же образом, через контакты с ВКЛ, а после захвата Россией южнорусских земель, Малороссии, и через неё, в русский язык проникают многочисленные «полонизмы». К концу ХVII века, по свидетельству Лазаря Барановича, в окружении царя Алексея Михайловича, польский язык и польская литература пользуются «большим спросом», что осуждала московская церковь (по этому поводу гневался монах Авраамий) и что вызвало недовольство культурной деятельностью Симеона Полоцкого (1629—1680). А поток «малороссов» в Московию, «украинизация» и «полонизация» старорусского языка вызывал, например, у Сумарокова, неприязнь. Он отмечал «провинциальное произношение у священников» и их «неправильную речь». Однако именно «малоросс» Гоголь способствовал подъему русской литературы на высший уровень, и стал фактически основоположником классической русской прозы, создателем русского художественного стиля. А Достоевский, выходец из беларуских родов (родом из «пинских болот», как он сам писал, село Достоево) приобрел вообще мировую известность, и никто не ставил ему в упрек его «полонизмы» или «беларусизмы», если хотите.
Итак, уже с ХV века непрерывно совершенствуется, необходимый для дальнейшей централизации государства ВКЛ и работы его административных органов, для внутригосударственных контактов, старобеларуский язык, который после «уний» с Польской Короной, вбирая полонизмы, неизбежно, всё более удалялся от основного русла древнего, общеславянского языка.
Было положено начало выделению языка из общей языковой славянской стихии «от Камчатки до Эльбы и от Балтики до Адриатики» – фраза польского филолога Линде (1807).
Старобеларуский язык богател, появились образцы поэзии и прозы, написанные на этом новом языке, исторические и философские построения и размышления, «Лексисы» и «Грамматики», родоначальником которых, по общему признанию, стал «великий литвин-полочанин» Францыск Скарына (1490—1551).
После Скарыны культурную элиту ХVI-го, «золотого века» ВКЛ, пополнили писатели и философы, гуманисты, народные просветители и педагоги, религиозные реформаторы, подвижники из среды литвин-беларусов: Сымон Будны (1530—1593) и Василь Тяпинский (Омельянович) (1540—1604), Лаврентий Зизаний (Тустановский-Куколь) (1570—1633), Николай Гусовский (1470—1533) и Ян Намысловский (1566—1633), Спиридон Соболь (? – 1645) и Соломон Рысинский (1560—1625), Копиевский (1651—1714, Копиевич) и многие другие.
Можно в этот ряд включить и выдающегося ученого-филолога и религиозного деятеля Мелетия Смотрицкого, Архиепископа Полоцкого, Витебского и Мстиславского (1577—1633), родившегося около Ровно (совр. Украина), имя которого связано с Острожской академией, князем Острожским, Острожской типографией, первопечатником Иваном Федоровым (Федоровичем), с его авторством «Грамматики Словенской».
Росла в обществе тяга к знаниям, особенно в городской среде, которая знакомилась с европейскими достижениями, «местчане» («горожане»), а особенно их сыновья, покидали родные места, чтобы приобщиться к мировой культуре. Великие князья, соприкоснувшиеся с Европой, с элитой передовых стран, способствовали этому необратимому процессу, отправляли заграницу своих сыновей и перспективную молодежь ВКЛ.
Грамота Великого князя Казимира 1447 года о праве свободного выезда за границу на учёбу в университеты «для лепшаго счасьця набыцья» («достижения высшего счастья» пер с бел. яз. авт.) позволила десяткам и сотням уроженцев Беларуси (Литвы) получить высшее (по тем меркам) образование в Кракове, Праге, Вене, Падуе и Болонье.
На переломе XV – XVI столетий в Краковском университете училось более 140 студентов-литвинов (беларусов), среди которых появился в 1504 году, прославленный позже, Франтишак Скарына, «литвин из Полоцка» [18].
В это же время зачастили в Вильно и протестантские миссионеры. В правление Сигизмунда I («Старого») и королевы Бона Сфорца, король Польши и Великий князь литовский Сигизмунд II Август стал покровительствовать протестантам.
Расцвету культуры Великого княжества, развитию его столицы Вильны, его культурных центров – Несвижа, Гродно, Слуцка и Полоцка, – «золотому веку» княжества особенно способствовала открытая политика короля Сигизмунда-Августа (1520- 1572) и его позиция в вопросах веры, его особая веротерпимость.
Одним из центров накопления знаний и источником просвещения в Вильно стала «иезуитская коллегия», основателем которой был Валериан Протасевич. На её основе был открыт ПЕРВЫЙ университет Великого княжества.
Хочу воспользоваться для более полной оценки того времени описаниеми столичной жизни Вильны известным историком, археологом и литератором ХIХ века, Адамом Киркором (1818—1886, Adam Honory Kirkor), сохраняя цитаты из его статьи в оригинале:
«Царствование Сигизмунда I и Сигимунда Августа были счастливейшими годами в жизни Вильна. Дипломат XVI столетия барон Герберштейн, проездом из Москвы, где он был посланником императора Сигизмунда у Василия IV Иоанновича, описывая Вильно, говорит, что оно окружено каменною стеною, что в нем два монастыря, много православных церквей, римско-католических костелов и каменных домов.
В 1509 году происходил в Вильне церковный собор, в котором духовенство Московской Руси не принимало участия. Деяния этаго собора имели целию установление для духовенства правил в нравственном отношении.
В 1522 году основано в Вильне первое училище при кафедральном соборе.
В 1530 заведено другое училище при костеле св. Иоанна. В 1519 году заведена славянская типография Яковом Бабичем, в 1533 году Андреем Ленчинским основаны латинская и польская.
Сигизмунд Август, еще при жизни отца приняв в управление Литву (1543), после смерти супруги своей Елисаветы, дочери императора Фердинанда, скончавшейся в 1544 году, вступил тайно в брак с Варварою, дочерью Виленскаго кастеляна Юрия Радзивилла, вдовою после Станислава Гастольда воеводы Трокскаго.
В 1545 г. основан оружейный и пороховой заводы, а в 1547 одним из придворных Сигизмунда, Палецким, основан стеклянный завод. В 1513 и 1530 годах пожары причинили много вреда Вильне; нижний город возобновлен был Сигизмундом, а кафедральный собор князем Иоанном Виленским епископом» [19].
БОНА СФОРЦА дАРАГОНА (1494—1557) Королева-мать
портрет, Кранах мл. XVI ст.)
Бона Сфорца – королева польская и великая княгиня литовская (1518 -1556 г.г.), вторая супруга короля Сигизмунда I «Старого», дочь миланского герцога Джиана Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагонской.
Небольшое отступление. Король Сигизмунд I «Старый» и королева, Бона Сфорца, отчаянно противились браку своего сына, Сигизмунда Августа, а потому только после смерти Сигизмунда I, Сигизмунд-Август торжественно объявил Варвару своею супругою, несмотря на сопротивление со стороны матери Боны Сфорца и польских вельмож. Варвара (Барбара) умерла в Кракове в 1551 году. Её прах Сигизмунд Август перевез в Виьно и торжественно похоронил в кафедральном соборе
(Подробнее о Варваре (Барбаре) Радзивилл и королеве Бона Сфорца можно прочитать в Книге Первой в Гл. «Королевы – матери королей – золотой генофонд Беларуси», стр.80).
Далее у Адама Киркора читаем:
«Знаменитейшее Литовское юношество, как напр. Радзивиллы, Хадкевичи, Сапеги, Кишки, Глебовичи и др. получали образование за границею, там проникались духом вновь образовавшихся учений лютеранскаго, кальвинскаго и др. многие переменяли веру, вступали в брак с протестантками и вовратясь на родину распространяли новыя учения, или, по крайней мере, смотрели благосклонно и не препятствовали другим присоединяться к протестантизму.
Таким образом, новыя учения стали проникать в Литву с самаго начала своего образования».
«Авраам Кульва, Литовец, начал проповедывать лютеранскую веру в Вильне еще в 1539 году и основал здесь училище; но Виленский епископ князь Павел Гольшанский, исходатайствовал у Сигизмунда I повеление, коим Кульва обязан был явиться на суд епископа и покориться его решению. Кульва бежал в Пруссию, но им порожденныя нравы впились уже глубоко. Напрасно в 1541 году издан был декрет, коим всякий принимающий новое учение лишался дворянскаго достоинства; напрасно воспрещено было выписывать учителей из Германии и посылать туда юношей для образования: Литовцы, покровительствуемые Сигизмундом Августом, неслушались стараго короля, а едва умер Сигизмунд I протестантския учения безпрепятственно стали распространяться в Вилье и целой Литве. Сигизмунд Август был человеком образованным и любознательным, имел благородное и теплое сердце; поэтому он оставался верен католической церкви, но не стеснял ни чьей свободы совести, позволял собственным своим проповедникам Ивану Козминчику и Лаврентию Дискордия явно проповедывать учение Лютера; этаго мало, из его богатой библиотеки расходились по рукам сочинения Лютера, Кальвина, Меланхтона, Буцера и др.» [19].
Столица княжества, город Вильня (Вильно, Вильнюс и даже Вильда у разных писателей) к ХVI веку стал многонациональным, многоконфессиональным городом. В 1596 году в Вильне было 15 православных (беларуских ортодоксальных), 14 католических костёлов, 1 лютеранская «кирха» и 2 кальвинистских «збора», несколько еврейских синагог и 2 мечети. Вильня стала центром беларуской, литовской, польской, немецкой, татарской и еврейской культуры народов Великого княжества. Особую роль Вильня сыграла в продвижении новых, реформаторских идей просвещения, чему способствовали интересы Великих князей, их окружения, непосредственно общающегося с европейскими культурными кругами.
«Учение Кальвина распространялось в Вильне еще свободнее, потому что ревностным поборником онаго явился князь Николай Радзивилл прозванный Черным, возведенный Сигизмундом Августом на высшия в государстве – Виленскаго воеводы, вел. Маршала и канцлера в. к. Литовскаго Князь Н. Радзивилл воспитанный в Германии возвратился в отечество напитанный духом Кальвинова и Цвинглия учений; потом во время посольства к императору Фердинанду (1545), а также в Прагу, еще более утвердился в оном, и, около 1553 года торжественно принял евангелическо-реформатское исповедание вместе с супругою своею Елисаветою, урожденною Шидловецкою, детьми, со всеми домашними и многочисленными своими приверженцами. Пример был заразительный и вся епископа не могла ему противудействовать.
Он основал кальвинский сбор (коллегию), куда собирались все единоверцы для совещаний и богослужения под руководством ревностнаго кальвиниста Мартина Чеховича нарочно выписаннаго из Польши, котораго он посылал потом в Швейцарию, чтобы ближе ознакомиться с обрядами и правилами сего учения. Князь Радзивилл пользовался неограниченным доверием и дружбою короля и потому ему легко было склонить его в пользу своих единоверцев. Сигизмунд Август до конца жизни отличался особенною терпимостью в делах веры. Павел IV присылал к нему своего легата, епископа Липпомани, с целию уговорить его принять решительныя меры против реформатов и воспретить их распространению; Сигизмунд Август вежливо принял легата, уверял его в преданности к католической вере и папе, но не согласился на преследование протестантов» [там же]
В 1563 г. Сигизмунд-Август жалованною грамотою Литовскому и Русскому дворянству всех исповеданий, даровал те же права, коими пользовалось дворянство Польскаго королевства. Кальвин, Геслер, Билингер были с ним в переписке. Лютер посвятил ему перевод библии, а Кальвин объяснение посланий апостола Павла к Евреям. Лютеране, реформаты безпрепятственно сооружали храмы свои в Вильне. Даже пользуясь его веротерпимостью во множестве переселялись сюда из других стран. Сигизмунд-Август почти безвыездно жил в Вильне, окруженный блистательным двором, множеством иностранцев, великолепием, блеском. Население города увеличивалось, торговля и промышленность процветали.
Вильно в это время было одною из знаменитейших столиц в Европе. Монастыри, соборы, костелы, кирхи, синагоги, мечети наполнялись разнородными жителями Вильна: Литовцами, Русскими, Поляками, Армянами, Греками, Немцами, Евреями, Турками, Татарами.
Сигизмунд-Август страстно любил Вильно, ничего не жалел для украшения своей столицы, заботился о всех, и все сословия, люди всех исповеданий, без различия, составляли предмет постоянных его попечений. Он выписывал лучших ремесленников и фабрикантов из Кракова, Пруссии и других городов, украшал замки, строил публичныя здания, мосты, разводил сады, приглашал иноземное купечество, учреждал ярмонки, образовал городские ремесленные цехи с особым для каждаго уставом и привиллегиями, собрал богатейшую в свое время библиотеку. Блистательный двор, знаменитейшие вельможи (князья Радзивиллы, Сапеги, Кишки, Слуцкие, Острожские, Ходкевичи) теснились ко двору, строили и украшали великолепныя палаты и подражая королю, сами заботились о процветании столицы, из угождения ему выдумывали разныя увеселения, стараясь превзойти друг друга – роскошью, вкусом, богатством. Вильно кипело жизнью, деятельностью и представляло необыкновенное разнообразие, пестроту во всем в храмах, в зданиях, в людях, в языке, в обычаях, в нарядах.
Беззаботно, весело, без вражды и треволнений, Поляк и Русский, Литовец и Татарин, Грек и Армянин, Еврей и Турок братски подавали друг другу руку, потому что не из чего было ссориться: верховная терпимость всех исповеданий сближала их, упрочивала связи и их отношения. Умер Сигизмунд-Август и все изменилось: братство заменилось – враждою; терпимость – преследованием; благоденствие – бедствиями.
С кончиною Сигизмунда-Августа (1572) надолго кончились счастливые дни Вильны. Ни один из Польских государей не содействовал столько ко благоденствию города. Особенно после кончины Батория, Вильно обречено было на опустошения войн,, пожаров и, что всего ужаснее, порабощение совести в делах веры» [19].
Конечно, картина, нарисованная Адамом Киркором, идиллическая, но это личное видение того времени автором первого «Путеводителя» по Вильне – «Przechadzki po Wilnie i jego okolicach» («Прогулки по Вильне и её окрестностям»; 1856). Переработанный вариант путеводителя на польском языке «Przewodnik po Wilnie i jego okolicach z wykazaniem najbliższych stacyj kolei żelaznych». «Путеводитель по Вильне и её окрестностям с указанием ближайших железнодорожных станций» вышел в 1880 году и затем еще несколько раз переиздавался. И понятно восхищение тем, старым Вильно, эпохи «золотого века», который исчезал в XIX веке, став второразрядной «административной единицей» Российской империи.
Для нас же в этой работе важна оценка атмосферы того времени, детали появления множества конкурирующих между собой конфессий, каждой из которых приходилось прилагать большие усилия и делать финансовые затраты для привлечения неофитов. В этой конкуренции рождалось новое понимание, мироощущение гражданина, горожанина Великого княжества, гражданина Европы, воспитывалось толерантное отношение к людям другой нации, другого вероисповедования.
Самые передовые умы ВКЛ, такие как Францыск Скарына, Сымон Будны, Василь Тяпински, пытались найти в новых вероучениях образцы морали и нравственности, сравнивая и подвергая их критике, иногда находя в них излишнюю ортодоксальность, иногда противоречия с зарождающимся научным знанием.
Различные конфессиональные пристрастия этих великих литвин-беларусов, гуманистов ХVI века не мешали им взаимодействовать в движении к общей цели – развитии народной грамотности, приобщении населения Литвы (Беларуси) к общееропейской культyре. Свою миссию они ставили выше религиозных постулатов, утверждая, как писал, например, Скарына, в предисловии к книге «Притчи Соломона», что главное назначение человека в совершенствовании земной жизни, главная проблема «яко ся имати справовати и жити на сем свете».
Гравюры Скарыны
Гравюры-иллюстрации Скарыны к его книгам обнаруживают высочайшее мастерство первопечатника, техническое совершенство выполненных работ, художника – гравера, предвосхитившего появление других творцов эпохи, таких как Рембрандт.
Фотокопии гравюр взяты из «История Беларуси IX – XVIII веков. Первоисточники. http://starbel.narod.ru/graviury/gal.htm)
Проникнутые жизнеутверждающей силой, возвеличивающие человека-творца, гравюры – иллюстрации Скарыны помогали понять даже малограмотной части населения княжества идеи этого великого гражданина. Работы мастера вошли в мировой фонд достижений европейских, средневековых деятелей Возрождения [20].
Широкие, энциклопедические взгляды выдающихся личностей Беларуси эпохи Возрождения, их отношение к религии, не позволяют современным историкам отнести, например, Скарыну к адептам какого-либо определенного вероучения. Тем более, что соприкоснувшись с «аверроизмом», проведя годы учёбы в католических университетах, Скарына, видимо, скрывал, по крайней мере, не афишировал своё собственное понимание мироздания, свой конфессиональный выбор.
Больше известно о религиозных предпочтениях Сымона Будного, который в 1560-х годах был кальвинистским пастором в Клёцке.
Польский историк Генрик Мерчинг, исследователь творчества Симона Будного, писал, что его «КАТЕХИЗИС… явился ПЕРВОЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ попыткой всесторонней критики текстов Нового завета» [21].
Вместе с Будным в несвижской типографии печатал свои работы Василь Тяпинский, переведший Евангелие на беларуский язык. Несвижская типография стала первой в Великом Княжестве Литовском, где использовались шрифты с кириллицей.
Общение с Будным, исповедовавшим в это время антитринтаризм, веру в единого Бога, учение, отвергающее догмат о Троице, не признающее божественное происхождение Иисуса Христа, привело к этому воззрению также беларуского шляхтича, Василя Тяпинского.
«Ярким представителем радикально-реформационных течений и общественной мысли стал Стефан Григорьевич Лован, мозырский, который был вызван в суд по обвинению в отрицании «Бога в Троице единого» и непризнании Христа божественным искупителем человечества. В своих реформационных воззрениях он приблизился к грани, отделяющей религию от философии, и пришел к очень смелым выводам: отрицал существование души у человека, ада и рая, не верил в наступление судного дня и провозглашал идею несотворенности мира, который, по его мнению, возник сам из себя и будет существовать вечно…
По своей социальной сущности идейная оппозиция православной церкви была явлением глубоко прогрессивным. В превратной, религиозной форме она выражала социальный протест широких демократических слоев православного населения Речи Посполитой против официальной феодальной идеологии, выразителем и пропагандистом которой была православная церковь со своей многочисленной армией белого и черного духовенства. Этот идейный протест выражался не только социально-политическими идеями и требованиями, но и всем составом реформационно-религиозной идеологии, которая, отрицая учение официальной церкви, окружившей «феодальный строй ореолом божественной благодати», отрицала тем самим идеологию и культуру господствующего класса» [22].
Кафедры марксизма-ленинизма, вообще говоря, исчезли, но здравые мысли той старой профессуры нам сегодня, ой-как, нужны, особенно в оценках религиозных предпочтений.
Франциск Скарына, Сымон Будны, Василь Тяпински, эти беларусы-литвины создали удивительный культурный фон Великого княжества, они учили веротерпимости, способствовали вхождению общества и его отдельных представителей в общеевропейскую культуру. И, конечно, главной своей задачей, они ставили просвещение народа «литвин-беларусов». Не надо смущаться по поводу того, что часто их слова, тексты их сочинений называют «русскими». Православие «русского извода» не разделяло тогда еще людей на «народы» или «нации», церковнославянский («русский») язык был обязательным для служения в православных церквях. Старобеларуский язык воспринимался, как несколько видоизмененный русский, хотя оба языка одновременно вышли из одного лона старославянского наречия.
Старобеларуский (староукраинский) выполнял свою главную задачу коммуникации со всеми близкими языками славянского окружения.
Собственно, это и дало повод русским историкам, создать свою версию «братства трех народов», не замечая достаточно глубоких различий между ними уже в начале ХV века. Основатели «новой старобеларуской литературы», прекрасно понимали это расхождение в развитии старобеларуского и русского языков из общеславянского корня, и делали попытки воздействия, часто весьма плодотворного, на литературный русский язык.
«Франциск Скорина и Петр Мстиславец, Иван Пересветов и Илья Копиевич, Иоиль Турцевич и Симеон Полоцкий осознавали свои отличия от москвитян, при всяком случае подчеркивали свою этническую самость, что порой вызывало серьезное раздражение в Москве. Являясь новаторами русского языка, они оставались беларусами. И, судя по всему, не ощущали никаких душевных переживаний по этому поводу» [87]..
В качестве примера исторического расхождения культур литвин-беларусов и «московитян» ХVI века можно сослаться на эпизод с организацией типографии в Москве литвинами (беларусами) Иваном Федоровым (Иван Федоров, точнее Федорович, был происхождением из беларуского шляхетского рода герба «Шранява») и Петром Мстиславцем (Мстислав – город на востоке совр. Беларуси). Попытка создать в Москве типографию, организовать книгопечатание, были враждебно встречены московским духовенством. Вскоре после начала их деятельности, появились обвинения в «распространении ереси». В 1566 году фанатиками была разрушена московская типография Ивана Федоровича и Петра Мстиславца. Иван Федоров (Федорович) и Петр Мстиславец, начали книгопечатание в Москве, но их книги («Апостол» и «Часовник») были сожжены по настоянию русской православной церкви (1566), так же, как и за сорок лет до этого были сожжены в Москве книги самого Франциска Скарыны. Книги, напечатанные в Великом княжестве, в Москве считались долгое время «еретическими» [88].
Первопечатники вынуждены были вернуться на родину, в Великое Княжество Литовское, где нашли пристанище у высокообразованного гетмана Хадкевича. В его имении, расположенном в Заблудове (совр. Белостоцкое воеводство Польши), ими были изданы Евангелие (1569 г.) и Псалтырь (1570 г.). Позже Пётр Мстиславец открыл свою типографию в Вильно, а Иван Федорович во Львове.
Несколько слов ещё об одной личности из этой замечательной плеяды просветителей Литвы-Беларуси, о Василе Тяпинском. «Евангелие от Матфея» Василя Тяпинского, напечатанное в его собственной типографии (1580 г.), было переводом с польского и церковно-славянского на разговорный старо-беларуский язык (беларуский перевод сопровождался церковно-славянским текстом).
В предисловии к «Евангелию» Василь Тяпинский специально отметил, что между «великими княжатами и панами значными в руском (что означало православном) народе такое неумение языку своему пришло», даже между «духовными и учителями», что к польскому письму и себя, и своих приучают («заправуют»). Это были первые попытки противостояния «полонизации» старобеларуского языка.
Что касается связи «Золотого века» или «Реформации» с беларуским Возрождением, то это все находится в плоскости словесной эквилибристики, словоблудия, так как трактовка этого времени нашими современниками, разделившимися на два лагеря, никогда не приведет к консенсусу – мало доказательств, фактов или документов для вынесения «окончательного приговора». Впрочем, и сам термин «золотой век» требует нового осмысления. Читателю остается лишь примкнуть к одному или второму лагерю, в соответствии со своими вкусовыми (стилистическими) пристрастиями…
Несколько лет тому назад разгорелась по этому поводу очередная дискуссия в интернете – был ли «золотой век» в Беларуси. Авторы, как правило, анонимные, теперь это модно – выступать под каким-нибудь «ником». Но вот что писал «историк» под «кличкой» «servus» (20.11.05 20:58) в дискуссии «Золотой век Реформации в Беларуси», полемизируя со своими оппонентами, написал интересно, стоит прочтения:
«Золотой век» не Реформации, а Беларуси. А Реформация – одна из причин того, что этот «Золотой век» имел место в нашей истории. У «Золотого века» несколько причин: культурные, политические, экономические. Реформация – одна из причин. Акинчиц считает эту причину определяющей. И я с ним в этом согласен. «Сымон Будны – человек. Грешный человек. (Жаль, что не сохранилась его антроподецея «Об оправдании грешного человека перед Богом»). Я тоже грешен, могу ошибаться. А Вы? … Понимаю. Тогда не указывайте мне на ересь Будного без ЧЕТКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ, что это за аргумент…
А Сымон Будны – ярчайшая личность «Золотого века». При всех его грехах, ошибках и недостатках характера. «Золотой век» – тривиальная метафора, которой обозначают некоторые эпохи культурного подъема у тех или иных народов, в тех или иных цивилизациях. В Беларуси такой культурный подъем имел место в 16 столетии. В нем приняли участие гиганты, они были разного происхождения, разного вероисповедания, даже атеисты (Каспар Бекеш, Лещинский и др.).
Любой культурный подъем выносит на поверхность, как гениев, так и экстраординарных злодеев. Беларуский «Золотой век» был одной из последних волн общеевропейского культурного подъема, известного в истории как эпоха Возрождения и Реформации (Возрождения античного наследия и Реформации апостольского наследия, в этом их общая возрожденческо-реформатоская природа). Возрождение-Реформация охватили всю Европу. На романском юге (частично и в Германии) это понималось как возрождение, возврат к тому, что когда-то у них было. На германском севере (включая Скандинавию) и на славянском востоке (Чехия, Польша и Литва) «возрождать» в прямом смысле было нечего, но и они были охвачены культурным подъемом. Во многом заимствованным, инициированным с Запада и Юга.
Оттуда приезжали в Польшу и Литву культурные деятели, туда ездили учиться наши люди, туда они возвращались от общего жлобства. Но так было и с датчанами и прочими шведами. Только они по этому поводу не комплексуют. Как и финны с латышами и эстонцами…
И французы с немцами тоже не комплексуют по этому поводу. Вы станете возражать против того, что в 16 веке в Беларуси имел место небывалый до того культурный подъем?»
С большим опозданием, к сожалению, могу ответить этому анониму – конечно, был этот подъем, а как его назвать – дело вкуса. Мне нравиться – «Золотой век Беларуси», хотя правильнее, все-таки, «Золотой век Великого княжества», но есть и другие оценки этого удивительного периода в истории ВКЛ, с другим наименованием этого времени: «Беларуское Возрождение», «Ренессанс» и т. д.
«Реформация сформировала беларуское Возрождение, сотворила „Золотой век“ Беларуси, заложила основу беларуской нации. К XVI веку обращаются многие поколения беларусов в поисках своих корней, своей идентичности, своего предназначения, своей (национальной) идеи… Золотой век Беларуси, XVI век, показывает нам, где тот добрый путь, по которому следует идти, чтобы Беларусь заняла своё почётное место среди народов» [23].
Так охарактеризовал это время, несомненно, самое плодотворное во многих сферах общественного развития, беларуский историк Станислав Акинчиц.
А вот с точки зрения «православных историков» никакого «Золотого века» и Реформации, или Возрождения, в Великом княжестве вообще не было, и они трактуют лишь «православные» достижения ВКЛ, как единственные, имеющие непреходящую ценность, и поколебать их в этом убеждении невозможно. Да и не нужно. Слава Богу, в Беларуси сегодняшней не рушат оставшиеся от советских «борцов за справедливость» католические храмы, хотя кальвинистские почти все уничтожены. Пытаются даже возродить, восстановить униатство, и в Минске где-то даже построили синагогу, взамен взорванной в 1950- годы, рядом с моим домом, на Немиге, и уцелевшую в войну с Германией.
Но надо дать слово ревнителям «истинной веры». Священник Алексий Хотеев опубликовал работу, контрверсию статьям Акинчица и работам Падокшина – «Реформация в Беларуси XVI в. и неохаризматические чаяния» [24].
Вот его некоторые аргументы, и ссылается он в своей статье, всё на того же Францыска Скарыну:
«Конечно, развитие белорусской письменности в XVI веке есть признак национального возрождения, но это не самоцель. Были книги белорусских просветителей и реформаторов, адресованные простому народу, однако их идейное содержание было наднациональным. Думать по-другому, значит, неадекватно воспринимать реальности прошлого. Реформаторы несли своему читателю проповедь не о его «белорусскости», а о его так или иначе понимаемых христианских обязанностях. Но наукой всех наук тогда считалось добронравие. Вот что писал знаменитый белорусский просветитель Франциск Скорина в своем предисловии к переводу Библии на старобларуский язык:
«Святое письмо все науки превышает […] В сей книзе вси лекарства душевные и телесные зуполне знайдете. Ту навучение филозофии добронравное, яко любити Бога для самого себе и ближняго для Бога имамы» [25].
То есть, некоторые высказывания Скарыны, вырванные из контекста его «Предисловия», привлекаются для того, чтобы доказать, что «возрождение» касалось не литвин-беларусов, что идеи реформации были абстрактные, «наднациональные», что «идейное содержание» работ великих беларуских гуманистов, главным образом, было направлено на «христианские обязанности».
Впрочем, раз «православные историки» так считают, то пусть и остаются в своём святом заблуждении. Я думаю, что другие взгляды красивой метафоре «золотой век» не повредят. Мы же постараемся наполнить эту метафору дополнительным фактологическим содержанием.
Государственное строительство федеративного государства, Речи Посполитой, на первых порах, не противодействовало идеям Реформации, к тому же, при открытых границах нового государства, эти идеи проникали на земли ВКЛ и Польши разными путями. Например, торговые, а в прошлом и военные, связи с Чехией (вспомните соместные баталии с немцами при Грюнвальде) давали возможность польскому обществу знакомиться с реформаторскими взглядами национального движения гуситов. Большое количество польской и литовской «шляхты», а потом и городского купечества, направлялось на учебу в Германию и Италию, и привозили оттуда новые представления, новые книги и новые взгляды.
В ХVI – ХVII веках на всей территории Литвы-Беларуси (Великого княжества, ВКЛ), в разных городах и в сельской местности, повсеместно открывались учебные заведения: «коллегиумы», «академии», «семинарии» и многочисленные «бурсы», школы разных «братств» и «орденов». Первый «гимназиум» в ВКЛ был открыт в Новогрудке в 1539 году.
В это время началось усиление противостояния «реформаторам» со стороны римско-католической церкви, активизировался Орден Иезуитов («общество Иисуса»), чья роль в развитии образования не ограничивалась столицей, городскими жителями. Монахи Ордена, выполняя обет милосердия, помогали получить образование мальчикам из обездоленных слоев шляхты за собственный счет. С этой целью они создавали семинарии, «институты для бедной шляхты», организация которых являлась одним из направлений благотворительной деятельности «Общества Иисуса».
ПЕРВОЙ СЕМИНАРИЕЙ, открытой монахами-иезуитами на территории Беларуси, была Полоцкая. Она была основана по указанию польского короля Стефана Батория 20 января 1582 года [26].
Второй, стала Слуцкая, её «фундатором» явился Иероним Клокоцкий, основатель коллегии, выделивший на организацию и деятельность семинарии 40 тысяч злотых.
Подробно история деятельности Ордена Иезуитов на территории Беларуси (ВКЛ) изложена в работе Т. Б. Блиновой «ИЕЗУИТЫ В БЕЛАРУСИ (Их роль в организации образования и просвещения)» [27].
Приведу некоторые выдержки из этой работы (Гл. IV, 1. Первая и вторая иезуитские семинарии):
«Самыми древними школами-«бурсами» в Беларуси являются Несвижская и Полоцкая. Их появление на свет было предусмотрено «фундушевыми грамотами» основателей коллегии. Так, первая семинария начала свою деятельность в 80-е годы XVI века, благодаря «фундации» Николая Радзивилла «Сиротки», который, по утверждению крупнейшего историка ордена, немало сделал для бедной шляхетской молодежи, и ей «нигде не было так хорошо, как здесь» [Zaікski S. Jezuici w Polsce T. IV. Cz. I. S. 436.]
ПОЛОЦК, здания Полоцкого коллегиума в ХVII веке фотокопия гравюры
(http://novopolock.ru/polotsk/dostoprimechatelnosti/polotskij-iezuitskij-kollegium.html)
В первой половине ХVI века был построен в Пинске «коллегиум» иезуитов. «Коллегиум» был открыт по прямому указанию короля Речи Посполитой Стефана Батория и размещался на острове Западной Двины, напротив Софийского собора.
Полоцкая иезуитская семинария-коллегиум стала прообразом университетов, организатором университетского образования в Беларуси-Литве, насчитывающего четырехвековую историю.
«В то время в Западной и Центральной Европе, в том числе и на территории современной Беларуси, система образования и воспитания, выработанная иезуитами, была чрезвычайно популярной. Полоцкую интеллектуальную элиту представляли люди, хорошо известные во всей Европе. Среди них „христианский Гораций“ Мацей Сарбевский, автор первых отечественных учебников на греческом языке Сигизмунд Лауксмин, знаменитый оратор Казимир Коялович, профессор архитектуры Андрей Жабровских, ученый-энциклопедист, будущий ректор Виленского университета, член Королевского астрономического общества в Лондоне, член-корреспондент Парижской академии наук Пачобут-Адленицкий. Не менее блестящую плеяду составляли и выпускники учреждения – живописец Валентий Ванькович, поэт, драматург и историк Никодим Мусницкий, писатель, один из основоположников новой беларуской литературы Ян Барщевский» [28].
Мацей Казимир Сарбевский (1595—1640) читал в Полоцком коллегиуме лекции по риторике и поэтике, писал стихи на латинском языке (как ранее Микола Гусовский), и был увенчан в Риме лавровым венком с титулом «христианский Гораций». Книга-учебник Сигизмунда (Жигимонта) Лауксмана «Практическое красноречие» выдержала 11 изданий: в Вене, Мюнхене, Праге и Франкфурте.
«Славная история Пинской иезуитской коллегии прервалась в 1773 году, когда Ватикан распустил этот монашеский орден и был занят униатами. С 1800 до 1918 года здесь находился Богоявленский собор, с 1848 г. действовало духовное училище, а с 1918 до 1939 года комплекс принадлежал католикам. Богатейшая библиотека коллегиума (два вагона) была вывезена в 1940 году в Ленинград, а Костёл Святого Станислава взорван в 1953 году» [29].
Последнее «достижение» сподвижников «гения всех времен».
Еще одно высшее учебное заведение Великого княжества было построено в Орше. В 1610 году король Сигизмунд пожертвовал оршанским иезуитам приход, в 1612 году ещё 5 деревень, а в 1616 году – большое имение Фащеевка, выделенное из земель Могилёвской королевской экономии. Резиденция иезуитов в Орше в том же году была преобразована в коллегиум.
Иезуитский коллегиум в Орше
Пинский коллегиум иезуитов историки называют одним из шедевров зодчества, которые оставил Беларуси XVII век. Массивные, толщиной до 2-х метров, похожие на бойницы окна, подземные ходы, что ведут к реке, подвалы с немалым запасом продовольствия, при необходимости, превращали это здание в неприступную крепость, в которой можно было выдерживать длительную осаду [30].
Иезуитский коллегиум в Пинске сегодня.
«Что же касается Полоцкой «школы-бурсы», то ее возникновение относится к 1586 году, когда наряду со строительством новых обширных деревянных зданий коллегии, костела и конвикта, для бедной молодежи был сооружен отдельный дом «бурса». Вслед за Полоцком и Несвижем появилась иезуитская бурса в Орше. Она возникла в 1634 году, благодаря «фундации» короля Владислава IV, подарившего членам ордена деревню Дубовка, расположенную в Минском «павете». Минская бурса начала историю своего существования в 1686 году, а Пинская – в 1678 году. Интересно отметить тот факт, что, как правило, возникновение бурс совпадает с открытием при иезуитских школах классов поэзии и риторики. Известно, что заключительным экзаменом по риторике было публичное театральное представление…
…В Несвиже, по свидетельству документа, музыкальная бурса уже действовала в 1687 году. Музыкальные инструменты для бурс либо дарились покровителями иезуитов, либо покупались. Так, например, витебский подкоморий Адам Франтишек подарил местным членам ордена в конце XVII века орган за 400 польских злотых» [31].
Виленский, иезуитский «коллегиум», трудами литвина (беларуса), виленского епископа (епископ с 1556 года) Валериана Протасевича («фундатор»), открыл свои двери для учеников в 1570 году. В «коллегиуме», кроме церковных предметов, велось обучение древнегреческому языку и латыни, математике, истории, географии, риторике, поэзии. Спустя восемь лет король Стефан Баторий предоставил коллегии права университета (1579).
В ХVI веке зачастили в Вильно протестантские миссионеры. Сын Сигизмунда I («Старого») и королевы Бона Сфорца, Король Польши и Великий князь литовский Сигизмунд II Август стал покровительствовать протестантам.
«Воспитывавшийся при дворе матери королевы Боны Сфорца, он подружился с духовником матери Франческо Лисманини, тайным приверженцем Реформации. Будущий король знакомился с сочинениями деятелей Реформации, даже отправлял Лисманини в Швейцарию покупать книги.
Несомненно, беседовал король и с придворными проповедниками, Иваном Козьминским и Лаврентием (Дискордием) из Прошович, которых взял с собой в Литву в 1544 году. Он писал в 1547 году краковскому бискупу: «Ещё слишком свежи в этом нашем Великом княжестве веяния старой веры. Потому что здесь, по-над Вильней, тёмный необразованный народ отдаёт почесть божескую (не говоря уже о других суевериях) лесам, дубам, липам, ручьям, валунам, ужам, и приносит им жертвы, как общие, так и личные…».
Король Сигизмунд II Август переписывался с Кальвином. Лютер и Кальвин посвятили королю свои сочинения: Кальвин – толкование на послание Павла к евреям, Лютер – свой перевод Библии» [25]. Король в совершенстве владел старобеларуским языком, официальным языком княжества, о чем свидетельствуют документы того времени, например, ниже приведенный:
«1552 г. Декабря 23.
Грамота Сигизмунда Августа, данная Василію Тишковичу
на пожизненное владѣніе имѣніями Лососиною,
Байкевичами, Бѣлавичами и Рожаною.
Жикгимонтъ Августъ, Божою милостію король Польскій, великій князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецскій и иныхъ.
Чинимъ явно симъ листомъ, ижъ мы, вбачивши на верныи а пильныи къ намъ господарю службы маршалка нашого, державцы Менского и Волковыйского, пана Василея Тишковича, дали ему дворы нашы повѣту Слонимского на имя Лососиную, Байкевичи, Бѣлавичи и зъ мѣстечкомъ Рожаною и зъ селы и приселки, которые здавна къ тому двору нашому Лососину прислухало и теперъ прислухаеть, съ половицею гуменъ тыхъ дворовъ нашихъ и съ половицею цыншовъ и платовъ и доходовъ всякихъ, яко ся тыи дворы наши сами въ собѣ и во всихъ пожиткохъ своихъ здавна и нинѣ мають, и яко на насъ господаря были держаны и въ справѣ волочной отъ насъ постановлены, и тежъ съ половицею дани грошовое и медовое и со всимъ съ тымъ, што здавна ку тымъ дворомъ нашимъ прислухало и теперъ прислухаеть, до его живота.
Маеть панъ Василей Тишковичъ тые дворы наши отъ насъ держати и у справѣ своей владнути, со всимъ по тому, яко на насъ господаря было то держано, ихъ мѣти, гдѣжъ мы и зъ личбы скарбу нашого зъ оныхъ дворовъ нашихъ вышемененыхъ яко зъ гуменъ, такъ и съ цыншовъ и со всихъ доходовъ, пожитковъ его зъ ласки нашое вызволяемъ и вольнымъ его въ томъ чинимъ.
Веджо подъ тымъ способомъ и обычаемъ тыи дворы наши отъ насъ ему даемъ, и то на вѣру его здаемъ, ижъ маеть онъ съ тыхъ дворовъ нашихъ половицу всихъ доходовъ, цыншовъ, пожитковъ и даней грошовыхъ, медовыхъ, который съ тыхъ дворовъ нашихъ приходять и тежъ зъ гуменъ, продаючи ихъ, половицу на насъ господаря до скарбу нашого давати, а другую половицу всихъ доходовъ, пожитковъ, цыншовъ и гуменъ маеть онъ съ тыхъ дворовъ нашихъ на себе мѣти и брати ку своему власному пожитку.
И маеть онъ почати тыи дворы отъ насъ держати отъ сего нового лѣта Обрѣзанья Господня пришлого свята, которое въ року тисяча пятьсотъ пятдесятъ третьемъ будеть, нижли въ тотъ жо годъ въ року тисяча пятьсотъ петдесятъ третемъ и потомъ годъ отъ году завжды будеть онъ виненъ половицу цыншовъ, доходовъ, пожитковъ, даней грошовыхъ и медовыхъ и зъ гуменъ, продаючи ихъ съ тыхъ дворовъ нашихъ, на насъ до скарбу нашого безъ жадного чиненья личбы отдавати, а другую половицу того всего на себе мѣти до своего живота.
А што ся дотычеть справы и постановенья волокъ и пожитковъ въ тыхъ дворѣхъ нашихъ, ино панъ Василей не маеть ни въ чомъ оное справы и постановенья волокъ нашихъ нарушати и ихъ казити.
Але ещо маеть вси доходы, пожитки множити и люди на волокахъ осаживати, яко прислушить на доброго звѣреного врядника нашого.
А по животѣ пана Василевомъ не мають тыи дворы наши жонѣ, ани дѣтемъ его прійти, одно то маеть зася на насъ господаря быти взято къ замку нашому Слонимскому къ рукамъ нашимъ быти держано, яко жъ есмо очивисто розказали воеводѣ Новгородскому, маршалку дворному, подскарбему земскому, старостѣ Слонимскому и Мстибоговскому, пану Ивану Горностаю, абы его милость розказалъ въ тыи дворы наши увязанье ему дати и съ чимъ то будеть подано на реестра списати.
И на то есмо ему дали нашъ листъ зъ нашею печатью.
Писанъ у Вильни, лѣта Божого Нароженья тысяча пятьсотъ пятьдесятъ второго, Декабря двадцать третьего дня.
Sigismundus Augustus Rex»
Иванъ Горностай (староста Слонимский, возможно, «писарь», прим. авт.).
Дух реформаторства проникал в образованные семьи магнатов Великого княжества разными путями. Николай Радзивилл Чёрный, который с 1529 года жил и воспитывался при королевском дворе в Кракове, в 1534 году стал учиться в Краковском университете.
Беларуский историк К. Шишигина-Потоцкая пишет: «В 1529 году по решению монарха Сигизмунда Старого Николай Чёрный некоторое время жил при королевском дворе в Кракове, где вместе с будущим польским королем и великим князем Сигизмундом Августом получал образование.
Атмосфера Возрождения при дворе имела большое влияние на его вкусы и привычки. Закончив обучение, он вместе с братом вернулся в Несвиж и активно включился в политическую и экономическую жизнь страны» [31].
Остается только удивляться тому подъему в духовной и материальной сфере, какой охватил Беларусь-Литву, Великое княжество (ВКЛ) в ХVI и ХVII веках, но не заметить его невозможно, и этот подъем безусловно связан с влиянием миссионеров-протестантов и их деятельностью на землях ВКЛ.
«Николай Радзивилл Чёрный стал в Великом княжестве Литовском защитником и поборником кальвинизма. Прежде всего он открыл кальвинистскую молельню в своем доме на Лукишках под Вильно. В 1561 году на виленской Бернардинской площади он поставил каменный собор („збор“, бел. яз.), открыл молельни в своих усадьбах ― в Клецке, Несвиже, Орше, Девялтове, Ивье, Шилянах, Койданах, Биржанах, Бресте» [25].
Кальвинистский собор «збор» (ХVI век) в Койданове
Койданава, сегодня Дзержинск, Минская обл. Беларусь, кальвинистский собор был взорван и разобран на кирпичи в 1930—1950 годы в период сталинских гонений на религию.
Неофитам кальвинизма импонировали простые истины новой религии, легко уживавшиеся с новыми, научными и техническими достижениями средневековья.
Согласно учению кальвинизма, «первородный грех извратил природу человека, лишил его способности к добру, поэтому он мог добиться спасения не с помощью добрых дел, таинств и аскетизма, а только благодаря личной вере в искупительную жертву Христа. Так, в кальвинизме снималось догматическое различие между священником и мирянином, упразднялась церковная иерархия».
«Была отвергнута молитва за умерших, поклонение святым и многочисленные праздники в их честь, почитание мощей и икон. Молитвенные дома были освобождены от пышного убранства, от алтарей, икон, статуй, сняты колокола. Реформируя церковь, кальвинизм отказался от монастырей и монашества. Богослужение было предельно упрощено и сведено к проповеди, молитве и пению псалмов и гимнов на РОДНОМ ЯЗЫКЕ. Библия провозглашалась единственным источником вероучения»… [25].
Постулаты кальвинистского учения протворечили догматам католицизма и, почти столько же, православию. Но это был несомненный шаг вперед, прорывающий многовековую косность и той и другой религии. Оставим богословам возможность продолжить дебаты по тонкостям религиозного сознания – эти споры будут длиться столько, сколько будут живы последователи тех или иных вероучений. Ведь даже термин «золотой век» вызывает резкое противодействие сторонников, всё ещё доминирующей сегодня, «правильной» точки зрения на историю Беларуси, «спущенной» сверху.
Реформация ХVI века в ВКЛ, век, так называемого, «беларуского ренессанса» (заменим здесь этим научным определением слова – «золотые века») известна своими латиноязычными авторами, одним из которых был Николай Гусовский (1470—1533). Его перу принадлежит одно из лучших произведений поэзии Возрождения в Беларуси «Carmen de statura feritate ac venatione bisontis» («Песня про зубра»).
Мне не совсем понятно – почему эта поэма, написанная на латинском языке и поднесенная Гусовским когда-то польской королеве, итальянке Бона Сфорца, заставляет копаться в деталях той эпохи современных «патриотов советского разлива» с единственной целью – доказать, что «не было золотого века». Что же их так раздражает? Что Гусовский был литвином (беларусом)? А «Ренессанс», который так и не достиг границ Московии, не нервирует наших оппонентов?
Поэму («песню») на современный беларуский язык переводили Язэп Семяжон, Владимир Шатон и Наталия Арсеньева. Существуют также переводы этого произведения на русский, польский, литовский, болгарский и другие языки.
Не менее известным поэтом-латинистом веком позже стал Мацей Казимир Сарбевский (1595—1640), который читал в Полоцком коллегиуме лекции по риторике и поэтике, писал стихи на латинском языке и был увенчан в Риме лавровым венком с титулом «христианский Гораций».
«Золотым веком» ВКЛ, в отличие от, так называемых, «официальных» историков, предпочитающих термин «реформация», называют время протестантизма историки-любители, писатели и журналисты.
Понятие «золотой век» стало образной характеристикой, обозначающей время расцвета всей культурной жизни предшественницы современной Беларуси, Великого Княжества Литовского, время развития его духовной составляющей. В подтверждение этой точки зрения я позволю себе процитировать в переводе с беларуского языка отдельные выдержки из книги Станислава Акинчица «Залаты век Беларусi» [32], так как согласен, в основном, со всеми его доводами.
«В XVI столетии вся Европа переживала грандиозные перемены в своёй духовной, культурной, экономической и политической жизни, связанной с обновлением института церкви, возвратом к библейским основам христианства. Это движение, называемое Реформацией, стало источником расцвета многих народов. Немцы, шведы, англичане, голландцы, швейцарцы, благодаря Реформации, стали целостными современными нациями. Реформация оказалась центральным достижением всего XVI столетия. В полной мере всё это относится и к Литве-Беларуси. Мы не можем говорить о Возрождении в Беларуси, игнорируя Реформацию, так же как нельзя Реформацию отделять от Возрождения.
Выдающиеся личности беларуского Возрождения одновременно были людьми Реформации. Это Франьтишак (Францыск) Скарына, который напечатал Библию на старобеларуском языке, и Сымон Будны, издатель первого беларуского «Катехизиса», в котором просто и доступно, в духе Евангелия, он объяснял догматы веры, и Василь Цяпински, который высказался о необходимости развития науки и литературы на родном языке и сам взялся за перевод Нового Завета на «родную мову» (старобеларуский язык), «чтобы каждый мог понять Слово Божье».
Значение Скарыны в развитии общеславянского книгопечатания вышло за границы беларуского (литвинского, западнорусского и т.д.) культурного ареала.
«…Скорина одним из первых в XVI веке вошел в круг европейских переводчиков, издателей и типографов, которые занялись выпуском и распространением Библии на национальных языках, а это в этнокультурном развитии славянских народов сыграло огромную роль. В этом отношении первенство Скорины на Руси, как Московской, так и Западной, бесспорно: эру книгопечатания у восточных славян открыл ученый муж из Полоцка, а репертуар беларуской, а тем самым и восточнославянской печатной продукции начинает пражская «Бивлия руска» [33].
Велика роль в реформационном движении магнатов княжества – князя Николая (Микалая) Радзивила Чёрного, который основал церкви, школы, «печатни» по всей стране, и канцлера Астафея Валовича, который проводил земельную реформу, так называемую «валочную памеру», и подготовил один из вариантов самого совершенного сборника законов в Европе XVI столетия – Статут Великого Княжества Литовского, а именно, «второй Статут» 1566 года» [32].
XVI век был назван «золотым» задолго до Акинчица и других историков. Это название столетия впервые появляется в «Успамiнах», дневнике-летописи беларуского историографа-мемуариста конца XVI века, Федора Евлашовского (1546 – ок. 1613), чья личность, его биография, путь по жизни, сами по себе, больше свидетельствуют об эпохе Возрождения ВКЛ, о её «золотом веке», чем все другие исторические документы. Евлашовский еще и отметил, что «на он час разность вяры не чынила мнейшей розности в милости приятелскей»…, а " … тамтот век ЗОЛОТЫМ ми се види от нинейшого веку, кгде юж и межи еднэй вяры людьми облуда все заступила…» [34].
Автор «вздыхал» по прошлым дням, когда «разность веры» не мешала «милости приятельской», и словно предчувствовал хрупкость сиюминутного и наступление «облуды» («лицемерие» в пер. с польск. яз.). В языке Евлашовского уже присутствует немало «полонизмов», конкретных «маркеров» того времени.
Дневник Евлашовского, с тщательной подробностью описания прожитых годов – живой летописный рассказ о времени, написанный талантливым человеком. Недаром лауреат Нобелевской премии, писатель Чеслав Миклош, родившийся в Вильно, где старобеларуский язык доминировал в городской жизни несколько столетий, отметил, что «Мемуары Евлашовского – может, самое интересное произведение на давнем беларуском светском языке, которое и сегодня приятно читать» [35].
А вот литовские историки, переведя «Дневник» Евлашовского на современный литовский язык, «на всякий случай», «перевели» и его фамилию, и имя, да так, что этого беларуса не разглядеть в исторической дали, и стал он «литовским писателем», что не удивительно после всех «метаморфоз» в современной «литовской истории», да и старобеларуский язык у них обязательно носит название «канцелярский».
Я не буду заострять внимание читателя на особенностях беларуского языка, но дам слово великому польскому поэту, Адаму Мицкевичу, родом из Минщины, учившегося в Вильне, эмигрировавшему во Францию и умершему в Турции и никогда так и не посетившим Польшу:
«На белорусском языке, который называют русинским или литовско-русинским, разговаривает около десяти миллионов человек; это самая богатая и чистая речь, она возникла давно и отлично разработана. В период независимости Литвы великие князья пользовались ею для своей дипломатической переписки. Язык великороссов, на котором говорит почти столько же людей (нужно исключить отсюда финско-московский диалект, который сильно от него отличается) выделяется богатством и чистотой, но у него нет ни чудесной простоты белорусского языка, ни гармоничности и музыкальности малороссийского…» («Парижские лекции о славянских языках Российской империи», А. Мицкевич) [36].
Ранее я уже цитировал по этому же поводу одного из самых значительных лингвистов ХХ века, академика Вячеслава Иванова [15].
Однако вернемся к Евлашовскому, о котором можно ещё сказать, что его жизнь является яркой иллюстрацией «золотого века» Литвы-Беларуси, развития общества ВКЛ, возможностей, открывшихся перед творческими личностями той эпохи.
Вот основные черты его биографии:
«Родился Евлашовский в Ляховичах, в многодетной семье 7 февраля 1546 года. Его семья принадлежала к знатному, но обедневшему роду, который однако сохранил фамильный герб и право пользования им. Только неуемная тяга к знаниям, упорное самообразование, позволили Федору, еще в юности приобрести значительные знания в области математики, делопроизводстве и юриспруденции. Это не только обеспечило ему уважение соседей, но и позволило уже в 18 лет начать самостоятельную жизнь. Образованный, активный юноша быстро обратил на себя внимание не только местной знати, но и таких магнатов, как М. Радзивилл, Я. Хадкевич, К. Астрожский, которые постепенно стали поручать ему ведение своих судебных дел в различных инстанциях. Принимая во внимание его знания, опыт и знакомства в королевских домах, новогрудская шляхта в 1579 году послала его своим послом на Варшавский вольный сейм. Там ему, вместе с новогрудским судьей А. Тризной, было поручено принять участие в разработке текста «Трибунала Великого Княжества Литовского». Когда же в 1592 году в новогрудском земском суде освободилось место подсудка, воеводская шляхта выбрала его своим кандидатом. Кандидатов было четыре, однако, король Жигимонт III (Сигизмунд III) выбрал на эту должность именно Федора Евлашовского, который и занимал ее до 1613 года (двадцать лет!).
В 1603 году Федор Михайлович Евлашовский взялся за перо, чтобы оставить потомкам достоверные сведения о своей жизни, взглядах на общественно-политические события современности, которые казались ему достойными внимания…
Эта уникальная рукопись сохранилась в архиве исторических актов в Варшаве. Впервые была опубликована украинским историком В. Антоновичем в 1886 году» [37].
В «Дневнике» Евлашовского отражены гражданские процессы, сопутствующие смене вероисповедания в беларуской (литвинской) среде, появлению самоуправления, реформе судопроизводства ВКЛ. Его личная судьба вполне соответствовала этому сложному периоду истории.
Костёл Сердца Иисуса в Ляховичах
«Сын православных родителей, с православной женой, служащий у князя-католика, отдавший своего сына в арианскую школу, Евлашовский объективно отразил окружающую его действительность на стыке ХVI и XVII века. Его мемуары – первая аутентичная история жизни человека, полная надежд, земных радостей, потерь, меланхолии и отчаянию. Они требуют не только всестороннего научного исследования, но и человеческого сочувствия и понимания " [37].
Зарубежные исследователи уделили больше внимания беларускому Возрождению, чем отечественные историки, которые практически игнорируют, например, известный «Акт Варшавской конфедерации 1573 года». Актом было гарантировано на территории Речи Посполитой равенство всех христианских конфессий и запрещено употреблять насилие для решения межконфессиональных конфликтов. Правда, этот «протестантско-православный союз» существовал недолго – в естественные процессы ассимиляции и взаимовлияния польской и беларуской культуры, в сближение старобеларуского и старопольского языков вмешались политические реалии. Приближалось время Люблинской унии, повернувшей в другое направление исторический ход развития и становления беларуской нации, усиление польского начала в беларуской культуре и неизбежную трансформацию старобеларуского языка. Приведу один пример для подтверждения этого вывода, тем более, что у него своя интересная судьба, связанная с обнаруженным оригиналом «Слуцкого списка» Статута ВКЛ 1529 года.
Исследователем Олегом Лицкевичем, сделан анализ языка этого документа эпохи. На страницах Статута, на 13 листе, было вписано стихотворение Яна Пашкевича [38]:
«Ян Казимер Пашъкевич
рукою властною* писал
року тысеча шестс [о] т двадцат первого
м [е] с [я] ца двадцат второг [о] дня
Полска квитнет лациною,
Литва квитнет русчызною*,
Без той в полще* не пребудеш,
Без сей в литве блазнЪм* будзеш.
Той лати [н] а* езык дает.
Та без руси не вытрвает.
Ведзъ* же юж, рус, иж тва хвала
По всем свете юж дойзрала;
Весели ж се ты, русине,
Тва слава никгды не зкгине».
В переводе на современный русский язык Олега Лицкевича:
Польша славна латинизмом,
Литва русскостью,
без латинизма в Польше не проживешь,
без русскости в Литве дурнем будешь.
Польше латинизм дает язык,
Литва же без Руси не выстоит.
Знай же, Русь, что хвалят тебя
уже по всему свету,
возвеселись же ты, русин,
твоя слава никогда не сгинет.
«Шляхтич и человек, о котором пока абсолютно ничего не известно, по имени Ян Казимир Пашкевич, решил соединить, так сказать, поэзию с прозой. Свое прославленное, зацитированное до дыр и единственное из дошедших стихотворение, он написал на рукописном списке Статута Великого княжества Литовского 1529 года» [38].
Пашкевич, как в воду глядел, когда записал в строке «Литва же без Руси не выстоит», только имел он ввиду не «Московскую Русь», не московитов, а русинов, единокровных славян Галиции и Волыни, и православную часть славянства Великого княжества…
Расставшись по Люблинскому соглашению с «Русью», что тогда означало земли южнорусских княжеств – Галицко-Волынского, земель Подолии и Северских земель, Великое княжество потеряло не только территории, но и людской капитал. Это стало началом конца, ослаблением ВКЛ в его противостоянии с Москвой и преддверием окончательного поглощения его Российской империей через два столетия.
Кроме того, видимо, в этой «точке бифуркации», с подписанием «Унии», в 1569 году, началась новая история «литвинов», история расхождения практически единого славянского народа («русины» и «литвины»), объединенного смежными землями и древним общеславянским языком, на два самостоятельных, предшественников современных украинцев и беларусов.
Однако, оставалось еще столетие, в которое продолжали развиваться прогрессивные традиции ХVI века, это время внесло свой значительный вклад в подъем экономики и культуры Великого Княжества Литовского, предтечи Беларуси. Необычайный культурный подъем ХVI-го, «золотого века», захватил и полстолетия ХVII-го. Развивались не только письменность и книгопечатание, появлялись философские трактаты, некоторые из них, как работы Сымона Будного, ставили под сомнение религиозные догматы, привели, в конечном счёте, к появлению «материалистических» воззрений.
И в этой сфере, в философии, беларусы (литвины), наши соотечественники, намного опередили своих ближайших соседей – Польшу и Россию, наступавших на свободомыслие и просвещение многонациональной и многоконфессиональной Литвы-Беларуси.
Реформация в Польше и Великом княжестве набирала силу, что вынудило после Люблинской унии 1569 года, заключить в 1570 году «Сандомирское соглашение» между всеми реформированными церквями, за исключением ариан. Уже в новом, конфедеративном государстве «двух народов», Речи Посполитой, в 1573 году был создана «Варшавская конфедерация», призванная законодательно оформить множественность вероисповеданий в Речи Посполитой, был подписан «Акт», который гарантировал соблюдение принципов веротерпимости. «Акт Варшавской конфедерации» явился ПЕРВЫМ подобным документом в Европе.
Фотокопия оригинала Акта
Развивались литература, науки и её технические приложения. Венцом развития философской мысли в Беларуси ХVII века стала подвижническая и просветительская деятельность Казимира Лышчинского, беларуского Джордано Бруно [39].
«Казимир Лышчинский родился 4 марта 1639 года в семье служилого шляхтича в родовом имении Лышчицы Брестского района (Беларусь), образование получил в иезуитском коллегиуме в Бресте, потом в Ягеллонском университете в Кракове. Патриот своей родины, он участвовал в войнах с Москвой, со шведами и в турецкой военной кампании.
«Вернувшись в родные места, преподавал философию. В 1664 был помощником ректора Брестского коллегиума иезуитов. В 1682 на брестском «сеймике» избран подсудком земского суда, затем служил писарем королевского суда. После разрыва с иезуитами вернулся в родовое имение Лыщицы, превратил его в образцовое хозяйство, основал здесь школу для крестьянских детей и преподавал в ней, занимался юридической практикой.
С 1674 писал трактат «О несуществовании бога» (сохранились фрагменты), в котором изложил свои взгляды на религию и окружающий мир. В нём он отрицал существование бога, утверждал, что бог – «создание химерическое», его сотворили люди по своему подобию. Отрицал бессмертие души, загробную жизнь, все догматы и обряды церкви, обличал аморальность и корыстолюбие церковников; отцов церкви называли ремесленниками пустозвонства, которые «тушат свет». Религию считал сознательным обманом, а верующих в бога – тёмными рабами.
Единственной реальностью считал материальную природу, утверждая, что все изменения в природе происходят по законам развития материи, а не по божьей воле.
Он подошёл к требованию ликвидации крепостного права и создания общества, основанного на гражданских свободах. Считал необходимым заменить церковный брак гражданским.
По доносу агента иезуитов, выкравшего часть трактата (15 тетрадей), в 1687 году Лыщинский был заточён в тюрьму и после более чем годового разбирательства приговорён сеймовым судом к сожжению на костре вместе со своим произведением.
30 марта 1689 года Лыщинский был обезглавлен и сожжён на костре в Варшаве, его пепел развеян в поле.
Мемориальный камень со строками завета Лищынского
Юбилейная почтовая марка
Беларусь
Возле бывшего костела (построен в 1742 году – с начала 1990-х годов – православная Покровская церковь), в деревне Малые Щитники Брестского района, установлен камень со словами о поиске истины философа и просветителя XVII века Казимира Лыщинского, уроженца этих мест» [39, 40]. В Беларуси юбилейную дату, связанную с Лышчинским, отметили выпуском почтовой марки
В ХVI-ом, «золотом веке», расцвела и музыкальная культура Беларуси (ВКЛ), как органичная часть европейской, связанной с идей Реформации во многих странах континента. Протестантская церковь, придерживаясь строгости, некоей суровости и ограничений в оформлении храмов, придавала особое значение музыкальному сопровождению богослужения.
«Один из главных идеологов Реформации Лютер считал, что «после теологии следующее место и величайшее почтение должно быть отдано музыке. Она – чудесный, могучий дар Божий…».
Знаменитые музыканты беларуской Реформации: Цыприан Базылик и Вацлав из Шамотул были придворными музыкантами князя Николая («Микалая» бел. яз.) Радзивила «Черного» в Несвиже. «Благодаря их творчеству музыкально-хоровая культура Беларуси, развиваясь интенсивно и плодотворно, поднялась до высочайшего уровня, недосягаемого до сих пор» [48].
Чтобы не возвращаться более к Цыприану (в рус. яз. – Киприан) Базылике, отмечу, что им же был сделан перевод на старобеларуский язык с польского печатного издания 1574 года «Historia spraw Atyle Krolá Węgierskiego» – «История об Атиле» [49].
Не могу не привести прекрасный отрывок из того перевода, как образец беларуского языка ХVI века:
«Атыльля тогды, которого по угорскии зовуть Этэле был середнега узросту персеи и плече шыроких головы водле инъшых члонков померное, абъличя чернявого, оччю светлых, на взгляде быстрость якуюсь в собе маючо, бороды редъкое, носа закрывленого, походу гордого, до вэнуса велми склонъны, на працу телесную, на голодъ, на спань, на студень и на горачость велми терпливы, великого серца, рады доброе и смелы, руки хисткое и мужное, в речах рыцэрскихъ учоныи, дославы велми хотливы, въ оглуменю непрыятеля в наражен../и зрады велми ростропны и хитры, в битве всего доглядуючы, часомъ мужного жолнера, часом справного гэтмана повинности досыть чынечы, противко пышным крнобрны А против покорныхъ лацны и мило-сердныи… (Atylja 1580: 17817—28)» [50].
СИГИЗМУНД II А́ВГУСТ (1520 – 1572)
Великий князь литовский с 18.10.1529 года, король польский с 20.02.1530 (портрет работы Луки Кранаха мл. 1554).
Король Польши Сигизмунд II Август 7 июня 1563 года подписал «Привилей» об уравнивании в правах православных и католиков (текст «Привилея» был включен в Статут Великого княжества Литовского 1566 года).
В протестантском движении в Беларуси (ВКЛ), в развитии идей реформации, в религиозном обновлении, необычайном культурном подъеме Великого княжества сыграл особую роль князь Микалай (Николай) Радзивилл «Чорны» (1515—1560 г.г.).
Николай Радзивилл «Чорны» (1515—1560 г.г.).
Князь Радзивил «Чорны» стал основателем беларуской, несвижской линии рода Радзивилов, сделавший исключительно успешную карьеру в продвижении к вершинам высшей власти ВКЛ. Его называли «некоронованным королем Великого княжества и апостолом Реформации». Именно, благодаря его энтузиазму и активной поддержке, Реформация в Беларуси (ВКЛ) получила такое распространение. Несколько отрывков из очерка Александра Варыкиша о князе Радзивиле позволят глубже ознакомиться с этой неординарной личностью и его ролью в развитии Реформации в Беларуси [51].
«Молодой беларуский магнат Микалай Радзивил, получивший прозвище Черный, вместе с многими соотечественниками попал в Германию в разгар полемики между сторонниками и противниками учения Лютера. Немаловажен тот факт, что в этот период профессура Виттенбергского, Лейпцигского, других немецких университетов, где традиционно получала образование беларуская политическая элита, стала активными распространителями реформаторских взглядов. Не удивительно, что вслед за другими европейскими странами Реформация стала активно распространяться и на Беларуси. Польский король и великий князь литовский Жыгимонт Старый, обеспокоенный подобным поворотом событий, в 1542 году издаёт в Вильне декрет, по которому всякий шляхтич лишался шляхетского достоинства в том случае, если «заражался люторовой ересью», запрещалось приглашать немцев в качестве воспитателей и посылать молодёжь в Германию для получения образования. Но королевская власть была не в силах административными методами остановить духовное обновление, и уже в следующем году был отменён закон, запрещавший посещение иностранных университетов.
В начале 40-х годов XVI века молодой Радзивил возвращается на родину, и с 1544 года, при новом правителе Великого Княжества Жыгимонте Августе, в его жизни начинается блестящий период. Тридцатилетний Микалай Радзивил «Чёрный» становится главным советником, правой рукой молодого монарха. Более того, дальнейший рост влияния магната связан с женитьбой Жыгимонта Августа на его двоюродной сестре Барбаре Радзивил, которая становится великой княгиней литовской и польской королевой. В 1547 году Радзивил Чёрный получил титул князя Священной Римской империи.
Присвоение Герба и титула князей Священной Римской империи Николаю Радзивиллу «Черному» в Ватикане
Недавно обнаруженная картина неизвестного художника, датируется XVI – XVII веками. Замок Радзивиллов в Несвиже. (фото Студия «Лувр». Минск http://nemiga4.me/belarus/nesvizh/rimskaya-imperiya.htm)
За несколько следующих лет Радзивил становится «некоронованным королём Беларуси». В 1549 году на сойме за Радзивилами был закреплён княжеский титул, Чёрный становится воеводой Троцким, к его громадным на то время владениями добавляются Дрысвяты и Брестское староство. Через два года Микалай Радзивил получает канцлера Великого княжества и воеводы Виленского. Его ещё более укрепилась, когда великокняжеским привилеем за Радзивилом было закреплено беспрецедентное право на хранение в своём архиве всех документов, касающихся делопроизводства в Великом Княжестве, тем самым приравнивая несвижский архив к государственному. Поскольку Жыгимонт Август большую часть времени находился в Польском королевстве, фактическая над страной была сконцентрирована в руках Николая Радзивила.
«В 1553 году в Вильне произошло событие, имевшее эффект разорвавшейся бомбы и получившее резонанс не только в Великом Княжестве, но и в соседних странах. Канцлер литовский, воевода виленский, самый влиятельный политический деятель государства, некоронованный король Беларуси, публично объявляет себя кальвинистом. Долгое время беларуский магнат с симпатией относился к идеям Лютера о необходимости реформы церкви, но после возвращения из посольства к императору Священной Римской империи Радзивил принимает решение стать евангельским христианином. В скором времени семья магната и его двор приняли аналогичное решение» [51].
Православный священник Алексей Хотеев, исследователь истории Реформации в Беларуси, дает такое объяснение этому факту:
«Князь Николай Радзивилл Черный также поначалу симпатизировал учению М. Лютера и на этой почве сблизился с прусским герцогом Альбрехтом. Однако его контакты с видными представителями польской реформации, особенно Яном Ласским, расположили его более к теологии Жана Кальвина. В 1553 году он открыто перешел в кальвинизм, что было отмечено (в 2003 году), как 450-летие реформации на Беларуси» [24].
«Это событие для развития евангельского движения на Беларуси имело первоочередное значение. Историки отмечают, что Микалай Радзивил имел огромный авторитет в среде беларуских магнатов и шляхты, оказывал сильнейшее влияние на Жыгимонта Августа, великого князя литовского и короля польского. По свидетельству современников тех событий, когда Микалай Чёрный входил в Сенат со своей многочисленной свитой, сам король вставал с трона и делал несколько шагов навстречу, причём настаивал, чтобы тот садился не на обычном месте воеводы виленского, но около трона, тем самым подчёркивая достоинство магната» [51].
«В этом же году он основал кальвинистский „збор“ (костёл, церковь, бел. яз.) при своем дворе в Бресте и типографию. В типографии Микалай Радзивил Черный издал Катехизис христианской веры для простого народа и знаменитую Радзивиловскую Библию (1563 г.). Для укоренения идей Реформации в Великом Княжестве Микалай Радзивил начал повсеместно организовывать церкви в своих владениях. Вслед за Брестом и Вильней кальвинистские „зборы“ возникли в Несвиже, Клецке, Ивье, Койданове, Орше. Виленский воевода не жалел ни сил, ни средств, чтобы распространить новые идеи по всему Княжеству. Буквально через год сторонниками Реформации стали крупнейшие магнаты и государственные деятели, в их числе Иероним Ходкевич, Станислав Кишка, Валовичи, Глебовичи, Сапеги, Вишневецкие, Огинские, Шеметы и др. Шляхта массово переходила из католицизма в кальвинизм» [там же].
«Евангельскими христианами стали практически все литовские воеводы, каштеляны – минский, полоцкий, брестский. Переход в кальвинизм большей части политической элиты Великого Княжества обусловил активное распространение Реформации на территории Беларуси» [там же].
Иследователь истории Реформации, Татьяна Галуза, подводя итоги своим изысканиям, приходит к такому выводу:
«ХVI век – это период стремительного культурного подъема Великого Княжества Литовского. В целом, стоит упомянуть сотни школ, открытых при кальвинистских и лютеранских церквях, которые дали возможность тысячам молодых людей получить, по крайней мере, начальное образование. Для образовательного развития широкой общественности в типографиях выходили сотни книг большими тиражами, издавалась не только религиозная литература, но также книги по истории, географии, математике, философии, поэтические и прозаические произведения разных авторов. Книги начали издавать Сымон Будный, Матей Кавечинский, Лаврентий Кришковский.
Был издан «Катехисис» и книга «Об оправдании грешного человека перед Богом» на беларуском языке. Сымон Будный – великий просветитель, теолог и религиозный реформатор, филолог и поэт – положил начало печатанию книг на народном беларуском языке на территории современной Беларуси (до него на беларуском языке в Вильне Франциск Скарына издал «Малую подорожную книжицу» в 1522 году и «Апостол» в 1525 году).
О значении беларуского языка для народа Великого Княжества красноречиво говорит и тот факт, что наиважнейший государственный документ – Статут Великого Княжества Литовского – был написан именно на этом языке» [48].
«…В 60-х годах XVI века в стране евангельские христиане становились главенствующей конфессией. Православные авторы XVI века с горечью констатировали: «В Новогрудском повете едва можно найти один шляхетский дом, чуждый ереси. Во всём этом воеводстве, составлявшем главную и самую большую часть епархии православного митрополита, из 600 дворянских домов греческого вероисповедания едва осталось 16, или даже менее, которые уцелели от еретической новокрещенской заразы».
29 мая 1565 года на 50-м году жизни умирает Микалай Радзивил Чёрный, однако, как ни злорадствовали враги, его дело нашло достойных последователей. За год до смерти Микалая «Чёрного» Микалай Радзивил «Рыжий» следует примеру брата и становится кальвинистом. На протяжении двух последующих десятилетий герой Ливонской войны, великий гетман литовский берет на себя ответственность за развитие реформационного движения в Беларуси» [51].
Существуют разные данные, относительно числа протестантских «зборов» (костёлов, соборов в бел. яз.) на Литве и Беларуси. Согласно Генриху Мерчингу, во второй половине XVI века здесь было 158 кальвинистских «зборов», 5 лютеранских и 14 социнианских, общим числом в 177. В Виленском и Трокском воеводствах, и в Жмудском «старостве» было 110 «зборов», в Полоцком, Новогрудском, Витебском, Брестском, Мстиславльском и Минском воеводствах – 67 [53].
«На государственных землях протестантам разрешалось строительство своих „зборов“ с тем условием, чтобы ни католические, ни православные храмы не были ими заняты. Пример видим в грамоте Сигизмунда Августа на основание „дома молитвы“ в Витебске в 1562 году» [24].
«В книге Притч есть такие слова: „Когда умножаются праведники, народ благоденствует“. Это не просто слова, это духовный закон. Все сферы жизни как конкретного человека, так и общества в целом зависят от его состояния. И история Беларуси является наглядным примером действия этого закона. Когда в нашей стране умножились праведники, в Беларуси была хорошая жизнь, было благоденствие. Это XVI век, столетие Реформации, время, вошедшее в историю как Золотой Век Беларуси» [52].
Я придерживаюсь той же точки зрения, которую высказал Станислав Акинчыц об эпохе Реформации в Великом княжестве, в Беларуси [53].
Для понимания истории Беларуси в эпоху развития идей Реформации, в её «золотой век», следует особо отметить создание многих десятков «друкарен» (типографий), необычайный расцвет литературы, доступность для населения книг, образование новых, частных библиотек, школ и «коллегиумов», следовательно, и увеличение грамотного населения. Произошел массовый поворот в сторону протестантства, освобождающего личность от жёстких религиозных норм православия и католицизма. Но, самое главное, по моему разумению, достижение «золотого века», неоцененное должным образом до сих пор, – это «валочная реформа», аграрная реформа 1556 года и её результаты. Эта реформа заложила основы появления нового класса населения в Беларуси (Литве), класса собственников, личных владельцев земли, свободных предпринимателей, «цеховиков», людей в принципе свободных от феодальной или любой другой зависимости. Не буду критиковать недостатки этой реформы, хватит критиков и без меня. Даже если реформа Казимира полностью и не удалась, двести лет её воздействия на государство, на общество, оставили неизгладимый след в сознании беларусов. По крайней мере, эта реформа на 300 лет опередила российскую отмену крепостного права 1861 года.
Оставалось до захвата всех беларуских (великокняжеских) земель Российской империей ещё два века, в которые Россия будет только размышлять об отмене «крепостного права» и проводить с конца ХVIII века свою жестокую политику русификации литвин-беларусов.
В этой реформе надо искать корни отношения беларуса-литвина к бюрократии России, к бюрократическому управлению Великим княжеством, превратившему в угоду царской власти Великое Княжество Литовское в безликий «Северо-западный край», каким его будут считать ещё два века в России имперской и в советской России.
Чтобы более предметно представить значение аграрной реформы середины XVI века в Литве-Беларуси, приведу несколько её подробностей из разных источников.
«В 1556 году Микалай Радзивил «Черный» проводит аграрную реформу, которая позволила каждой крестьянской семье получить во владение «валоку» (около 21 гектара) земли. Земля была размерена так, чтобы каждое хозяйство имело землю одинакового качества. Теперь благосостояние крестьянина зависело не от везения, а от умения качественно вести свое хозяйство… Новая система хозяйствования дала возможность увеличить урожаи зерновых, так что рожь и ячмень начали вывозить на продажу за границу…
Ликвидация сельской общины позволила развивать разнообразное производство, особенно связанное с переработкой древесины, так как часть крестьян вместо работы на земле начали заниматься ремеслом. Появились целые поселения смолокуров, котельников, кожевников, сапожников… Всё это способствовало росту городов и местечек. Если в начале столетия их было только 48, то в конце века их насчитывалось более 300. Урбанизация Великого княжества непосредственно связана со стремлением магнатов основывать города и местечки в своих владениях. Радзивиллы, Сапеги и другие магнаты приглашали всевозможных ремесленников, в первую очередь верующих, и давали новым поселениям магдебургское право (право самоуправления)» [53].
Вряд ли князь Николай Равдзивил «Чёрный» смог бы провести свои экономические преобразования, если бы не его выдающиеся успехи и достижения на политическом поприще, близость к королю, его влияние на окружение короля и связи с аристократией «Польской Короны». Конечно, всему этому способствовала и его сестра, Барбара Радзивил, ставшая, к тому же, женой князя Зигмунта, ставшего вскоре королем Польской Короны Сигизмундом Августом (подробнее о королеве Барбаре в [54]).
Политические достижения Микалая (Николая) Радзивилла «Чёрного» и его влияние на государственную жизнь Речи Посполитой представляют собой вершину могущества всего радзивилловского рода. Его дипломатические миссии и переговоры с Карлом V и Фердинандом I привели к самой грандиозной из всех дипломатических побед Речи Посполитой – объединению Ливонии с Речью Посполитой (1562). Кроме всего прочего, во время этой дипломатической миссии он добился подтверждения графского титула для себя и своего кузена, Николая Радзивила «Рыжего». Устойчивый политический союз между Николаем Радзивилом «Чёрным» и его двоюродным братом, Николаем Радзивилом «Рыжим», продержался до конца их жизни. Вместе они неоднократно призывали к укреплению независимости Великого Княжества Литовского от Польши.
Несомненно, на братьев повлияла в значительной мере тесная связь с польским обществом, польская культура, нравы и обычаи польского высшего света. «Николай Радзивил „Рыжий“ стал примером для подражания всей литовской аристократии, которая, глядя на него, перенимала польские манеры, моды, привычки и язык. После его смерти, утратившие влияние отца, все 9 его сыновей перешли из кальвинизма (протестантства) в католицизм. А его сын, Юрий (1556 – 1600), стал Архиепископом Вильны и Кракова (польской столицы), а потом кардиналом католической церкви. Более того, его кандидатуру выдвигали на папский престол во время конклава высшего католического духовенства 1585 года» [55].
Николай Радзивилл «Рыжий» 1512—1584,
(Мікалай Радзівілл «Руды» бел. яз.).
В это же время достигла своего самого высшего накала борьба католических иерархов с новыми течениями христианства, затронув и Великое Княжество Литовское.
К середине ХVI века протестантство победно шествовало по землям Польши и Литвы-Беларуси. Выдающийся русский историк Василий Ключевский так оценивает это время, приведшее, в частности к Люблинской унии (1569 год):
«Здесь в 700 католических приходах уцелела едва тысячная доля католиков; остальные прихожане перешли в протестантство. Тевтонский орден в 1525 году отпал от римской церкви вместе со своим магистром Альбертом, который принял титул герцога. В этом ордене стали появляться переводы протестантских сочинений на литовский язык. Главным распространителем протестантизма в Литве был учившийся в северной Германии и получивший там степень доктора ЛИТВИН Авраам Кульва, который потом нашел себе преемника в немецком священнике Винклере. Оба этих проповедника распространяли лютеранство. Еще успешнее прививался там кальвинизм, поддерживаемый влиятельным литовским магнатом Николаем Радзивилом Черным, двоюродным братом королевы Варвары, сначала тайной, а потом явной женой короля Сигизмунда-Августа.
В начале второй половины XVI века огромное большинство католического дворянства уже перешло в протестантизм, увлекши за собою и некоторую часть литовско-русской православной знати – Вишневецких, Ходкевичей и др.» [57].
В.О.Ключевский продолжал настаивать на определении беларусов-литвин, как «литовско-русских» людях в «Литовской Руси». Но это дело прошлое, мы разобрались, что такое «Литва русская», а русские историки при его жизни стали внедрять уже и новое обозначение нации – «беларусцы».
Извлечём из рассуждений В. Ключевского «рациональное зерно», его выводы относительно развития протестантизма в Великом княжестве:
«…успехи протестантизма подготовили Люблинскую унию 1569 года. Протестантское влияние ослабило энергию католической пропаганды среди Литовской Руси. Последние Ягеллоны на польском престоле Сигизмунд I и Сигизмунд II Август (1506 – 1572) – были равнодушны к религиозной борьбе, завязавшейся в их соединенном государстве. Сигизмунд-Август, мягкий и праздный гуляка, воспитанный среди новых веяний, насколько ему позволяло государственное его положение, даже покровительствовал новым учениям, сам выдавал для чтения протестантские книги из своей библиотеки, в придворной церкви допускал проповеди в протестантском духе; ему было все равно при выезде из дворца в праздник, куда ехать, в костел или в кирху…» [57].
После смерти братьев Радзивилов, Николая «Чёрного» (1565) и Николая «Рудого» (Рыжего, в пер. с бел. яз.) в 1584 году заметно ослабление, а потом и окончательное поражение кальвинистов под усиливающимся напором католической церкви. Началась эпоха Контрреформации, неизбежный исторический откат назад в развитии любого общества, прошедшего в короткий срок революционные переустройства.
Гобелен с портретом Великого князя Микалая Крыштофа Радзивила («Сиротка»),
Гобелен в одном из залов дворца Радзивиллов в городе Несвиж (Беларусь), подарок мастерских Лувра.
Вот уж воистину «нет пророка в своём отечестве», даже если пророк является родным отцом. Сыновья Николая Радзивила «Чёрного», вернувшиеся после смерти отца снова в католичество, уничтожали книги, напечатанные в его типографиях, и особенно экземпляры кальвинистской Библии, а «Николай Христофор Радзивил „Сиротка“, закрывший брестскую типографию, купил на 5 тысяч „злотых“ кальвинистских книг и сжёг их посреди виленского рынка» [55].
Впрочем, в это же самое время в Москве сжигались «печатные» книги Францыска Скарыны – православные московские священники верили только рукописным источникам, а книги в Москве, после бегства беларусов-первопечатников Ивана Федорова (Федоровича) и Петра Мстиславца, были, в основном, привозные.
Очередной поворот к католицизму в Великом княжестве, после кревской унии, связан с сыном Николая Радзивила «Чёрного», с князем Николаем Кристофом Радзивиллом «Сироткой» (12.7.1549 – 28.2.1616).
«Современники высоко оценили достоинства князя и в таких словах выразили отношение к нему: …был гордостью в бою, светом в совете; увидел и познал землю. Если бы мы двух таких имели мужей, легко бы обогнали Италию». Сейчас историки искусства сходятся на том, что Сиротка «в строительной и меценатской деятельности затмил всех своих предков и почти ничего не оставил доделывать своим потомкам» [58].
Но именно, Николаю Радзивилу «Сиротке» предстояло принять мучительное решение и, под угрозой потери всей собственности, переданной ему предками, присягнуть королю и подписать 1 июля 1569 года «Акт» Люблинской унии. Наследство было сохранено, Николай Радзивил получил звание «Маршалка надворного литовского», что позволило ему стать «сенатором», созывать и вести заседания общегосударственного «Сейма» на территории Великого княжества. «Овчинка стоила выделки» для князя – Несвиж оставался за Радзивиллами, но это было куплено ценой потери части культурных приобретений прошлого, дальнейшего отхода от старобеларуской культуры, способствовала «ополячиванию» беларуского населения, возврата в католицизм многих беларуских семейств, особенно шляхты, стремящейся делать карьеру.
Так на землях Великого княжества, как волны на море, одна религия сменяла другую, язычество было вытеснено христианством, православного или католического толка, на смену им пришло протестантское движение, в разных его версиях, потом снова католичество. Наконец, результатом этих длительных во времени колебаний стало появление новой идеи, новой религии, «народной религии», казалось, примиряющей многих – «Униатство». Но об этом позже…
Вернемся в «золотой век», тем более, что это эпохальное действо подходило неминуемо к концу, а «великим князьям» надо было еще сыграть свои исторические роли в последнем акте этой драмы.
Николай Радзивил «Сиротка» получил город Несвиж со всеми его землями от отца, Николая «Чёрного», а всё это громадное и дорогостоящее наследство перешло в свое время к Радзивиллам «по кудели» (по женской линии), как приданое княжны Анны из рода Кишек, вышедшей замуж за Яна Николая Радзивилла («Бородатого») в 1513 году.
«Несвижское княжество» стало официальным названием феодальной вотчины Радзивиллов на три столетия, Радзивиллы в эпоху расцвета владели примерно третьей частью территории Великого княжества, имели владения в Польше и Украине. В 1586 году Несвижское княжество получило статус «ординации» Радзивиллов (ординация или майорат – неделимое владение, без права продажи, наследуемое только по мужской линии). В княжество входили город Несвиж, селения Кареличи, Свержень и Мир с княжеским замком [58].
В то же время все Великое Княжество Литовское, как автономное государство, было разделено на «паветы» и «воеводства», причем было увеличено число поветов и воеводств.
«Все Великое княжество было разделено на 22 «павета», сгруппированные в 9 «воеводств», а именно: воеводство Виленское – паветы: Виленский, Ошмянский, Лидский, Вилькомирский и Браславский; воеводство Трокское – паветы: Трокский, Городенский, Ковенский и Упитский; земля Жомойтская; воеводство Полоцкое; воеводство Новгородское – паветы: Новгородский, Слонимский и Волковыский; воеводство Витебское – паветы: Витебский и Оршанский; воеводство Берестейское – паветы: Берестейский и Пинский; воеводство Мстиславское; воеводство Минское – паветы: Минский, Мозырский и Речицкий.
Во главе каждого «Павета» стоял Город, по имени которого назывался павет. Однако не все города получили значение «паветовых» центров. Так, в Виленском воеводстве в 16 веке были еще города Икажня и Дрисвяты, в Минском – Койданов, Радошковичи, Борисов, Логойск, Свислочь, Друцк; в Новгородском – Мстибогов; в Мстиславском, которое представляло собой остатки Смоленского воеводства, был целый ряд городов, кроме Мстиславля: Дубровна, Копысь, Шклов, Могилев, Быхов, Стрешин, Любеч. Вышгород. Также много их было в Витебском повете: Сураж, Ула, Чашники, Сенно, Лепель, Стрыжев и некот. др.
В тогдашней Жмуди совсем не было городских центров и сеймик первоначально собирался в господарском дворе Упите, а затем жмудской шляхте разрешено было государем выкупить заложенное скарбом Петькевичу господарское местечко Россиены, где и отбывались с 1581 г. суды и сеймики, наряду с Поневежем, который сделался центром Упитского повета». Несвижский майорат сохранял полную автономию, прикрытый мощью Радзивиллов [110].
Ян Радзивил «Бородатый» (1474—1522),
Ганна Радзивилл-Кишка (? -1533)
Герб Радзивиллов (Trąby, польск. яз. «Трубы» рус. яз.),
Герб Радзивиллов в 1518 году
Герб Радзивиллов (Trąby, польск. яз. «Трубы» рус. яз.), присвоенный родоначальнику семьи, Христиану Остику в 1413 году решением гнезнинского архипископа (Mikołaj Trąbę herbu Trąby), и Герб, присвоенный Радзивиллам, вместе с титулом Князей Римской империи в 1518 году [111].
«Несвижское княжество» стало официальным названием феодальной вотчины Радзивиллов на три столетия, Радзивиллы в эпоху расцвета владели примерно третьей частью территории Великого Княжества Литовского, имели владения в Польше и Украине. В 1586 году Несвижское княжество получило статус «ординации» Радзивиллов (ординация или майорат – неделимое владение, наследуемое только по мужской линии). В княжество входили город Несвиж, селения Кареличи, Свержень и Мир с княжеским замком [58].
Николай Кристоф Радзивил «Сиротка», окончивший в Несвиже протестантскую гимназию, основанную его отцом, уехал в Европу и продолжил свое образование в Страсбургском и Тюрингском университетах. Принимал участие в военных действиях Ливонской войны в составе Стефана Батория. Под Полоцком получил тяжелое ранение. В 1583—1584 годах путешествует по Востоку, ведя путевой дневник. После возвращения на родину занимается масштабным строительством в городе и переустройством «родового гнезда».
НЕСВИЖСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ РАДЗИВИЛЛОВ
(г. Несвиж, Беларусь, фото автора, авг. 2013)
В залах Несвижского дворца (фото автора, август 2013 года)
Именно, высокообразованному князю, Николаю Радзивиллу («Сиротке») Несвиж обязан многими архитектурными шедеврами, достопримечательностями интерьера. Для осуществления своих проектов он приглашает из Италии архитектора Дж. Бернардони. Обладая несомненным литературным даром, князь издает «Дневник» своих путешествий, описывает участие в войнах, свои впечатления об увиденном. Книга Радзивилла Николая Кристофа «Сиротки» имела ошеломляющий успех. Она выдержала более 19 переизданий на польском, немецком, латинском и русском языках [59].
«Ординация» ограничивала права всех членов семьи законом. Только старший сын в семье имел право наследовать Несвижское княжество. Иные способы передачи земли (разделение, продажа и т.д.) были закондателем запрещены. Несвижская «Ординация» принадлежала Радзивиллам до 1939 года, до очередного и последнего «присоединения» земель Беларуси (западной) к России, на этот раз советской. Своя история была у других владений семьи Радзивиллов.
История Мирского замка началась еще в ХV веке, на этом месте замок был заложен его предшественником князем Илиничем. В 1568 году Мирский замок, как и весь Несвиж, перешел во владение Николая Радзивилла «Сиротки», который достроил его в стиле «ренессанс». Первая половина XVII века стала расцветом Мирского замка, со второй половины начался период разрушения его. Во время войн Речи Посполитой с Московским государством, Северной войны, Отечественной войны 1812 года, замок неоднократно разоряли, строения разрушались и владельцы потеряли к нему всякий интерес, а земли вокруг замка начали сдавать в аренду [60].
Мирский замок Радзивиллов, ХVI век
Мир, Гродненская обл.,Беларусь (фотография из сайта
http://www.belarus.nemiga.info/mirsky-zamok.htm)
Мирский замок после смерти его последнего владельца (1813), унаследовавшего Несвижские земли по мужской линии, Доминика Геронима Радзивилла, трижды поменял владельцев и, в конце концов, уже в Российской империи был выкуплен в 1891 году атаманом Донского войска Николаем Святополк-Мирским. Атаману очень хотелось получить к фамилии «благородное» дополнение – «Мирский». Но это уже, как говориться, другая история, в которой есть и утопленница – дочь владельца замка София, и тайные ходы, и ночные cхватки рыцарей, восставших из могил … [60].
Вся история несвижских земель неразрывно связана с семьей Радзивилов, а судьба великих князей отражена в деталях и многочисленных преобразованиях отцовского наследства. Радзивиллы создали замечательную иллюзию «золотого века» Великого княжества, не прерванную даже вхождением ВКЛ в состав Речи Посполитой.
Результатами бурного развития всего общества Великого княжества в ХVI веке мы пользуемся до сих пор.
Президент Международной ассоциации беларусистов с 1991 года, руководитель отдела культурологии Международной Академии наук Евразии (1996), Адам Мальдис, на конференции, посвященной Великому Княжеству Литовскому, заявил, что «Золотой век ― это время, когда наша культура развивалась согласно общеевропейским канонам… Ренессанса и Реформации» [61].
Интерьеры Мирского замка сегодня
Винные подвалы Мирского замка
(фото из сайта http://www.belarus.nemiga.info/mirsky-zamok.htm)
Реформация дала Литве-Беларуси дополнительный импульс развитию книжного дела, способствовала повсеместному расширению образовательного процесса, обогатила строительство и архитектуру.
Первая брестская протестантская церковь, основанная в 1553 году, имела собственную типографию, печатавшую как религиозные, так и светские книги. При церкви была открыта начальная школа, где молодые люди учились чтению и письму, а также основам веры.
Близ Бреста, у села Домачёво обосновались две голландские колонии, образовавшие в 1564 году протестантские общины. Известно, что одну из минских протестантстких общин в 1596 году организовал речицкий староста князь Ярош Жижемский, подарив ей дом с земельным участком. Сестра Жижемского, Милослава, была замужем за кальвинистским теологом и писателем Андреем Воланом.
Сын Сигизмунда I король и Великий князь Литовский Сигизмунд II Август стал покровительствовать протестантам. Воспитывавшийся при дворе матери королевы Боны Сфорца, он подружился с духовником матери Франческо Лисманини, тайным приверженцем Реформации. Будущий король знакомился с сочинениями деятелей Реформации, даже отправлял Лисманини в Швейцарию покупать книги.
Кальвинистский «збор» (собор) около Минска
Этот храм находится в деревне Кухтичи на Минщине, он был возведён в 1560-1570-е гг. Позже преобразован в костёл, при советской власти стал котельной для совхоза. Теперь он включён ЮНЕСКО в каталог «Памятников мира», которым грозит разрушение. Сохранились в той или иной степени «зборы» (протестантские храмы) в Сморгони и в некогда радзивилловском, Койданове (Дзержинск).
Великий просветитель, писатель и философ, Симон Будный с 1560 года был кальвинистским проповедником в Клецке, выпустил на старобеларуском языке «Катехизис», «Новый завет» с комментариями, трактат «О светской власти» (1583), за который был исключён из братской общины. Тщательно изучив библейские тексты, Будный категорически возражал гуманистам-радикалам, предлагавшим идею всеобщего равенства, богатым раздать свои богатства и пр. «Если богатые исчезнут, – говорил Будный, – кто же тогда станет помогать бедным?»
Будный считал частную собственность основой всего, она по Будному должна быть и у князя, и у крестьянина. Церковные земли должны принадлежать и членам этой церковной общины. Идеям радикалов об уничтожении государственной власти и всех государственных учреждений Будный противопоставлял библейский тезис о божественном происхождении власти, другое дело, что не все используют власть на благо общества. Монархия должна быть просвещённой, правитель должен заботиться не только о себе, но и о бедных людях, однако не поощряя в них лень и праздность. Подданные же обязаны молиться во здравие правителей, не бунтовать и исправно платить подати. (Протестантизм в Великом княжестве Литовском, «Википедия»).
Войны Будный делил на справедливые (оборонительные) и несправедливые.
В книге «О главнейших положениях христианской веры» (1576) произвольно трактуя слова евангелистов, на основании подобранных 26 цитат пытался доказать, что Иисус Христос Богом не был, а Богом является Бог-отец; Святой Дух есть сила божеская. Такие утверждения противоречили основным догматам христанской церкви, и в глазах собратьев Будного являлись ересью, хотя Будный здесь выступал, полемизируя с приверженцами диетизма (двухбожья) Петром из Гонёндза и Станиславом Фарновским [62].
«Реформационная оппозиция православию в восточнославянских землях Речи Посполитой не была однородной. Наряду с течениями, типологически близкими лютеранству и кальвинизму, в ней большую роль сыграло антитринитарское направление. По своей социальной сущности идейная оппозиция православной церкви была явлением глубоко прогрессивным. В религиозной форме она выражала социальный протест широких демократических слоев православного населения Речи Посполитой против официальной феодальной идеологии, выразителем и пропагандистом которой была православная церковь со своей многочисленной армией белого и черного духовенства. Этот идейный протест выражался не только социально-политическими идеями и требованиями, но и всем составом реформационно-религиозной идеологии, которая, отрицая учение официальной церкви, окружившей „феодальный строй ореолом божественной благодати“, отрицала тем самим идеологию и культуру господствующего класса» [62].
В Новогрудском воеводстве проживало более 600 «шляхетских» (дворянских) фамилий; в православии остались только 16, остальные стали кальвинистами. К 1563 году в Великом Княжестве Литовском было 195 православных храмов и около 50 монастырей. Католиков же к 1563 год оставалось всего около тысячи. В Жмудской епархии, например, из 700 костёлов католическими остались только 6. В кальвинизм перешли даже два иерарха католической церкви ― епископ жемайтский Ян Пяткевич и епископ киевского диоцеза Николай Пац, оба «литвины-беларусы». Кальвинизм становился доминирующей религией в княжестве. В 1565 году кальвинисты королевским «Виленским привилеем» были уравнены в правах с католиками и православными [25].
На Брестском соборе 1596 года католики, укоряя православных за союз с кальвинистами, говорили: «Вы имеете в них (протестантах) больших приятелей, которые у вас в новогродском воеводстве опустошили 650 церквей».
Еще одна ветвь развития христианства прижилась на территории Великого княжества – «антитринитарии» (иначе – «унитарии», «ариане», прим. авт.), которые нашли поддержку в 1558 году у крупного магната, старосты жмудского Яна Кишки. Ян Кишка основывал арианские общины, открывал арианские школы, устраивал типографии – в Лоске близ Ошмян, в Любче близ Новогрудка, в Заславле (Минское воеводство). Наиболее активную деятельность ариане развернули в Новогрудском и Брестском воеводствах, хотя их общин было немного.