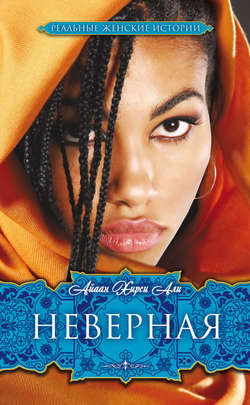Читать книгу Неверная - Айаан Хирси Али - Страница 4
Часть I. Детство
Глава 2. Под деревом талал
ОглавлениеВдетстве я пыталась представить себе, какой он – мой папа. Когда я расспрашивала маму, она только говорила, что я никогда его не видела. Afwayne – настоящее чудовище, совсем не такое, как в бабушкиных сказках, – посадил отца в тюрьму. Afwayne, Большой Рот – так все называли президента Сиада Барре. В Могадишо повсюду висели его огромные портреты – в каждом магазине, в каждом публичном месте. У него был большой рот с длинными зубами. Иногда специальные отряды Afwayne врывались в дома и забирали людей, пытали их, заставляя признаться в чем-то ужасном, а потом убивали. Всякий раз, когда с площади Трибунка доносился выстрел палача, дома все замирало.
Сиад Барре был назначен заместителем командующего сомалийской армии в 1960 году, когда страна получила независимость, а позднее, пройдя подготовку с советскими офицерами, стал последователем марксизма. Он был из Марехан, маленького субклана Дарод, и очень скромного происхождения. Многие обстоятельства переворота до сих пор неясны: отдавал ли Барре приказ уничтожить президента или просто захватил власть после его убийства? При Барре Сомали стала классическим «марионеточным государством» Советского Союза – однопартийным, с единым профсоюзом, женской организацией и пионерскими отрядами. Огромные средства тратились не на развитие страны, а на покупку вооружения. Тем не менее школы получали солидное финансирование: то ли ради того, чтобы обучить детей, то ли ради того, чтобы приучить их обожать правительство.
Пока мне не исполнилось шесть лет, каждый вечер все дети в доме становились на колени полукругом и просили Аллаха освободить нашего папу. Тогда это не имело для нас особого смысла – мама никогда толком не рассказывала нам о Боге, Он просто был. И больше всего ценил детские молитвы. Хотя я просила Господа так усердно, как только могла, это, казалось, не помогало. А когда я спрашивала маму, почему Аллах до сих пор не отпустил нашего папу, она только заставляла нас молиться еще упорнее.
Маме было разрешено навещать отца в тюрьме, но пойти туда с ней мог только Махад. Нам с Хавейей приходилось сидеть дома с бабушкой – мы были еще слишком маленькими, и к тому же девочками. Махад во всем был первым. Брат всегда возвращался оттуда очень сердитым, и мама брала с него слово, что он ничего нам не расскажет, потому что мы могли проболтаться, а тайная полиция – услышать это.
Однажды, выходя с мамой из тюрьмы, Махад набросился на огромный картонный портрет Afwayne, висевший над входом. Ему тогда было лет шесть. «Он кидал в него камнями и кричал, – рассказывала потом мама бабушке. – Слава Аллаху, что охранник оказался из нашего клана». По маминому голосу было слышно, что она восхищается боевым духом Махада. Но охранник мог обвинить ее в том, что она настраивает сына против правительства. Я понимала, что, если бы не Аллах и поддержка нашего клана, мы с Хавейей могли в тот вечер сидеть под деревом с бабушкой одни и просить Господа освободить не только папу, но и маму с братом.
Аллах был для меня загадкой. Одно из первых моих воспоминаний – мне тогда было года три – это странное действо, которое устроила бабушка. Она лежала, согнувшись на циновке у себя в комнате, уткнувшись носом в пол. Я подумала, что это такая игра, и стала скакать вокруг, корча рожи. Но она не замечала меня, продолжая сгибаться и разгибаться, бормоча что-то совершенно непонятное. Я растерялась. Когда бабушка закончила, она в ярости обернулась ко мне.
– Глупый ребенок! – закричала она, схватила меня за руки и начала щипать. – Чтоб Аллах Всемогущий забрал тебя! Чтоб ты никогда не познала ни капли райского блаженства!
Двоюродная сестра Саньяр, тринадцатилетняя дочь сестры-близнеца моей матери, вызволила меня из цепких пальцев бабушки и вывела на улицу. Она помогала присматривать за нами, когда мамы не было дома. Саньяр мягко объяснила, что я помешала бабушке во время разговора с Богом – во время самого главного момента в жизни взрослых.
Я была поражена: в комнате точно не было никого, кроме нас с бабушкой. Но Саньяр сказала, что я еще слишком мала, чтобы это понять. Когда я вырасту, то почувствую присутствие Аллаха.
* * *
Представления моей бабушки о мире были очень сложными. Целая космология из волшебных созданий, существующих бок о бок с единым Богом – Аллахом. Джинны, мужского или женского пола, жили в средней сфере, соприкасающейся с нашей, и могли приносить несчастья и болезни. А души мудрых людей и умерших предков могли вступиться за тебя перед Господом.
В другой раз, когда мы с Хавейей были уже чуть постарше, мы дурачились под деревом талал, как вдруг услышали, что бабушка с кем-то говорит. Ей было плохо, и она легла в постель, так что мы старались не беспокоить ее. Подкравшись к двери комнаты, мы прислушались.
– Дорогие предки, отпустите меня, – произнесла бабушка, задыхаясь.
Ответа не было. Потом раздался глухой стук.
– Абокор, отпусти меня. Тук.
– Хассан, отпусти меня. Тук.
– Дорогие предки, отпустите меня.
Мы с Хавейей сгорали от любопытства. Нам хотелось взглянуть на всех этих людей. Потихоньку, осторожно мы приоткрыли дверь. Комната была наполнена ароматом благовоний. Бабушка лежала на спине, в прекрасных сияющих одеждах, будто собралась на праздник Аид, и ударяла себя руками в грудь, глухо умоляя после каждого удара:
– Дорогие предки, отпустите меня.
Мы озадаченно огляделись. В комнате не было никого и ничего, что хоть отдаленно напоминало бы предка – впрочем, мы их никогда и не видели. Я вытащила Хавейю обратно и постаралась прикрыть дверь как можно тише. Мы были заинтригованы. Через несколько дней мы придумали игру – легли рядом на кровать и приглушенными голосами начали умолять воображаемых предков отпустить нас. Вдруг бабушка ворвалась в комнату, следом за ней вбежала мама.
– Чтобы вы обе в аду сгорели! – визжала бабушка. – Дьявол вас побери!
Она стала гоняться за нами, угрожая, что соберет вещи и уедет. Маме пришлось нас наказать – ей была нужна бабушкина помощь, ведь она сама редко бывала дома. И опять все из-за Afwayne.
Сиад Барре превратил Сомали в полицейское государство и попытался создать плановую экономику. Он стал сотрудничать с Советским Союзом, поэтому Сомали должна была стать коммунистической страной. На практике для простых семей это означало, что им придется теперь часами стоять в длинных очередях под беспощадными лучами солнца, чтобы получить ограниченное количество основной пищи: муки, сахара, сорго, риса и бобов. Ни мяса, ни яиц, ни фруктов, ни овощей, ни оливкового или сливочного масла. Все это нужно было доставать на черном рынке.
Мама всегда уезжала неожиданно. Только что была тут – и вот ее уже нет. Иногда мы не виделись неделями. Я обнаружила, что в ее действиях есть определенная последовательность. Сначала мама – такая сдержанная и все же зависимая – впадала в отчаяние. «Что же мне теперь делать, о Аллах? – стонала она. – Одной, с тремя детьми и старой женщиной на руках. Чем я заслужила такое наказание?» Мама плакала, а бабушка успокаивала ее. Я забиралась к ней на колени и пыталась утешить, но от этого мама принималась плакать еще горше. Потом она вдруг отправлялась в далекую деревню, часто вместе с одним из двоюродных братьев своего отца – торговцем, который давно продал своих верблюдов, купил грузовик и теперь возил продукты в город.
Иногда я видела, как сразу после заката она возвращалась в кузове автомобиля. Мужчины втаскивали в дом сумки с рисом, мукой, сахаром и алюминиевые банки с мелко нарезанной верблюжатиной, вымоченной в жире с финиками и чесноком. Разгрузка проходила быстро и тайно. Весь наш опыт общения с мужчинами сводился к таким моментам. Нам велели не говорить никому о еде, которая хранилась под кроватями, иначе мама и ее брат могли попасть в тюрьму.
Однажды солдаты из ужасной бригады Гуулваде пришли к нам. Это был специальный отряд Afwayne – даже хуже полиции. Мамы не было. Молодой мужчина в зеленой форме, с ружьем зашел во двор. Бабушка сидела под деревом талал. В страхе и ярости она поднялась с циновки. Ростом только чуть выше меня, в этот момент она была исполнена удивительного величия.
– Вы, низкородные! – начала она свою речь. – Ваши ружья не вернут вам утраченную честь! Вы только и можете, что пугать старых женщин и детей, чьего отца ваш трусливый хозяин посадил в тюрьму!
Бабушка ненавидела правительство.
В страхе я убежала в дом. За изгородью я заметила еще как минимум троих людей в форме. Солдат двинулся к дому, бабушка попыталась преградить ему путь. Она была намного ниже его, но выглядела очень грозно; вытянув шею, она потрясала зажатой в кулаке длинной острой иглой, которой плела циновки и корзинки.
Солдат велел ей отойти с дороги. «Трус!» – завизжала бабушка. Он толкнул ее. Она упала, но поднялась и бросилась на него с иглой. «Трус! Трус!» – шипела она. Солдат на мгновение задумался. Посмотрел на других бойцов. Я подумала, что он уйдет.
Но он толкнул бабушку сильнее. Она повалилась на спину, а этот солдат и трое других зашли в дом, перевернули в нем все и ушли.
– Сыновья гулящих! Аллах сожжет вас в аду! – закричала бабушка им вслед.
Она выглядела уставшей, и, взглянув ей в лицо, я решила пока не задавать вопросов.
В тот же вечер мама вернулась из тюрьмы, где навещала папу. Она ходила туда часто. Готовила для него специальную еду, выбирала самые нежные части мяса, разрезала их на кусочки размером с ноготок, мариновала, а затем тушила несколько дней.
Моя самая младшая сестра, Куман, родилась, когда мне было три. Но все, что я о ней помню, – как она умерла. В памяти отпечатался высокий мужчина, стоящий в дверях с маленьким ребенком на руках. Все шептали Innaa Lillaahi wa innaa Illaahi raaji’uun – «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся». Помню, как тянула маму за край платка и говорила, что этот мужчина хочет унести мою сестру. Помню, что мама просто повторяла нараспев те же слова, что и все остальные, снова и снова. Потом мужчина ушел и забрал Куман, она громко кричала, а мама следовала за ними, бледная от горя.
Годы спустя, когда я стала достаточно взрослой, чтобы понять, что такое смерть, я спросила у мамы, почему маленькая Куман плакала, если она умерла. Мама ответила, что на самом деле кричала я, несколько часов, и не могла остановиться.
С детства я помню очень много похорон. Дядя Аид, муж тети Кхадиджи, умер, когда мне было четыре. Никогда больше он не покатает нас в своей черной машине, не покачает на колене. Потом заболела тетя Хаво Маган, сестра отца. Она была такой заботливой. Если мы перечисляли свою родословную правильно, тетя угощала нас конфеткой и вареными яйцами. Нам с Хавейей разрешили пойти вместе с мамой к ней в больницу. Когда она умерла, я расплакалась.
– Ее больше нет. И с этим ничего уже не поделаешь, – сказала мне тогда мама. – Перестань плакать. Так устроена жизнь. Если мы родились – значит, когда-нибудь умрем. Есть рай, и хорошие люди, такие как тетя Хаво, обретают там покой.
Мамина старшая сестра, тоже по имени Хаво, приехала к нам в гости и заболела. У нее было что-то внутри легких, поэтому ей приходилось лежать на полу на циновке весь день. Я никогда не забуду бесконечные сдавленные стоны, которые дни и ночи напролет издавала сквозь зубы тетя Хаво. Бабушка, мама и мамина сестра-близнец, тетя Халимо, по очереди мазали ее грудь травой malmal. Когда тетя Хаво умерла, в нашем доме собралось много женщин. Они развели несколько костров, готовили и разговаривали. Некоторые из них раскачивались, взмахивая руками над головой, и ритмично выкрикивали:
Allah ba’eyey / О Господи, я уничтожена,
Allah hoogayeey / О Господи, я опустошена,
Allah Jabayoo dha’ayeey / О Господи, я разбита и сломлена,
Nafta, nafta, nafta / Душа, душа, душа.
Дойдя до третьей строки, женщины падали на колени в наигранной истерике. Потом они вставали, хватали себя за горло и пронзительно вопили: «Nafta, nafta, nafta» – «Душа, душа, душа».
Я заметила, что мама просто в ужасе. «Какое неуважение к умершей! – прошептала она. – Женщины клана Исак! У них нет ни чести, ни манер! Как они могут быть так бесстыдно развязны!» Мама тихо плакала в уголке, как было принято в Дхулбаханте, субклане Дарод. Она была так поглощена скорбью по Хаво и злостью на женщин Исак, что не заметила, с каким восхищением мы с Хавейей наблюдали за всей этой сценой.
Спустя недели две мама и бабушка застали нас, когда мы били себя в грудь и кричали на весь двор: «О Господи, я уничтожена! О Господи, я опустошена!», а потом с громким смехом бросались на песок, визжа: «Душа, душа, душа».
Бабушка была вне себя от ярости. Она считала, что мы испытываем судьбу или даже пробуждаем невидимых джиннов, которые всегда рядом и только и дожидаются такого призыва, чтобы обрушить на людей несчастья. Самым худшим было то, что она оскорбилась маминым снобизмом по отношению к женщинам Исак: бабушка сама принадлежала к этому клану.
Когда мама была дома, мы жили по распорядку. Завтрак и обед – это не обсуждалось. Потом полуденный отдых. После этого, пока мама готовила ужин, – молитвы к Аллаху, чтобы тот убедил злое правительство отпустить нашего отца и проявить милость к усопшим. Затем нас заставляли поесть, помыться и, наконец, лечь спать. Когда нами занимались бабушка и Саньяр, на нас почти не обращали внимания. В такие дни мы вели себя просто безобразно.
Я была зачарована радио – квадратной коробкой с ручкой. Из круга, состоявшего из черных дырочек, почему-то вылетали голоса. Мне казалось, что внутри сидят маленькие человечки, и очень хотелось их потыкать. Поэтому я стала засовывать пальцы во все дырки. Когда ни один человечек не вышел, я прижала радио к уху и попыталась уговорить их вылезти. Я просила Аллаха помочь мне. Но ничего не произошло, поэтому я засыпала дырки песком. Потом встала и бросила его на пол, надеясь, что оно откроется. Для бабушки радио много значило. Впервые увидев его, она тоже подумала, что это магия. В Сомали человека, который читал новости по вечерам на местном BBC, называли Тот-кто-Пугает-Стариков. Это был единственный элемент современной жизни, с которым бабушка умела управляться. Поэтому, конечно, когда я сломала радио, она меня побила.
Однажды утром, когда мне было года четыре, к нашему дому подъехал грузовик, но, вместо того чтобы выгружать из него еду, мама сказала, чтобы дети забирались внутрь. Один из ее двоюродных братьев поднял нас высоко в воздух и посадил в кузов, к овцам и козам. Никто не сказал нам, что мы куда-то собираемся, даже не попытался ничего объяснить. После того как вслед за нами погрузили чемоданы, котелки и прочую утварь, грузовик поехал. Думаю, бабушка убедила маму, что мы будем вести себя лучше в здоровой атмосфере деревенской жизни. Или, возможно, у мамы возникли проблемы с ее торговлей на черном рынке.
В кузове было шумно, машину трясло на ухабах. Взрослые все время жаловались, животные блеяли от страха. Но для нас, детей, это было потрясающее приключение, мы наслаждались каждым моментом. Через несколько часов мы заснули.
Я проснулась в странном месте – в доме, стены которого были сделаны из смеси травы, грязи и навоза, намазанной на деревянную основу. Циновки покрывали земляной пол, и внутри было темно, никакого электричества. Я пошла искать маму, но вместо нее встретила какую-то странную женщину. Земля перед домом была красной и пыльной, а вокруг не было ничего, кроме пустого пространства с несколькими деревцами и кучкой хижин, похожих на ту, из которой я только что вышла.
Когда я нашла маму, она объяснила, что мы в деревне Матабаан, в восьмидесяти километрах от Могадишо, неподалеку от реки Шабелле. Там жили пастухи из клана Хавийе, и было достаточно воды, чтобы поддерживать на песчаной почве хотя бы небольшое хозяйство. Мамин двоюродный брат, торговец, наверное, был знаком с кем-то из этой деревни, и, видимо, она решила, что там мы будем не только сыты, но и в большей безопасности. В любом случае, мама сказала, что устала от Могадишо, от подпольной торговли и всяких тайн.
– Теперь нам больше не придется говорить шепотом и прятаться от правительства. Посмотрите, сколько вокруг места. Здесь у нас будет все, что нужно, и вы сможете бегать, сколько захотите. Аллах позаботится о нас.
Чем дольше мы оставались в Матабаане, тем больше нам там нравилось. Отправляясь с бабушкой пасти коз и овец, мы с Хавейей совершали долгие прогулки. Правда, я боялась всего, что движется: любого насекомого, любого животного.
Иногда бабушка пыталась вразумить меня:
– Дикая лошадь, которая шарахается от всего подряд, споткнется и сломает ногу. Убегая от маленькой букашки, ты можешь наткнуться на ядовитый куст и умереть. Или упасть на холм, под которым прячется змея. Ты должна понимать, чего стоит бояться, а чего нет.
Когда ты один в пустыне – вокруг действительно никого нет. Так что опасаться – разумно. В Матабаане бабушка пыталась привить нам правила выживания.
– От одних животных лучше убегать и прятаться – например, от гиен и змей, а еще от тех обезьян, которым не по нраву быть далеко от своей стаи. От других нужно быстро забираться на дерево, выбирая ветки так, чтобы звери не могли залезть следом, – говорила она. – Если встретите льва – присядьте и не смотрите ему в глаза. Львы почти никогда не бросаются на людей. Только во время сильной засухи они могут поживиться человеческим мясом. Лев заберет у вас овцу или козу, а за это вас накажут или оставят без еды. Помните: большинство животных нападают, только когда чувствуют, что люди их боятся или хотят напасть первыми.
Но мир бабушки не был нашим миром. Ее назидания только еще больше пугали меня. Львы? Гиены? Я никогда не видела таких зверей. Мы были городскими детьми, то есть, по меркам кочевников, еще более неумелыми, чем земледельцы или кузнецы.
Так как я не знала никаких ручных ремесел и не умела ухаживать за скотиной, единственной моей обязанностью в Матабаане было носить воду из большого озера где-то в миле от нашей хижины. Я ходила туда каждый день вместе с соседскими детьми. По дороге мы собирали листья хны, жевали их и рисовали ими на руках странные оранжевые узоры. Озерная вода в бадье была коричневой от грязи, но когда я приносила ее домой, мама кидала в нее специальную таблетку, которая растворялась, – и потом сквозь воду можно было увидеть дно.
Люди стирали одежду в озере, ребята купались в нем. Мама постоянно боялась, что Хавийе утопят Махада, который не умел плавать. Брат мог бегать где угодно, потому что он мальчик, и теперь его вечно не было дома. Мама никогда не позволяла мне или Хавейе пойти с ним. Да Махад и не взял бы нас с собой – ему не хотелось, чтобы друзья узнали, что он играет с сестрами.
Махад все яснее осознавал, что такое мужская честь. Бабушка поддерживала его, говорила, что он мужчина в семье. Он никогда не просил разрешения уйти из дома, иногда возвращался далеко за полночь, и мама так сердилась на него, что закрывала ворота. Он сидел у изгороди, скулил, а она кричала ему: «Подумай о своей чести. Мужчины не плачут».
Вскоре брат стал для меня настоящим бедствием. Однажды приближался день торжеств Аид, знаменующий окончание поста Рамадан. К празднику закололи скотину, а нам подарили новые наряды. У меня было красивое платье с большим голубым бантом и плотным кружевом по подолу, а еще яркие носочки и новые черные кожаные босоножки. Я гордо вышагивала по дому, стараясь обходить пыль. Меня помыли и нарядили. Мама натирала спину Хавейе, когда Махад позвал меня со двора.
– Айаан, иди сюда! – закричал он.
– Что там? – Я подбежала к нему. Махад стоял возле туалета.
– Посмотри, – сказал он, протягивая руку, чтобы помочь мне забраться на ступеньки.
В Матабаан стены туалета были сделаны из веток, связанных между собой. В центре находилась широкая яма с каменными ступеньками, по одной с каждой стороны. Надо было поставить ноги на эти ступеньки и писать или опорожняться, отмахиваясь от больших назойливых мух. Мы с Хавейей очень боялись этой дыры, к тому же наши ноги были недостаточно длинными, чтобы поставить их на обе ступеньки. Поэтому мы справляли нужду в ближайших кустиках под присмотром мамы или бабушки.
В этот раз я все-таки вскарабкалась наверх и заглянула в черную яму. Запах был мерзким, а вокруг жужжали огромные мухи. И тут Махад забежал сзади и толкнул меня в спину. Я закричала так, как никогда раньше. Яма была отвратительной, да еще и глубокой, где-то по плечи. Когда мама вытащила меня, я была в ужасном состоянии, как и мой новый наряд. Она стала громко ругать Махада:
– Чтоб Аллах Всемогущий забрал тебя! Чтоб ты сгнил в этой дыре! Чтоб ты сгинул в огне! Чего еще теперь от тебя можно ждать? Ты коммунист! Еврей! Ты змей, а не мой сын!
Мама была просто вне себя. В приступе ярости она схватила Махада и швырнула его в вонючую яму, и теперь бабушке пришлось вылавливать его. В итоге большую часть праздничного утра они провели в попытках привести нас в нормальный вид. Я была вынуждена расстаться с платьем и босоножками. Руки у меня саднили, ноги болели. Мама велела мне не отходить от нее, чтобы Махад больше ко мне не приставал. Поэтому позже, когда бабушка с мамой резали мясо, я сидела рядом с ними на красной земле.
– У Махада совершенно нет чувства чести, – сказала мама с отвращением в голосе.
– Он всего лишь ребенок, – ответила бабушка. – Что он может знать о чести, если единственные мужчины, которых он видит, эти глупые земледельцы Хавийе?
– Боюсь, как бы он не убил Айаан ненароком.
– Она сама виновата. Тупая, как финиковая пальма.
– Я не тупая, – встряла я в разговор.
– Уважай бабушку! – шлепнула меня мама.
– Мам, он просто позвал меня посмотреть, вот и все, – захныкала я.
Бабушка ухмыльнулась:
– И ты подошла и посмотрела?
– Да, Айейо, – ответила я вежливо, обратившись к бабушке самым уважительным образом.
Бабушка засмеялась:
– Вот видишь? Она тупая, и только Аллах может ей помочь. Пятилетний ребенок и тот догадался бы, Аша. Можешь ругать мальчика, сколько хочешь, но Айаан глупышка, у тебя с ней будут одни хлопоты.
Махад поступил плохо, но я была непростительно доверчива, а значит, беспросветно глупа. Мне не удалось проявить бдительность. Я заслужила бабушкину ругань и не имела права возражать. Мама не сказала ни слова в мою защиту, и мне оставалось только всхлипывать и молча негодовать.
* * *
В Могадишо мы вернулись так же внезапно, как и уехали оттуда. Взрослые никогда ничего нам не объясняли. Они воспринимали детей почти как мелкий скот – как существ, которых надо тянуть за собой и бить, пока они не повзрослеют, вот тогда они будут достойны общения. Молчание мамы было понятно – чем меньше мы знали, тем меньше могли выдать Гуул-ваде.
В столице снова потянулись длинные, пустые дни, которые оживляли только редкие визиты маминых родственников. Тети, двоюродные братья, потом тетины братья… Женщины, которые приехали из пустыни в Могадишо, чтобы выйти замуж; мужчины, которые искали работу… Но в городе они становились совершенно беспомощными. Они не понимали, что такое дорожное движение, не знали, как пользоваться туалетом – маме приходилось объяснять им, что не надо облегчаться прямо на пол. Они вели себя как деревенщины, носили неприличную одежду, вешали на волосы любые блестящие предметы. Мама учила их, как сидеть на стуле, как протирать столы губкой; она постоянно втолковывала им, что нельзя есть как дикари и нужно покрывать плечи, а не ходить по улицам в деревенском доп.
Как все городские жители, мама чувствовала превосходство над этими простаками. Она знала, что им придется признать: ее путь лучше, чем их, потому что она переехала в город сама. Но, как и всем деревенским, им не нравилось, когда на них смотрели свысока. Если мама была с ними слишком резкой, они возмущались и уезжали.
Махад пошел в первый класс, а я начала свою маленькую войну против бабушки. Порой, когда она сидела под деревом талал, я забиралась наверх и плевалась оттуда. Конечно, не на бабушку – этого делать было нельзя, – но рядом с ней, на песок. Бабушка жаловалась маме, и начинались бесконечные споры о том, целилась я в нее или нет. В результате мне вообще запретили плеваться. В таких пустых ссорах мы и коротали время.
Взрослые игнорировали нас, поэтому мы с Хавейей специально придумывали новые забавы, чтобы их позлить. Если нас выгоняли из дома – мы играли в Гуулваде. Одна из нас вела себя агрессивно, притворялась, что у нее есть оружие, «потрясала» им и требовала показать, что лежит под кроватью. А другая делала все, что запрещал Afwayne: прятала еду, велела воображаемым детям молить Аллаха, чтобы заключенных выпустили из тюрем.
Еще мы довольно громко просили, чтобы режим пал и Afwayne сгинул вместе с ним. Иногда я забиралась высоко на дерево и кричала вниз Хавейе: «Ха-ха, я – Дарод, Хартии, Мачертен, Осман Махамуд и дочь Хирси Магана!» Afwayne запретил клановую систему, и теперь людям нельзя было спрашивать друг у друга, кто их предки. Отныне мы должны были быть просто сомалийцами – единой славной нацией, охваченной общей любовью к Сиаду Барре. Разговоры о своем клане превращали человека в «анти» – противника режима – и могли довести до тюрьмы и пыток. Наше громкое выражение приверженности традициям пугало взрослых, особенно тетю Кхадиджу, которая была единственным членом семьи, поддерживавшим Afwayne. После таких выкриков нас сразу же отправляли играть домой.
Наша спальня была большой и почти пустой, а стены такими высокими, что раздавалось эхо. Мы принимались соревноваться с ним, стараясь вызвать самый странный и громкий звук. От этого поднимался такой шум, что бабушка выгоняла нас обратно во двор.
Наконец, тетя Кхадиджа придумала, куда направить нашу неуемную энергию. Она всегда поддерживала все новое, в том числе местную школу. «Айаан хорошо бы ходить в обычную школу утром и в медресе после обеда», – предложила она. Мама не хотела, чтобы ее дочери были вдали от дома, способного защитить от любого вреда и греха. В школе девочки подвергались и той, и другой опасности. Но Махад уже пошел в школу, и отец, с которым, вероятно, мама посоветовалась на эту тему, велел ей отправить меня учиться. В конце концов, скрепя сердце, она согласилась.
Так в пять лет я получила новенькую школьную форму. Мне предстояло стать взрослой и пойти по своему собственному пути в этом мире. Мама предупредила, что в школе мне велят петь гимны, восхваляющие Сиада Барре, но я не должна этого делать. «Просто шевели губами или читай первую сутру Корана. Не прославляй Afwayne, просто учись читать и писать. Не общайся с другими детьми – они могут предать нас. Держи все в себе», – каждое утро напоминала мне мама.
В первый же день учитель ударил меня по голове, когда я не хотела открывать рот, чтобы петь. Было больно, поэтому я стала повторять слова. Мне было ужасно стыдно – предавать и отца, и мать. Каждое утро на линейке я старалась только шевелить губами, но тот же учитель выводил меня из строя и бил за это. Он рассказал классу, что я дочь «анти», а значит, тоже «анти», потому что все в школе учатся прославлять Сиада Барре и коммунизм, а я отказываюсь присоединиться. После этого друзей у меня не стало.
Медресе стояло вниз по дороге. Все ученики жили по соседству. Поначалу мне там понравилось: я училась смешивать чернила из угля, воды и молока, выводить арабские буквы на длинных деревянных дощечках. Я начала запоминать Коран, строчку за строчкой. Меня вдохновляло то, что мне доверили такое взрослое дело.
Но дети в медресе были жестокими. Они дрались. Одну девочку лет восьми они называли kintirleey – та, что с клитором. Я представления не имела о том, что такое клитор, но дети обходили эту девочку стороной. Они плевали в нее, щипали ее, сыпали песком ей в глаза, а однажды поймали и попытались закопать за школой. Учитель за нее не заступался. Он и сам иногда называл ее dammin – тупица, и kintirleey тоже.
Двоюродная сестра Саньяр обычно забирала меня из медресе. Как-то раз она пришла в тот момент, когда одна девочка ударила меня по лицу. Саньяр отвела меня домой и рассказала о случившемся.
– Айаан даже не защищалась, – сказала она в ужасе.
– Трусиха! – возмутились все члены семьи.
На следующий день Саньяр ждала меня возле медресе вместе с другой девушкой – старшей сестрой той, от которой я получила по лицу накануне. Они схватили нас, оттащили на пустую площадку и велели драться. «Выцарапай ей глаза! Покусай ее! – шипела мне Саньяр. – Давай, трусиха, подумай о своей чести».
Другую девочку подбадривали точно так же. Мы схлестнулись, стали бороться, кусаться, пинаться, таскать друг друга за волосы. «Айаан, не плачь!» – кричала Саньяр. Остальные дети тоже нас поддерживали. Когда нам позволили остановиться, наши платья были изодраны, у меня из губы сочилась кровь. Но Саньяр ликовала. «Больше никогда не позволяй другим детям бить тебя или доводить до слез, – сказала она. – Дерись. Если ты не дерешься за свою честь – ты рабыня».
Потом, когда мы уже уходили, моя соперница крикнула мне вслед: «Kintirleey».
Саньяр вздрогнула. Я посмотрела на нее, и холодок пробежал у меня по спине. Я такая же, как та девочка? У меня тоже есть эта неприличная штука, kintir?
* * *
В Сомали, как и во многих странах Африки и Ближнего Востока, маленькие девочки становятся «чистыми», после того как им сделают обрезание. Никак по-другому не назовешь эту процедуру, которую обычно проводят в возрасте пяти лет. После того как девочке удалят клитор и малые половые губы – полностью или, в более гуманном случае, просто надрежут или проколют, – прооперированную область чаще всего зашивают, оставляя только небольшую дырочку, через которую сможет просочиться тоненькая струйка мочи. В результате формируется плотный «пояс верности» из зарубцевавшейся плоти. Огромные усилия потребуются для того, чтобы разорвать заживший шрам и заняться с девушкой сексом.
Обычай женского обрезания возник раньше ислама. Не все мусульмане практикуют его, но есть и не мусульманские народы, соблюдающие эту традицию. В Сомали, где почти каждая девочка подвергается обрезанию, делается это во имя ислама. Считается, что иначе девушка будет предаваться разврату, станет одержима демонами и обречет себя на вечные муки. Имамы никогда не отговаривают от такого решения: это сохраняет дочерей непорочными.
Многие девочки умирают во время операции или после от инфекции. Другие осложнения могут вызвать сильнейшие боли, которые порой преследуют женщину всю жизнь. Мой отец был современным человеком и считал этот обычай варварским. Он всегда настаивал на том, чтобы его дочери не подвергались обрезанию. В этом плане он мыслил чрезвычайно прогрессивно. Не думаю, что по тем же самым причинам, но Махад, которому исполнилось шесть, тоже пока не был обрезан.
Вскоре после моей первой драки в медресе бабушка решила, что нам пора пройти процедуру очищения. Отец сидел в тюрьме, мама надолго уезжала, но бабушка была готова проследить за соблюдением старинных обычаев.
Договорившись обо всем, бабушка была радостной и доброй до самого конца недели. В назначенный день она накрыла в своей комнате роскошный стол, и к нам в гости пришло много женщин, знакомых и незнакомых. Я не понимала, что происходит, но видела, что в доме царит праздничная атмосфера, и знала, что нас – всех троих – ждет очищение. Меня больше не будут дразнить kintirleey.
Первым пошел Махад. Меня вывели из комнаты, но через некоторое время я проскользнула обратно к двери и стала смотреть. Махад положил голову и руки бабушке на колени, а сам лежал на полу, и две женщины сжимали его широко раздвинутые ноги, между которыми возился, склонившись, какой-то странный человек.
В комнате было тепло, чувствовался запах пота и аромат благовоний. Бабушка шептала на ухо Махаду: «Не плачь, ты запятнаешь честь своей матери. Эти женщины будут рассказывать о том, что видели здесь. Стисни зубы». Махад не издал ни звука, но по его лицу, искаженному гримасой боли, текли слезы, и он сжимал зубами бабушкин платок.
Я не видела, что делал незнакомец, но заметила кровь и испугалась.
Следующей была я. Бабушка покачала головой и сказала: «Как только этот длинный kintir уберут, вы с сестрой станете чистыми». По словам и жестам бабушки я догадалась, что этот ужасный kintir когда-нибудь станет настолько длинным, что будет болтаться у меня между ног. Бабушка обняла меня и уложила так же, как Махада. Две другие женщины развели мои ноги в стороны. Мужчина – вероятно, специалист по традиционному обрезанию, из клана кузнецов, – взял ножницы. Другой рукой он сжал меня между ног и стал щупать наподобие того, как бабушка доила козу. «Вот он, вот он, kintir», – подсказала одна из женщин.
Ножницы опустились, отрезая мой клитор и внутренние половые губы. Я услышала звук, похожий на тот, с каким мясник срезает жир с куска туши. Резкая боль неописуемой силы пронзила меня между ног, и я взвыла. Потом меня стали зашивать: длинная грубая нить, неловко протянутая сквозь кровоточащие внешние губы; мои громкие, отчаянные крики протеста; успокаивающие слова бабушки: «Это всего один раз в жизни, Айаан. Будь сильной, он уже почти закончил». Потом мужчина перекусил нитку зубами.
Вот все, что я помню об этом.
В память врезались крики Хавейи, от которых кровь стыла в жилах. Хотя она была младшей из нас – ей было четыре, мне пять, Махаду шесть, – Хавейя, похоже, боролась больше всех. А может, женщины уже устали и не смогли удержать ее, но мужчина сделал несколько страшных порезов у нее на бедрах, шрамы от которых остались потом на всю жизнь.
Наверно, я заснула, потому что только ближе к ночи я почувствовала, что мои ноги связаны, чтобы я не двигалась и шрам быстрее зарубцевался. Уже стемнело, мой мочевой пузырь разрывался, но писать было слишком тяжело. Острая боль никуда не делась, и мои ноги были покрыты кровью. Я лежала вся в поту и дрожала. Только на следующий день бабушка уговорила меня пописать. После внутри все болело. Даже когда я просто лежала, между ног все мучительно ныло, а когда я пыталась помочиться, тело пронзала такая острая боль, как будто обрезание только что сделали.
На восстановление нам понадобилось где-то две недели. Бабушка внезапно стала нежной и доброй. Она окружала нас неустанной заботой, отзывалась на каждый стон или всхлип, даже ночью. После каждого болезненного отправления естественных нужд она осторожно промывала наши раны теплой водой и смазывала фиолетовой жидкостью. Потом снова связывала нам ноги и напоминала, что нельзя двигаться, иначе шов разойдется и придется опять звать того мужчину.
Через неделю он пришел проверить, как мы. У меня и у Махада все шло как надо, а вот Хавейю нужно было зашивать заново. Шов порвался, когда она мочилась и боролась с бабушкой. Мы слышали, как все происходило, – это была настоящая агония.
Обрезание стало для нас пыткой, и больше всех пострадала Хавейя.
Махад уже вовсю бегал, когда тот мужчина пришел, чтобы убрать нить, которой зашивал меня. Вновь было море боли. С помощью пинцета он поддевал край нити и резко вытягивал. Бабушке и двум другим женщинам снова пришлось держать меня. И хотя теперь у меня между ног был толстый бугристый шрам, который, если я много двигалась, причинял неудобства, мне больше не нужно было лежать неподвижно весь день.
Хавейе понадобилась еще неделя, чтобы дойти до стадии удаления нитки, и теперь четыре женщины держали ее. Я была там, когда это происходило, и никогда не забуду выражение паники на лице сестры и то, как она кричала, изо всех сил стараясь сжать ноги.
С тех пор Хавейя больше не была такой, как раньше. Несколько недель ее лихорадило, она сильно исхудала. По ночам ее мучили кошмары, а днем она сторонилась людей. Мою жизнерадостную младшую сестричку будто подменили. Иногда она просто часами смотрела в одну точку. После обрезания мы все стали мочиться в постели. У Махада это продолжалось довольно долго.
Когда мама вернулась из поездки, она была вне себя.
– Кто просил тебя устраивать им обрезание? – в гневе кричала она. Ни разу еще я не видела, чтобы она так сердилась на мать. – Ты же знаешь, что их отец был против! Аллах свидетель, никогда в жизни меня так не предавали. Что на тебя нашло?
В ответ бабушка стала кричать на маму, объясняя, что оказала ей неоценимую услугу.
– Представь себе, что было бы с твоими дочерьми через десять лет! Кто взял бы их в жены, если бы у них между ног болтался длиннющий kintir? Думаешь, они навсегда останутся детьми? Ты неблагодарная и непочтительная, и если ты не хочешь видеть меня в своем доме, я уйду.
На этот раз она была настроена серьезно.
Мама не хотела, чтобы бабушка уходила, поэтому позвала сестру-близнеца Халимо, мать Саньяр. Тетя Халимо и мама были похожи как две капли воды: обе высокие, стройные, темнокожие. Их волосы не курчавились, как мои, а красивыми волнами обрамляли лицо и свивались кольцами сзади, на шее. У всех женщин Артан были длинные, тонкие руки и ноги, прекрасная осанка. Но, несмотря на внешнее сходство, тетя Халимо была гораздо мягче мамы. Они сели и долго разговаривали, ожидая, пока бабушка успокоится. Потом все, включая Махада, стали просить ее остаться.
После этого обрезание в нашей семье больше не обсуждалось. Это просто произошло, как должно было произойти. Все прошли через это.