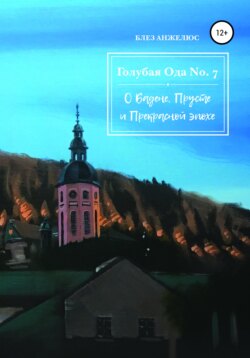Читать книгу Голубая ода №7 - Блез Анжелюс - Страница 3
Беглянка
ОглавлениеВокзалы, перроны и поезда, как и смерть, интересовали его с самого детства, с того самого момента, когда на каменном подоконнике своего родительского дома он обнаружил насмерть замёрзшего снегиря, которого он сначала принял за гроздь рябины, затем за алый лоскут ткани, случайно залетевшего сюда. Его беспокойный детский мозг усердно и старательно придумывал различные возможности данного инцидента, пока не перебрав все возможные варианты, не остановился на одном единственном и самом необратимом – смерть.
«Маленькая смерть птицы.
Маленькая смерть собаки.
Нормальный размер человеческой смерти».
Так написал один испанский поэт, смертельно очарованный этим процессом cмерти.
Эта мысль захватила его целиком и уже не оставляла ни на минуту. Он отчего-то опять вспомнил о своём попутчике, странном и угрюмом еврейском докторе из Минска. Как же его звали? Он запамятовал и никак не мог вспомнить его имя. Чем он сейчас занимается? Совершает ежедневные прогулки по Лихтентальской аллее или, засев за рулеточный стол, создаёт свой собственный рай или ад, под иерихонские выкрики крупье «Faites vos jeux!»?
Сквозь зелень садов, покрывавших склоны горы, он ясно увидел белое двухэтажное здание с готической крышей, окна его даже днём были занавешены тяжёлыми бархатными портьерами, под потолком в табачном дыму были зажжены огромные хрустальные люстры, освещая задрапированные пурпурной материей залы, углы которых тонули во мраке, потому что из-за табачного дыма свет не достигал этих углов, а в середине каждой залы, центральной – большой и двух боковых – поменьше, стояли столы, покрытые зелёным сукном, а вокруг столов – люди, с жёлтыми от бессоницы лицами, руки их тянулись к столам, где были рассыпаны золотые монеты, они отсвечивали каким-то мерцающим цветом, как оклады икон в церкви во время богослужения, когда зажжены все свечи, и огни их колеблются в облаках ладана.
Он шёл в сторону аббатства по аллее, погружённой в туман. Навстречу попадался редкий прохожий: пожилая монахиня в чёрном, аптекарь, крысолов, ростовщик, купец и музыкант. И ещё он встретил проституток, вульгарных, вычурных, но знающих себе цену. Наглых и целеустремлённых. Живых, и от того – настоящих. Здесь их было много, как будто сам этот город был создан для них. Что их тянет сюда, какие несметные сокровища и молочные реки?
Он сделал привал и присел на скамейку в яблоневом саду, что расположен на холме, над древним Лихтентальским аббатством, которое было основано в середине тринадцатого века. Прямо перед ним развернулась живописная панорама шварцвальдских гор с видом на зелёные виноградники, карабкающиеся стройными рядами в лазоревое небо. Он сидел и ни о чём не думал, глядя на цветы и травы у его ног и слушая шелестящую на тёплом ветру листву деревьев. Природа жила своей жизнью. Незамысловатой и лишенной пространных рассуждений о будущем. Чёрный дрозд нёс в своём ярком жёлтом клюве дождевого червя, яблони, отяжелённые своими спелыми плодами, клонили ветви к земле, на опушке, залитой солнечным светом, бегала собака с ярким рыжим окрасом и радостно виляла хвостом.
Мир не был скучен и угрюм, и был вполне самодостаточен, чего нельзя было сказать о человеке. Например, о нём, который больше рассуждал и думал о бессмертии, чем был в состоянии просто наслаждаться текущим мигом такой короткой жизни.
Он вспомнил один из красивейших отрывков, принадлежащих перу Шатобриана: «Вчера вечером я прогуливался в одиночестве… и размышления мои были прерваны щебетанием дрозда, расположившегося на самой высокой ветке берёзы. В одно мгновение благодаря этому волшебному звуку перед глазами моими возник отчий дом, я позабыл потрясения, которые мне только что довелось пережить, и, внезапно перенесясь в прошлое, вновь оказался среди полей и равнин, где столь часто приходилось мне слышать щебетание дрозда».
Он, как будто, сам не подозревая того, оказался вдруг в некоем перекрестном диалоге с давно уже мёртвыми поэтами, которые несмотря на свою физическую смерть, всё ещё волновали и подвергали разной степени сомнений его возбуждённую от столкновений с поэтическим словом душу. В этот раз инициатива была «в руках» у Бодлера, хотя и достаточно кратковременная. Его многочисленные реминисценции гораздо менее случайны, чем, к примеру, у Шатобриана, и, следовательно, более значимы. Сам поэт тщательно, осознанно отбирая, ищет в аромате, например, в аромате женщины, её волос, её груди, вдохновляющие аналогии, которые могли бы воскресить в памяти «лазурь небес, округлых и глубоких, или «в огнях и мачтах старый порт».
Или, как в этом случае, Бодлер говорит своему вневременному читателю:
«Мой дух уносит твой волшебный аромат
Туда, где мачт леса валов колышет ряд,
Изнемогающий от качки беспокойной.
Где тамаринд струит далёко запах свой,
Где он разносится пьянящею волной
И сочетается с напевом песни стройной».
Он вновь обрёл духовное равновесие, его уныние было сметено тем блаженством, что в разные периоды его жизни дарили ему деревья и цветы, вид колоколов Мартенвиля, аромат размоченных в чае мадленок и множество других ощущений. Он силился вспомнить цитаты из Бодлера, в которых можно было бы угадать эти «перемещённые» ощущения, чтобы наконец утвердиться в столь благородном родстве. Усилия никогда не бывают напрасными и его память, в качестве вознаграждения за такие усилия, предложила ему одну из самых прекрасных фраз, но, по совершенно непонятной причине, эта фраза принадлежала не Бодлеру, а Шатобриану, из его «Замогильных записок»:
«Тонкий, нежный аромат гелиотропа исходил от грядки цветущей фасоли, но он был принесён отнюдь не дуновением отчизны, а яростным ураганом с Новой Земли, и растение-изгнанник было здесь совершенно ни при чём, и не было здесь сладости воспоминаний и наслаждения. В этом аромате, не вдыхаемом красотой, не очищенном её легкими, не стелящемся по её следам, в этом аромате другой зари, культуры и другой части света чувствовалась вся грусть сожалений, потерь и ушедшей юности».
Эти чудесные фразы, болезненно-нежные, подобно музыке, шепчут утешения в невысказанных горестях и неизлечимом отчаянии; но надо быть осторожным: они могут вызвать в вас тоску по родине подобно тому, как пастуший рожок заставил бедного швейцарского ландскнехта из немецкого отряда в гарнизоне Страсбурга переплыть Рейн; он был пойман и расстрелян «за то, что слишком заслушался альпийского рожка».
И снова аллея стала безлюдна, безвидна и пуста. И тьма над бездною, и дух носился над водою.
Он часто ощущал своё метафизическое одиночество, но оно не являлось для него ни тяжким бременем, ни непереносимой тоской, связанной с некой формой печали или апатией. Для него одиночество скорее было, в некотором роде, внутренним ресурсом, позволяющим сконцентрировать внимание и энергию с целью создания авторского артефакта в области искусства, литературы или, даже, определённого рода сексуальных утех, граничащих с искусством или его сублимацией. Ведь странно даже себе представить то, что какой-либо, произвольно взятый, анонимный шедевр мог бы появиться из какой-то иной творческой стихии, кроме одиночества.
Сложно себе представить, размышлял он про себя, что тот же Брейгель, например, мог бы исполнить сюжет своих «Охотников на снегу», давно отвоевавших своё место в вечности, окружённый семейным стадом или односельчанами. А что говорить тогда о «Кувшинках» Моне, «Анжелюсе» Милле или, к слову, о великом «Утерянном времени» Марселя Пруста, которое родилось в абсолюте его одиночества.
В русле этих размышлений он вспомнил проникновенные слова одного русского режиссёра, имя которого он не смог вспомнить, но его могила с упоминанием об ангеле однажды встретилась ему среди тысяч замшенных надгробий на парижском кладбище Пер-Лашез:
«Мне хочется сказать людям, чтобы они умели больше находиться в одиночестве.
Любили бы быть наедине с самими собой почаще.
Мне кажется, каждый человек должен учиться с детства находиться одному. Это не значит, быть одиноким. Это значит – не скучать с самим собой. Потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения».
«Мне бы не хотелось держать вас за пределами этой книги; все вы, живые и мёртвые – читатели. Это свершается за пределами моего «я»; и мне бы хотелось, чтобы это свершилось – именно так, в тишине».
Он вспомнил про вчерашний сон, образы которого всё также были ярки и незабываемы: