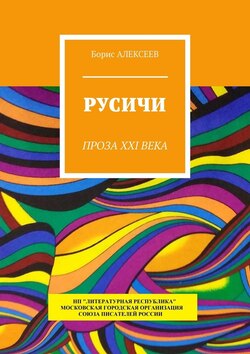Читать книгу Русичи. Проза XXI века - Борис Алексеев - Страница 7
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ
5. Под самое небо
ОглавлениеА теперь, как сказывал великий Александр Сергеевич, «займёмся»… главным героем нашего романа – богомудрым иконописцем Георгием. Тем более что пересказ «приключений», выпавших в лихие годы перестройки на долю пасынка «обратной перспективы»2, – история поучительная!
В прошлом выпускник знаменитого МИФИ, Егор по распределению оказался в институте Атомной Энергии им. И. В. Курчатова. Подавал серьёзные, наукоёмкие надежды. И всё бы хорошо, но приключилась с ним обыкновенная «хворь» русского интеллигента – болезненный выбор самого правильного жизненного пути.
Западный человек на такое не способен. Родовитость, клановость, наконец семейная традиция – основы западного менталитета. Именно эти качества имеют серьёзные преференции при принятии того или иного решения.
В отличие от европейца, русич с молоком матери впитывает интернациональное (нерациональное!) чувство ответственности за всё происходящее на Земле. Ему ничего не стоит поступиться собственными интересами ради всеобщего блага. Он с лёгкостью оставляет наезженную житейскую колею и переступает на зыбкую трясину околицы. Почему? Да потому что солнце над околицей встаёт раньше, чем над большаком. А раз так, то и светлое будущее над околицей начинается раньше!
Нечто подобное произошло с Егором. Уже «на склоне студенческих лет» ему припомнилось детское увлечение художеством. Стал он срисовывать физиономии товарищей со студенческих билетов. Получалось прикольно! Выстроилась целая очередь желающих получить «документальный» портрет от лучшего художника на курсе! Егор никому не отказывал и с каждым новым «портретом» всё более удивлялся возможности карандаша оставлять на листе бумаги затейливый житейский следок. Как-то вечером, возвращаясь домой, забрёл он в обыкновенную районную изостудию. Поговорил, показал рисунки – приняли.
Вскоре ему «открылось», что искусство – его главное и окончательное предназначение. С лёгкостью гения Георгий поставил крест на аспирантуре, уволился из Курчатника и, как в омут, нырнул в незнакомое пахучее художество, имея за плечами неоконченный курс рисования студийных гипсов и пару одобрительных отзывов преподавателя изостудии.
Следует сказать, что быть гением – внешне привлекательная, но необычайно трудная «профессия». Мало кто из собеседников может понять и оценить мысль гения, выходящую за рамки обыкновенного житейского понимания. Вспомним позднего Рембрандта. Пока его живописный гений возрастал и формировался, Рембрандт Харменс ван Рейн под рукоплескание толпы был вознесён на Олимп голландского искусства. Но лишь развитие Рембрандта вышло за общепонятные рубежи, сытые голландские бюргеры – заказчики и «ценители живописи» – отвернулись от стареющего гения и предали его осмеянию. Подобных примеров много. Ван Гог, Марина Цветаева, Сервантес…
Однажды приятель пригласил Егора в круиз на пароходе по Северному речному пути. В ответ Егор нахмурился и поначалу думал отказаться: ему не хотелось прерывать начатый курс натурного рисования. Однако товарищ был настойчив, пришлось из уважения к дружбе согласиться.
Так будущий иконописец оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. На стене одной из надвратных церквей он увидел древнюю фреску. Это было изображение Богородицы с Младенцем. Образ Божией Матери, рисунок Её рук, обнимающих Младенца, пластика ладоней, изгиб пальцев поразили новоявленного пилигрима. Такого рисования он не знал. И так как все процессы совершались в Егоре на повышенной скорости, в тот же день он «заболел» древнерусской иконографией! Вот оказия! Окольным северным путём Господь привёл нашего героя к церковному художеству. Древняя каноническая живопись, её философия и метод построения изображения по правилам обратной перспективы оказались в сильнейшем резонансе с его внутренним художественным чутьём.
Когда Егор писал натюрморт или рисовал натуру, он не испытывал того внутреннего восторга, каким Господь награждал его, как только он подступал к церковному изображению. Первое же знакомство с канонической живописью подарило ему радостное чувство личной творческой свободы. Ещё ничего толком не понимая в иконописании, он уже знал главное: где кончается изображение этого мира и где начинается настоящее горнее художество. В музыке подобная способность называется абсолютным слухом.
Не удивительно, что продвижение Егора по извилистой иконописной вертикали походило на феерическое восхождение пророка Илии в огненной колеснице. То, что иконописцы постигают годами, он обретал за считанные месяцы.
По возвращении из путешествия по северной Фиваиде3 Егор занял деньги, купил путёвку и улетел в Турцию, в город императора Константина – Константинополь, ныне переименованный турками в Стамбул. Улетел ради одного шага – взглянуть на величайший храм всех времён – Святую Софию Константинопольскую. Он хорошо знал Софию, изучил её по сотням фотографий и восторженных описаний, но то, что довелось увидеть своими глазами, превзошло все его догадки и предположения. Он увидел само небо! Как турки ни старались унизить Софию, как ни срывали позолоту, как ни вешали свои назойливые акбары, они ни на йоту не приблизились к цели.
«Принизить Софию невозможно!» – в слезах повторял Егор, оглядывая её небесное великолепие.
Так «профессиональная участь» Егора была решена – бессрочный и пожизненный иконописец!..
2
Обратная перспектива – способ построения иконописного пространства.
3
Северная Фиваида – поэтическое название северных русских земель, окружающих Вологду и Белозерск. Появилось как сравнение с древнеегипетской областью Фиваидой, известным местом поселения раннехристианских монахов-отшельников.