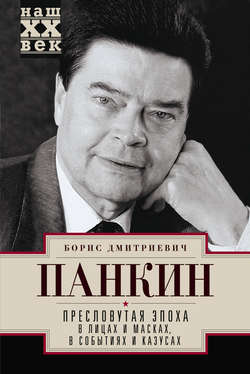Читать книгу Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах - Борис Панкин - Страница 6
Часть первая
Отец и списанный мотор
ОглавлениеТо ли натура у отца была такая – бродячая, то ли, не говоря об этом вслух, мои родители отказывались признавать нашу на 16 квадратных метров комнатушку на первом этаже в двухэтажном бараке в Останкине верхом комфорта, но и до войны, сразу же после окончания отцом Московского автодорожного института, и после войны, по возвращении отца с фронта, жизнь они вели кочевую. Все помыслы о лучшей для него работе связывали с отъездом из Москвы. В сорок шестом году выбор пал на Калинин, так тогда называлась Тверь.
Там, в десяти примерно километрах от города, притулилась так называемая ЦРБ – центральная ремонтная база, возвращавшая жизнь грузовым и легковым автомобилям, начальником которой и был назначен отец – инженер-майор запаса…
Недалеко от конторы и собственно производственного помещения, не помню уж, как его называли – цехом или мастерской, стоял одноэтажный деревянный домик из двух комнат с кухней, террасой и чуланом. По сравнению с нашими останкинскими апартаментами – одна кухня и одна уборная на два десятка дверей, выходящих в длинную «колбаску» – коридор, это был дворец.
Добавьте к этому, что, коль скоро предприятие было автомобильным, у отца была персональная легковушка – такой же задрипанный «газик», драндулет, как в Монголии, и персональный водитель, только уже не расконвоированный заключенный, как там, а военнопленный немец, тоже, кстати, расконвоированный, – Вилли Кнеч, в число обязанностей которого входило возить меня в Калинин в школу, коль скоро никаких других видов пассажирского транспорта не существовало. Судя по тому, что ездили мы с ним в город вдвоем, режим у него был действительно свободный.
По-русски он говорил всего несколько слов. Шесть из них он повторял особенно часто: «Ой, Борис, глава (с ударением на первом слоге) болит. Не знаешь почему (без вопроса)».
Я как мог утешал его на моем от Марии Исааковны немецком. Запомнился еще один немец. В отличие от подтянутого, сухопарого, всегда аккуратно выбритого Вилли он являл собой жалкое зрелище: рыхлость фигуры, неопрятность всегда заросшего лица, суетливость в манерах усугублялись неряшливостью одежды, коей, как и Вилли, служила ему донашиваемая унтер-офицерская форма.
Да и функции были у него обыденные – убирать поутру в доме. То ли ему это поручили в силу его неприглядной внешности, то ли само это поручение так повлияло на его облик.
Однажды, обнаружив, что все пространство дверной коробки, ведущей на кухню, перегорожено его объемистым афедроном, обтянутым грязно-зелеными галифе, я в шутку толкнул его слегка коленом в зад, он испуганно выпрямился, и я увидел, что в руках у него ведро для кухонных отходов, а на мокрой физиономии прилипли картофельные очистки и масляные обертки. Не припомню, чтобы он очень уж смутился. Но на следующий день, прежде чем взяться за работу, он вытащил из накладного кармана френча, слегка приведенного по этому случаю в порядок, стопку фотографий.
– Я, – говорил он матери и мне, тыча себя пальцем в грудь, – гросс-капиталист. А это – моя семья. Мои фервандте, то есть родные.
Вот он сам, но какой!.. Прилизанные, на пробор волосы, выпученные глаза, круглые щечки, бравая щетинка усов, бабочка под увесистым подбородком… Под стать ему жена, пухлая ухоженная фрау с шестимесячной завивкой, и такие же, в бантах и локонах, детки, не помню уж, сколько их там было.
В свои шестнадцать лет я был достаточно начитанным «вьюношей», и персонажи романов Лиона Фейхтвангера, Генриха Манна, филистеры-бюргеры моего любимого Генриха Гейне сразу встали перед глазами. Сомкнулись жизнь и литература.
Оказалось, что не я один видел Фрица (как ни странно, именно так его звали) в описанной выше ситуации.
За вечерним чаепитием пошли разговоры о Фрице и Вилли: он бы себе такого никогда не позволил как человек из рабочих, которого нуждой да голодом не удивишь.
– Гросс-капиталист, – передразнил отец. – Между прочим, хлеба в день он получает больше, чем вы, – кивнул он в нашу, матери и мою, сторону. – Да и похлебку им в зоне дают – пальчики оближешь.
Супчика мне этого довелось вскоре попробовать, когда всех нас, членов семей сотрудников ЦРБ, пригласили на праздничный вечер и концерт самодеятельности, который давали военнопленные. Суп оказался действительно очень вкусным и даже тогда отдавал сразу полюбившимися мне ароматами кухни, которую я впоследствии определил для себя как восточноевропейскую.
Что же до концерта, то в памяти сохранились лишь какие-то лошади с жирафами с армейскими бутсами на ногах, которые прыгали по сцене, издавали неприличные звуки и роняли из-под матерчатых хвостов коричневые кругляши, катившиеся под ноги взвизгивающих от восторга зрителей в поношенных кителях и френчах со срезанными погонами.
Дома, несмотря на высокое положение отца в масштабах ЦРБ, было хоть шаром покати. К хлебной ковриге, которую мать получала по отцовской и трем нашим иждивенческим карточкам, тянуло нас как магнитом. Оладьи пекли из картофельных очистков, таких же, какие Фриц надеялся выловить в помойном ведре. Картошку, почему-то почти всегда подмороженную, ели с каким-то бурым жидким маслом, которое называлось знакомым словом – постное, но ничего не имело общего ни с подсолнечным, известным мне по Сердобску, ни с кукурузным.
Суп варили из костей, которые отец выменивал на бойне на какие-то списанные детали. Вот тут-то нас и поджидала беда. На отца донесли, что он, мол, разбазаривает вместе со своими заместителями производственное оборудование. Приехала комиссия. Дело попало в суд. Тянулось оно долго. О развитии событий я мог догадываться лишь по нервному ночному перешептыванию отца и матери за стеной.
С наступлением летних каникул меня отправили к бабушке в Сердобск, первый раз после окончания войны. И там, на берегах милой моему сердцу Сердобы, заготавливая для бабушкиного козьего поголовья сено и веточный корм, я совсем было забыл о нависшей над семьей опасности. А вернулся как раз под заседание суда. Накануне отец рассказал мне, в чем было дело, и сказал, что виноватым себя не чувствует, но готовым надо быть ко всему. Я все молча, наклонив голову и роняя слезы, выслушал, но сморозил в ответ такое, отчего и сейчас, при воспоминании, кожа становится гусиной от стыда:
– Если виноват, надо отвечать…
Совсем в том же книжном духе, как тогда дяде Васе… Отец так же странно, как и младший брат его, словно на чужого, посмотрел на меня… Мать запричитала:
– Что ты такое, Боря, говоришь. Папа ж ничего такого не… Да мы бы все с голоду, если бы не…
Суд состоялся и приговорили отца к году условно, то есть с выплатой 25 процентов ежемесячного жалованья. Отец словно с того света вернулся. Приговор воспринял как награду. Родители чуть ли не до утра шептались опять за стеной, но уже совсем в иной тональности. Поминали добрым словом то секретаря райкома партии, который «поверил», не исключил до суда, как обычно делалось, из членов партии; судью, который «во все вникнул, разобрался по совести», свидетелей, которые «не побоялись всю правду сказать»…
Утром Вилли повез меня в школу и ни разу не пожаловался на то, что «глава болит».