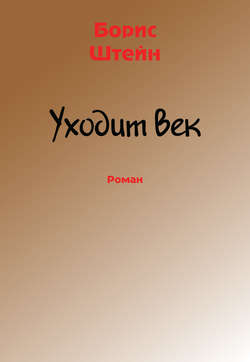Читать книгу Уходит век - Борис Штейн - Страница 4
Гороховая каша
ОглавлениеМоя младшая сестра отца совсем не помнит, а я помню все-таки.
Мы расстались с отцом в 41-м году, сестре тогда было немногим более двух лет – этот возраст обычно не задерживается в памяти. Я же перешел во второй класс, и впечатления того времени остались в моем сознании не только контурно, но и рельефно. Отец был высокий, худой, курящий – курил обычно «Беломорканал». Руки у него были сильные, ладони большие и добрые.
Папа.
Папа преподавал математику в институте. Наверное, он был хорошим преподавателем: сохранились благодарственные адреса с большим количеством подписей. И мама говорила, что его очень любили студенты.
Кроме того, папа писал стихи. Я запомнил какие-то смешные строчки – он потешался над нами, своими детьми.
«Трудно Ринне очень жить… – это про мою старшую сестру, семиклассницу, – не успеть повсюду. Если к Гале мне сходить, я в кино не буду. Опоздаю я когда, буду в страшном горе я: музыкальная тогда пропадет история».
Шел в то время такой замечательно веселый фильм: «Музыкальная история».
Еще помню баню на улице Чайковского, бывшей Сергиевской. Отец кладет меня на широкую каменную скамью, покрывает спину и ноги мыльной пеной и драит мочалкой до полной чистоты. Потом, схватив за ногу и за руку, перекантовывает, задержав на мгновение в воздухе невесомое тельце.
Странно: я не только помню ощущения, но словно бы вижу со стороны эту картинку – отца и себя.
Безусловно, память перемешалась с воображением. Это была не самая близкая от нашего дома баня. Но папа водил меня именно в нее. Там был бассейн – вот в чем дело! Бассейн, а также душ Шарко, а также циркулярный душ. И все эти немыслимые удовольствия увенчивались буфетом с лимонадом и конфетами.
Любил ли я тогда своего отца? Да нет же. Любовь – ведь чувство беспокойное. Я просто счастливо жил, худенький ленинградский мальчик, желанный сын своих родителей.
Отец был частью этой моей безмятежной жизни, такой же естественной частью, как мама, сестры, школа, двор, кино, книжки и выезд на дачу летом – в город Сестрорецк. Такой же естественной частью, как воздух.
Любил я отца в эвакуации, когда его не было с нами.
Вот тогда я его остро любил, тем более что мама всегда много о нем говорила, создала и поддерживала в нашей полуголодной жизни атмосферу любви к отцу и надежду на встречу с ним.
Да, тогда я твердо знал: больше всего на свете я люблю папу.
Последнее явление отца в моей жизни: пилотка, гимнастерка с лейтенантскими кубиками в петлицах и командирская планшетка на тонком ремешке. И отец достает из планшетки великолепный армейский складной нож с деревянной ручкой и протягивает мне. И я не расстаюсь с ним ни днем ни ночью и теряю его потом в одном из эвакуационных эшелонов.
Папа умер 13 марта 1942 года в одном из ленинградских госпиталей, от истощения и воспаления легких. Раньше официального извещения пришло письмо от нашей близкой родственницы, оставшейся в блокадном городе. Мы жили тогда на Урале, в селе Огнево, у агрономши Антонины Васильевны Ямщиковой. Мама работала в интернате, а мы все находились в своих возрастных группах. Вернее так: завтракали и обедали в своих группах, а ужинали все вместе дома. Ужин младшая сестренка приносила с кухни в кастрюльке.
Я отчетливо помню, как она принесла в кастрюльке гороховую кашу. Ее варили не из гороха даже, а из гороховой муки, она жидкая была – полукаша-полусуп, но вкусноты по тем временам необыкновенной. И вот пятилетняя сестренка принесла жидкую нашу гороховую кашу, а мы – мама, я и старшая сестра только что прочли письмо о том, что папа наш умер, и все трое плакали горько, потому что это было очень большое горе. Мама наша разлила кашу по мискам, но есть не ела: попробовала, и не смогла. Старшая сестра тоже не ела: попробовала немного и перестала. Мы все четверо плакали над своими мисками, и слезы наши капали в жидкую кашу, и мне сейчас то ли помнится, то ли кажется, что каша становилась от этого солоней. Я, однако, съел свою кашу и не наелся: я никогда не наедался в те годы. И мама пододвинула мне свою миску, и я стал есть, преодолевая стыд. Да, мне было стыдно, что я, во-первых, ем мамину порцию и что я, во-вторых, не теряю от горя аппетита. Но чувство голода было сильнее чувства стыда, и я доел все из маминой миски, а потом и из миски старшей сестры, и впервые за долгое время ощутил что-то наподобие сытости. И за это благостное ощущение мне тоже было стыдно. До сих пор, вспоминая этот горестный вечер, чувствую сильное внутреннее неудобство.
А кашу гороховую полюбил, как ни странно, на всю жизнь. Не из муки и не жидкую – такую не варят в мирное время – нормальную гороховую кашу, присоленную чуть больше нормы.
* * *
Сколько помню, я не нес в себе ни малой толики еврейства – ни языка, ни культуры, ни обычаев, ни специфических воспоминаний. Я ничего этого не унаследовал от старших родственников, мы все были русскими советскими людьми, и, честно говоря, мне было незнакомо понятие национальности. Узнал я о том, что еврей, только когда началась война, мне об этом рассказали интернатские ребята. Они объяснили, что я виноват ни больше ни меньше как в том, что Гитлер напал на Советский Союз. Значит так: Гитлер сказал Сталину: «Выдай мне ваших евреев, чтобы я их убил, а не то я на вас нападу». А Сталин отказался, и Гитлер напал на Советский Союз. А меня за это лупили и обзывали жидом. Для меня это обзывание было таким оскорблением, на которое я должен был отвечать дракой. Уж не помню, кто внушил мне эту повинность: драться в ответ на «жида», но помню, что она руководила мной как бы помимо моей воли. Мне здорово попадало от пацанов, и я сам себе пообещал, что когда вырасту и поумнею, сочиню об этом стихотворение, и, действительно, лет через тридцать сочинил. Стихотворение, а потом и новеллу, в которую вошло это стихотворение, я позже приведу ее полностью.
Так вот, в детстве я не слышал ни одного еврейского слова, разве что бабушка говорила иногда, как бы подсмеиваясь – «бекицер», что означало – «быстрее», или – «мешигене», что означало – «сумасшедший». Но я не знал, что эти вплетенные в русскую речь слова – слабое эхо языка моих предков.
Моя старшая тетя Эмма в 1914 году вышла замуж за военнопленного поляка и уехала с ним в Польшу. Во время второй мировой воины она попала в концлагерь Освенцим, где провела четыре года, но осталась жива, так как сидела в лагере не как еврейка, а как полька. В 1957 году она приехала в Ленинград, и как раз в это время крейсер, на котором я служил, вошел в Неву на парад, посвященный 250-летию города. Я сошел на берег и увиделся с тетей. Ей было под семьдесят, но она была бодра, оживлена, много шутила со своими младшими сестрами – моими тетями и мамой. В сознании не укладывалось, что этот человек прошел Освенцим. Мне запомнилась идеальная, как парик, укладка седых некрашеных волос и татуировка. Татуировка была на запястье левой руки – синие цифры лагерного номера.
Вернувшись на корабль, я написал рапорт, где докладывал, что у меня изменились анкетные данные: вчера я узнал о существовании родственников за границей, а именно – тети в Польше. Так было положено. Но времена были уже хрущевские, Польша считалась почти не заграницей, и меня поэтому поводу даже не снимали с загранпоходов и не лишали допуска к секретным документам по форме № 1.
Все мамины сестры выходили замуж не за евреев. Фамилии моих двоюродных братьев и сестер – Чистосердовы, Ковалевы, Моисеенко, Черноенко. Для семьи это ровным счетом ничего не значило. Мама вышла замуж за моего отца Самуила Петровича Штейна, и это тоже ни для кого ничего не значило. У моих предков, по крайней мере, поколения моих родителей – национальное самосознание начисто отсутствовало. По отцовской линии мы вообще произошли от николаевского солдата, но об этом я узнал лет в пятьдесят от своего дяди драматурга Александра Петровича Штейна, которого с детства и до самой смерти родные называли Шуриком.
– Знаешь, Шурик, – сказал я как-то, сидя в уютной, с детства знакомой гостиной квартиры на улице Черняховского, – я позвонил в Ленинград, в журнал «Звезда» Смоляну, заведующему отделом прозы. Там у них лежит моя повесть «Солнце на перекладине», и Смолян мне сказал: «Почему бы Вам из уважения к Вашему дяде не взять псевдоним, чтобы не было путаницы? И потом. Почему бы Вам не сменить фамилию главного героя – Розенталь – на какую-нибудь другую?»
– Ну и что ты ему ответил? – спросил Шурик, знаменитый, между прочим, советский драматург.
И я не без удовольствия рассказал, что ответил так:
– Я думал об этом. Но если я возьму псевдоним Иванов, это будет явное приспособленчество. Если, например, Кауфман, – Вы первый будете смеяться. Иногда писатели элегантно образуют псевдоним из имен своих жен. Это как бы не приспособленчество, а романтизм. Лидин, например, Галин, Люсин. Но мою жену зовут Лена. Согласитесь, это не тот случай.
Надо сказать, что Шурик вопреки ожиданию не развеселился от моего рассказа. Он только неопределенно хмыкнул и спросил, что я ответил на предложение изменить фамилию главного героя.
А я честно ответил, что мой Розенталь – эго автора, и я не могу назвать его Петровым-Ивановым.
И тут Шурик спросил меня:
– А ты считаешь себя евреем?
Я как настоящий русский еврей ответил вопросом на вопрос:
– А ты?
Шурик сказал решительно:
– Я – нет. Когда я был мальчишкой, мы жили в Самарканде. Там было много бухарских евреев. Те были настоящие евреи со своими еврейскими штучками. Мы даже дрались с их мальчишками. Как с чужими.
Я вспомнил свои детские невзгоды и подумал: «Шурик, Шурик, зачем ты воевал с теми мальчиками?»
А Шурик продолжал:
– Мой дед, а твой прадед, был николаевский солдат из кантонистов. Помнишь рассказ Короленко «Берко-кантонист»?
Я был темен в этом отношении.
Тогда Шурик достал с полки том Большой Советской Энциклопедии и открыл на соответствующей странице. Я прочитал об этих детских военных интернатах времен Николая I. Мальчиков туда брали рекрутским набором, они становились крепостными военного министерства. Обращались с воспитанниками жестоко, не все дотягивали до выпуска – умирали от побоев и недоедания. Однако к 17 годам кантонист знал грамоту и какое-нибудь военное ремесло. Прямо из школы он перемещался в казарму и тянул солдатскую лямку – как было тогда положено – двадцать пять лет. Рекрутской данью обкладывались не только крестьянские общины, но и еврейские местечки. Естественно, мальчики рекрутировались из беднейших семей или – сироты. Евреи составляли до 10 процентов кантонистов. Таким образом правительство заботилось об ассимиляции и своеобразном равноправии евреев. Тот, кому выпадало выжить, выходя в отставку где-то в сорок два года, имел право на надел земли и проживание вне черты оседлости в любом месте империи. Что касается религии, то все сводилось к тому, чтобы человек за долгие годы солдатчины принял религию, обряды которой входили в распорядок дня. Но окончательное решение оставалось за солдатом, и привилегии отставника не зависели от его вероисповедания.
Вот таким отставным солдатом и был мой прадед.
Итак, я был по внутренней сути русским человеком, имевшим уязвимое место в пятом пункте паспорта, которое время от времени давало о себе знать. Я думаю, что в Советском Союзе таких «ненастоящих» евреев было большинство, во всяком случае – в крупных городах, вроде Москвы и Ленинграда, где не сложилось компактного их проживания, или в таких областях деятельности, как военное дело, флот, авиация, литература, искусство, советская и партийная работа, а также медицина, спорт и так далее. Эти поля всегда имели свои специфические ландшафты – такие яркие, что для национальной специфики там места не оставалось. И только государственная политика негласного национального сдерживания не давала мне и мне подобным полностью забыть о своем «изъяне» и подталкивала нас друг к другу.
Первые освоенные мной еврейские анекдоты как раз относились к этому сдерживанию, к этой вялой, но неиссякаемой дискриминации:
– Гол забил Гершкович.
– И защитали?
В отделе кадров.
– Вы нам подходите. Как ваша фамилия?
– Абрамович.
– Знаете, я ошибся. Это место занято.
– Скажите, а может быть, мой друг подойдет? Его фамилия Хаймович.
– Нет-нет.
– А другой друг? Гуревич.
– Скажу вам откровенно: никого с фамилией на «ич» мы не возьмем.
– А на «ко»?
– Пожалуйста.
– Коган, заходи!
Смешно. И грустно. И это «смешно и грустно» стало приобретать для меня черты некоего национального характера, носителями которого были евреи Одессы, Эстонии, Литвы, Молдавии, думаю, что также Белоруссии и Украины, но с ними я не сталкивался близко. Видимо, этот национальный характер родился и выжил в тех местах, где исторически евреи жили компактно: в местечках, за чертой оседлости, где по сей день в семьях звучит идиш, где ходят в синагогу хотя бы за мацой на пасху и говорят с акцентом – чаще всего – нарочно, с юмором, например, вместо «не знаю» – «я знаю?».
А в Биробиджане – «их вэйс?»
– Рабинович, почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
– А почему бы мне не отвечать вопросом на вопрос?
Я полюбил еврейский акцент, особенно, когда изюминкой является именно интонация.
Идут два еврея мимо здания КГБ в Ленинграде. Один смотрит на «Большой Дом» и тяжело вздыхает.
Другой говорит:
– Он мне будет рассказывать!
– Вы знаете, вашу жену имеет весь город!
– Вы знаете, вашу тоже!
– Да, но все-таки!
Товарищеский суд.
– Вы обозвали Рабиновича дураком. Извинитесь.
– Как я должен извиниться?
– Скажите дословно: «Рабинович не дурак. Извините».
– Рабинович не дурак? Извините!
Еврейство стало меня увлекать. Не зная ни Ветхого, ни Нового Завета, ни истории, ни Торы, я интуитивно вошел в неглубокое озеро советской еврейской субкультуры. Будучи офицером, принимал участие в еврейской самодеятельности: читал свои стихи, в частности, ту самую «Интернатскую балладу», о которой уже упоминал и которую скоро приведу здесь полностью. Позже год проработал в Камерном Еврейском музыкальном Театре – завлитом (на самом деле – кем-то вроде пресс-секретаря и рекламного агента). Там на бесконечных репетициях и спектаклях я впитывал в себя еврейские мелодии – и «Хава нагила», и «Золотой Иерусалим», и многое другое. Но думаю, что причиной этого моего увлечения явился не зов крови, а суть предмета. Ведь в разные периоды жизни я увлекался и другими этносами. В юности – украинским языком и обычаями. В училище у меня был друг, близкий, как брат, – Коля Маляренко. Мы ездили с ним в отпуск в село в Николаевской области, я там месил чавур и управлял воловьей упряжкой. Я обожал украинский юмор, например, Тарапуньку и Штепселя, которых однажды в числе других офицеров принимал в кают-компании крейсера «Жданов». Любил украинскую поэзию, учил Шевченко «на мове», дружил с некоторыми украинскими поэтами, был знаком с Линой Костенко. Лина подарила мне свою книжку, я выучил из нее стихотворение «Стары дубы».
Недели две мне довелось прожить в глухом селе в Винницкой области. Тогда еще и в городах-то мало у кого был телевизор, и вечера там коротали – сейчас трудно поверить – пением. Пели хором, на голоса, безо всякой гармошки. Без публики – для себя. Пели и все. Выпевали Душу.
Был период увлечения сибирско-уральской повадкой. Тогда я начал мотаться по Сибири и научился говорить по-сибирски, и научил этому героев своих повестей.
И – Эстония. Это – часть жизни, часть души. Труд понимания народа и его духа…
Эстония моя, ты мне не мать.
В твоих скупых лучах мне не согреться.
И не надеюсь я завоевать
Твое – такое замкнутое – сердце,
Ну что ж, односторонняя любовь —
И горькое, и сладостное благо.
Достоин уважения любой
Влюбленный безнадежно бедолага.
И я твоих объятий не прошу.
Но я в душе ношу тебя, ношу.
К слову – об Эстонии и об «Интернатской балладе». Однажды, когда эсминец «Серьезный», на котором я плавал, стоял на рейде, меня с рейда вызвал оперативный дежурный. Мне дали катер, я прибыл. Оперативный сказал, что я должен позвонить в горком партии по такому-то номеру. Я позвонил.
– Извините, что я вас побеспокоила, – ответил женский голос. – Я инструктор отдела пропаганды Авива Глезер. Я была на вечере еврейской самодеятельности, и мне очень понравилась ваша «Интернатская баллада». Не могли бы вы выступить у нас в горкоме, почитать свои стихи?
Я думаю, что это было возможно только в Эстонии.
А впервые я «огласил» свою «Интернатскую балладу» на литобъединении таллиннского Дома офицеров, который сокращенно назывался – ДОФ. Об этом – новелла, которая называется…