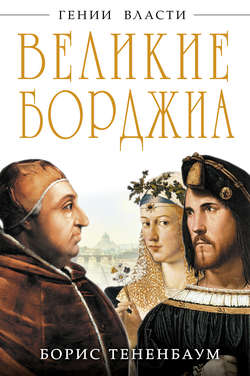Читать книгу Великие Борджиа. Гении зла - Борис Тененбаум - Страница 7
Часть первая
Алонсо
Алонсо Борджиа, князь Церкви
ОглавлениеI
К середине XV века Рим несколько вырос, но по-прежнему сильно уступал по-настоящему крупным городам Италии вроде Флоренции, а уж о том порядке, который завела у себя Светлейшая Республика Венеция, римлянам оставалось только мечтать. Единственным крупным «продуктом», которым Рим мог похвастаться, был папский двор, который притягивал к себе просителей и паломников, дороги, которые вели к Риму, контролировались баронами, в теории связанными вассальной присягой Святому Престолу, но на практике весьма независимыми, и в самом городе Риме могучие кланы – Колонна и Орсини – имели свои укрепленные резиденции. Начиная с Мартина V, окончательно утвердившего Святой Престол в Риме, все папы поощряли своих кардиналов в Риме же и селиться и в придачу к кардинальской шапке передавали им попечительство о той или иной римской церкви. Но поскольку жить в городе было небезопасно, кардиналы, как правило, свои резиденции строили так, чтобы при случае они могли послужить и оборонительной позицией.
Алонсо де Борха в следующие 10 лет в Италии в основном и жил, а когда в 1444 году наконец стал кардиналом, то окончательно перебрался в Рим. Там его стали звать на итальянский лад – не Борха, а Борджиа.
Ему тоже понадобилась резиденция – исключением из правила он не стал. Алонсо ди Борджиа, «испанский кардинал», получил на свое попечение церковь под названием Basilica dei Santi Quattro Coronati – «Санти-Куаттро-Коронати», или «Четверых Коронованных Святых». Вот ею он и занялся. Была выстроена и резиденция, примыкавшая к церкви, но она была сравнительно простой.
Причины тому были несложные: во-первых, кардинал Алонсо ди Борджиа был небогат, ибо его доходы ограничивались тем, что он получал как епископ Валенсии, во-вторых, у него было на диво мало врагов, так что строить башни и фортификационные укрепления ему было незачем. Жизнь он вел скорее аскетическую, много занимался госпиталем при церкви, помогал бедным и не вмешивался в свары в Священной коллегии.
У него хватало других забот – в первую очередь дипломатических.
Собственно, он и кардинальскую-то шапку получил в знак благодарности за примирение короля Альфонсо со Святым Престолом. Папа Евгений IV признал дона Альфонсо законным королем Неаполя и согласился с тем, что его наследником там станет принц Ферранте, незаконный сын короля Альфонсо. Альфонсо был правителем Арагона, Каталонии, Валенсии, Сицилии и Сардинии, законных детей у него не было, и свои наследственные владения он должен был передать брату, дону Хуану. Неаполь он считал своим личным завоеванием и собирался оставить его своему побочному сыну – и Алонсо де Борха, в ту пору епископ Валенсии и секретарь короля, сумел представить папе это решение в самом благоприятном свете.
Он указал Святому Отцу на то обстоятельство, что куда лучше иметь соседом Ферранте как короля Неаполя – и только Неаполя, чем какого-то другого принца, у которого в руках окажется не только Неаполь, но вдобавок еще и все ресурсы Арагона. На том и порешили.
И Ферранте, бывший воспитанник Алонсо де Борха, стал наследным принцем Неаполя, а Алонсо де Борха стал кардиналом.
Силою вещей он стал к тому же представителем интересов короля Арагона в Риме.
II
Свою роль дипломата кардинал Алонсо Борджиа выполнял превосходно – между папским престолом и Неаполем сложился подлинный союз. Это было весьма нелишним делом – положение папы Евгения как светского государя было нелегким, хотя бы потому, что у него не имелось собственных вооруженных сил, а защита владений Святого Престола находилась в руках так называемых викариев Церкви, которые обладали изрядной долей самостоятельности и повиновались только тем приказам, которые находили удобными для себя. Так что когда Франческо Сфорца начал действовать не только на севере, но и в центре Италии, выкраивая себе независимое княжество и подбираясь все ближе к владениям папы в Романье, помощь из Неаполя пришлась очень кстати. В начале 1447 года пятитысячное войско короля Альфонсо подошло к Риму и собиралось было двинуться на Флоренцию, союзницу Сфорца в Тоскане, когда папа Евгений неожиданно скончался. В Риме начался конклав – и в принципе король Альфонсо мог бы повлиять на его исход, но его мудрый советник кардинал Алонсо посоветовал ему не вмешиваться. Новый папа не должен был выглядеть «ставленником арагонцев» – это могло обвалить на Неаполь войну против всех остальных государств Италии. В итоге 6 марта 1447 года новым папой был избран Томмазо Парентучелли, принявший имя Николая V.
Он высоко поднял престиж папства – в 1452-м в Рим прибыл Фридрих, носивший титул короля римского, которым облекался глава государей Германии, и считавшийся в силу этого императором Священной Римской империи. В Риме его принимали с великой помпой, а он «держал стремя» папы, помогая ему сесть в седло. Жест был символический, означавший признание главенства папы как духовного главы всего христианского мира. После визита в Рим император проследовал дальше на юг, в Неаполь, где его ждал прием еще более великолепный.
К исходу выборов папы в 1447 году кардинал Алонсо особого отношения не имел. Следуя собственному совету, который он дал своему королю, он тоже придерживался строгого нейтралитета. Но к визиту императора Фридриха в Неаполь он руку, несомненно, приложил и тем еще больше поднялся в глазах короля Альфонсо.
Благоволение государя было немедленно использовано для продвижения семейных интересов.
Потомки дона Эстебана де Борха в пределах Валенсии были людьми влиятельными, но теперь перед ними открывались совершенно новые перспективы. У Алонсо де Борха, ставшего в Риме кардиналом Борджиа, была старшая сестра Каталина, и ее сын Педро де Борха, принявший святые обеты, был намечен на пост епископа в епархии Сегорбе, в Валенсии. Его брат, Луис де Мила, перешел под непосредственную опеку дядюшки. За ним последовали сыновья другой сестры кардинала Алонсо, Изабеллы. Старшего звали Педро Луис, младшего – Родриго.
Родриго дядя сделал так называемым sacristan, то есть хранителем драгоценных одеяний и сосудов главного собора Валенсии[4].
Родриго де Борха предстояло большое будущее.
III
Папа римский Николай V скончался в ночь на 24 марта 1455 года. Уже 4 апреля в Риме собрался конклав кардиналов – усопшему было необходимо избрать преемника. В общем-то, времени подумать у высших прелатов было достаточно – папа долго болел, но ни к какому определенному решению они так и не пришли. Весной 1455 года в Священном Совете кардиналов состояло 20 человек, но пятерых из них в Риме не было: отсутствовали два француза, два германца и единственный кардинал-венгр, представленный в Совете. Из 15 присутствующих кардиналов семеро были итальянцами, четверо – испанцами, двое – французами и двое, как ни странно, – греками, представлявшими Византию.
В отчаянной попытке спасти погибающую империю последний византийский император Константин Палеолог согласился пойти на унию, подчиняющую Восточную, греческую, церковь Западной, латинской. Флорентийский Собор[5], собранный еще при папе Евгении, торжественно объединил обе Церкви. Евгений IV известил об этом весь христианский мир, издав 6 июля 1439 года специальную буллу на этот счет (ее текст есть в Приложениях), но решение о прекращении раскола было с негодованием встречено в Константинополе и так и осталось в основном на бумаге.
А в 1453 году Константинополь пал – и вопрос и вовсе перестал иметь практическое значение: помощь с Запада так и не подоспела. Собор Святой Софии в Константинополе стал мечетью, а греческому патриарху надо было улаживать отношения уже не с папой римским, а с турецким султаном.
Падение Константинополя произвело в Европе потрясающее впечатление. Вроде бы дело давно к тому и шло, и вся Византийская империя давно уже свелась к самой столице да к небольшим полоскам побережья Греции (Мореи) с островами, и все прекрасно знали, что само решение об объединении Церквей было со стороны греков шагом, вынужденным только отчаянной необходимостью, – но все равно очень многие восприняли конец Византии как конец света. Последние два года своего понтификата, с 1453 и до 1455-го, папа римский не знал заботы более важной, чем организация общехристианского отпора туркам.
Понятно было, что эта забота перейдет и к его преемнику, кем бы он ни был.
Вопрос был настолько накален, что первым кандидатом на Святой Престол оказался кардинал Виссарион – греческий прелат, бывший епископ Никейский, принявший Великую Унию и получивший за это свой сан князя Церкви. За него на Совете высказались 8 человек из 15.
Однако поддержка его быстро сошла на нет, и на первый план вышла другая кандидатура. Это был племянник давно уже усопшего папы Евгения, кардинал Пьетро Барбо. Важно было то, что он был венецианцем, а война с турками потребовала бы самого деятельного участия Светлейшей Республики Венеция с ее могучим флотом. Пьетро Барбо тоже не удалось собрать большинства. Возникла было кандидатура кардинала Капраника, но он был римлянин, и это само по себе вносило в политические расчеты дополнительные осложнения. Дело тут в том, что в теории Церковь была единым организмом, но на практике на выборную должность главы христианского мира в первую очередь претендовали итальянцы – было очень трудно избрать кого бы то ни было без их согласия.
Сильнейшей итальянской фракцией, естественно, были римляне, но они делились на две непримиримые группировки «римских баронов» – семейств Колонна и Орсини, отчаянно соперничавших друг с другом. Кардинал Капраника был другом семейства Колонна – и Орсини сумели блокировать его избрание. В общем, поскольку договориться не удалось, все заинтересованные стороны согласились в том, что они друг с другом не согласны, и сошлись на временном решении – был избран нейтральный кандидат. Конечно же, в таких случаях выбирают самого старого и больного. Такой кандидат нашелся. Ему было уже 77 лет, он был болен – по слухам, даже не просто болен, а болен проказой – и по всем признакам должен был уже вскоре покинуть юдоль земную и переселиться на небеса.
Избрание состоялось 8 апреля 1455 года.
Новым папой римским под именем Каликста III стал Алонсо де Борха, арагонец, известный в Риме как кардинал Борджиа. Конечно, в апреле 1455-го никто этого знать не мог, но актом избрания кардинала Алонсо в папы была основана целая династия – династия Борджиа.
4
The Borgias, by Ivan Cloulas, Franclin Watts. New York, Toronoto, 1989, page 15.
5
Флорентийский Собор, состоявшийся при понтификате папы Евгения IV, сначала собрался в Ферраре, а потом во Флоренции. В то время как Латинская церковь с трудом выходила из великого раскола, который пошатнул ее устои, и в то же время, когда схизматический Собор продолжал работу в Базеле, Флорентийский Собор ставил перед собой задачу воссоединения отдельных Восточных церквей. Единство веры, которое должно было служить основой сближения, требовало обсуждения тех догматических аспектов, которые Восточные церкви не признавали. Длительные и трудные дискуссии завершились разными объединительными декретами, в основном с греками в 1439 году, с армянами, коптами и, наконец, с эфиопами (яковитами) в 1442 году.