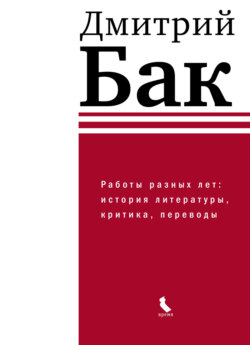Читать книгу Работы разных лет: история литературы, критика, переводы - Д. П. Бак - Страница 3
I. Теория
Конструирование истории и истории литературы: музейный ресурс[1]
ОглавлениеСегодня в России работают более 400 литературных музеев, и этот факт легко объясним. Как известно, начиная с середины XIX века российская культура отличается так называемым литературоцентризмом.
Это понятие означает, что литература как особый род социальной практики вбирает в себя функции смежных форм социальной активности: публичной политики, религиозных дискуссий, экономики, социологии, существование которых в условиях абсолютной монархии было затруднительным либо вовсе невозможным. Первые литературные музеи были созданы на рубеже XIX и XX столетий, среди них музеи Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Тютчева, Толстого и других.
Вторая волна создания музеев русских писателей – явление начала советской эпохи, в основном 1920-х годах. Именно в 1921 году был создан Московский государственный музей имени А. П. Чехова, самое почтенное по возрасту подразделение ГМИРЛИ имени В. И. Даля, который в 2021 году отметит свое столетие.
Создание музеев во многом было реализацией так называемого ленинского плана монументальной пропаганды, согласно которому государственная политика была направлена на то, чтобы подчеркнуть особую роль тех деятелей культуры прошлого и настоящего, которые были причастны к «освободительному движению», революциям и т. д. Среди них, разумеется, оказались Радищев, Герцен, Чернышевский и другие. По сути дела, речь шла о переписывании мировой истории, которая обретала особую марксистскую телеологию, исходящую из так называемого материалистического понимания истории. «Революционное» акцентировалось, «консервативное» отодвигалось на задний план.
Наряду с «гражданской», государственной историей переписывалась и история литературы, в том смысле, что литературные репутации разных писателей подвергались марксистской, материалистической коррекции. Так, Толстой стал «зеркалом русской революции», борцом с церковью, а его религиозные искания ушли в тень. В Некрасове акцентировалась роль «народного заступника» и замалчивалась деятельность в качестве литературного коммерсанта, крупного издателя.
Особенно показательна трансформация литературной репутации Максима Горького. Он закрепился в общественном сознании как создатель социалистического реализма, автор романа «Мать», основатель Союза писателей, соратник Ленина и т. д. Его причастность к ницшеанству и богостроительству, его оппонирование Ленину, многолетняя эмиграция, авторство цикла статей «Несвоевременные мысли» – все это почти или полностью не упоминалось.
Следует заметить, что «литературная репутация» – историко-литературный термин, впервые предложенный И. Н. Розановым. Именно на основании динамики литературных репутаций, переосмысления роли разных писателей в общей литературной иерархии той или иной эпохи выстраивается «история литературы» в строгом смысле этого термина. История литературы, подобно истории как таковой, есть составляющая разных языков описания, дискурсов, подлежит анализу с точки зрения процессов складывания разных ее версий. Современная наука (исследования Я. Ассмана и А. Ассман, Р. Лейбова, А. Вдовина) приходит к выводу о существовании различных, часто параллельных алгоритмов формирования историко-литературных представлений.
Эти алгоритмы действуют на основе «канонизации» либо «деканонизации» тех или иных литературных репутаций, что в свою очередь оказывает влияние на конкретные литературные иерархии разных эпох. Среди алгоритмов литературной канонизации можно отметить следующее:
• интерпретационная деятельность литературной критики;
• издательские стратегии;
• приобщение к государственной идеологии;
• включение в школьную программу.
К этому же ряду алгоритмов принадлежит и музеефикация. Создание музея конкретного писателя есть признание его особой роли в развитии литературы. Именно поэтому в советское время были созданы музеи Чернышевского и Добролюбова, Горького и Алексея Толстого. По тем же причинам не могло быть и речи о музеях В. Жуковского или А. Григорьева.
В течение XX века, большая часть которого в истории России пришлась на советский период, особое значение имеет соотношение дискурсов истории как таковой и истории литературы. Первое оказывает непосредственное влияние на второе и наоборот. Именно идея воссоздания музейными средствами истории литературы была положена в основу разных концепций «главного», «центрального» литературного музея страны.
Так, основатель Музея-квартиры Ф. М. Достоевского, ныне входящей в состав ГМИРЛИ имени В. И. Даля, В. С. Нечаева писала:
До последнего времени распространены были музеи, построенные по принципу историко-культурных монографий («жизнь и творчество писателя»). ‹…› Главным недостатком таких музеев является отсутствие руководящей цели, для которой подбирается весь этот пестрый материал, в лучшем случае иллюстрирующий творчество писателя, но никак его не объясняющий. ‹…› Перестройка литературных музеев едва начата, для ее успешного продвижения следует перейти к созданию музея литературы, отражающего ход развития исторического процесса в России[2].
К. В. Виноградова, основатель другого старейшего отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля – Музея А. П. Чехова, отметила, что
…на Государственный Литературный музей возложена задача в сравнительно короткий срок создать в Москве Музей русской литературы, в котором бы нашла свое отражение вся история ее развития, от возникновения до наших дней. «Такого музея еще не было в Советском Союзе, как нет его ни в одной стране мира», – писали газеты. ‹…› В настоящее[3] время музей вплотную приступил к подготовке экспозиции по истории русской литературы с древнейших времен до нашей современности. Однако отсутствие помещения лишает его возможности развернуть эту экспозицию в полном объеме[4].
Из этой же мысли исходил и партийный государственный деятель, соратник Ленина В. Д. Бонч-Бруевич, который в 1933 году основал Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики, через год преобразованный в Государственный литературный музей. В основу концепции флагманского литературного музея была положена магистральная идея воссоздания средствами музейной экспозиции и музейной науки истории развития российской словесности на протяжении нескольких столетий.
Особенную актуальность эта задача приобрела в постсоветское время, когда со всей очевидностью стало ясно, что мы до сих пор не имеем непротиворечивого научного описания истории российской литературы советского времени. Это утверждение может быть проиллюстрировано не только уже упоминавшимся фактом своеобразного переписывания литературной истории, которое имело место в 1920-е годы. Дело в том, что в период так называемой перестройки произошло еще одно переписывание истории, то есть, по сути дела, конструирование новой версии истории отечественной литературы. Если в советское время предпочтительные места в литературной иерархии занимали определенным путем преобразованные литературные репутации Горького и Маяковского, А. Толстого и Шолохова, Фурманова и Фадеева, то во второй половине 1980-х годов им на смену в качестве писателей первого ряда пришли Булгаков и Платонов, Бабель и Зощенко, Пастернак и Мандельштам, а также другие. Связная непротиворечивая русская литература XX века может быть создана только в том случае, если в ней найдется место, условно говоря, роману Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Лолите» Набокова. Воссоздать эту синтетическую и «когерентную» историю литературы можно музейными методами.
Именно в этом русле выстроена работа ГМИРЛИ имени В. И. Даля в последние годы.
Многие научно-выставочные проекты музея носят исследовательский характер, то есть призваны не воссоздать средствами музейной экспозиции заранее известные реалии того или иного периода истории литературы, а вновь создать, сконструировать ту версию истории литературы, которая прежде не существовала. К таким проектам могут быть причислены выставки «Россия читающая» (история феномена чтения в разные эпохи), «Квартирный вопрос» (судьбы русских писателей в 1920–1930-е годы)[5]. В широком смысле слова, музейный ресурс для создания новой версии истории литературы актуален и для конструирования истории как таковой, особенно если речь идет о так называемой оспариваемой истории (contested history), затрагивающей спорные исторические факты, которые вызывают в наши дни различные, иногда диаметрально противоположные трактовки и интерпретации.
Таким образом, в современных условиях литературный музей как культурное и научное учреждение приобретает новые функции, становится не только местом реализации социальных практик – выставочных, образовательных, просветительских, рекреационных, но и площадкой развития исследовательских риторик и концепций, имеющих большое значение для исторической науки.
2
Нечаева В. С. Музеи литературные // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 7 / Под ред. А. В. Луначарского. М.: ОГИЗ РСФСР, Изд. Советская Энциклопедия, 1934. С. 524.
3
Написано в 1961 году. – Д. Б.
4
Виноградова К. М. Вопросы работы музеев литературного профиля / Ред. – сост. Н. П. Лощинин. М., 1961. С. 74–75.
5
Среди героев выставки принципиально присутствуют и литераторы советского официоза (А. В. Луначарский, В. Д. Бонч-Бруевич), и эмигранты (А. Н. Вертинский, А. М. Ремизов и др.), и жертвы режима (О. Э. Мандельштам, М. И. Цветаева и др.).