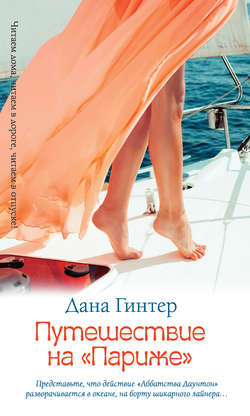Читать книгу Путешествие на «Париже» - Дана Гинтер - Страница 6
День первый
Отправление в путь
15 июня 1921 года
Оглавление– Мне, пожалуй, пора приступать к работе, – негромко проговорила Жюли, но не двинулась с места.
Мать и отец пришли ее проводить, и теперь Жюли, бросив незаметный взгляд на родителей, вдруг подумала, что ее старики, прожив вместе долгую жизнь, после всех перенесенных ими страданий и бесчисленных домашних трапез стали похожи друг на друга. Столь разные в молодости, теперь они выглядели как родственники: одного роста, одного и того же сложения, одинаково сгорбленные, одинаково морщинистые, с одинаково мрачным выражением лиц.
Жюли вздохнула, переложила маленькую дорожную сумку в другую руку и огляделась. «Наверное, все дети Гавра пришли сегодня поглазеть на отправление „Парижа“», подумала она. Жюли с интересом наблюдала, как жадно они впитывают развернувшиеся перед ними сцены, успевая при каждом удобном случае то схватить выпавшую из корзины пекаря булочку, то поднять с земли упавшую из ведерка цветочника розу, то незаметно дотронуться до шелкового платья статной богатой парижанки.
Когда-то с такой же толпой детворы на пирс являлась и Жюли Верне. Почти каждый год в плавание уходил огромный корабль, и местные ребятишки обожали участвовать в сопровождавших это событие празднествах.
Они высматривали в толпе заносчивых, с мундштуками и тросточками, пассажиров первого класса и нещадно их передразнивали. Смеялись над непонятным говором иностранцев, а когда появлялись фотографы, наперебой кривлялись ради того, чтобы их фотографировали. И, конечно, кое-кто из них пытался пробраться на судно, чтобы, спрятавшись там, попытать счастья в Нью-Йорке.
Когда Жюли было одиннадцать-двенадцать лет, она любила носиться по пристани и собирать самые длинные и чистые обрывки серпантина, а потом, точно лентами, подвязывала ими волосы или, обмотав серпантином руки, мастерила из него разноцветные бумажные перчатки.
Первое отплытие корабля Жюли наблюдала, когда ей было лет пять или шесть, и пришла она тогда на пирс вместе со своим самым старшим братом. Жан-Франсуа держал ее за руку, чтобы она не потерялась в толпе, и когда они подошли поближе к корме корабля, он присел рядом с ней на корточки и помог ей прочесть название парохода. «ПРОВАНС». Жан-Франсуа объяснил ей, что Прованс так же, как и Гавр, расположен на берегу моря. Но в Провансе круглый год солнечно и тепло, добавил он, а цветы такие пахучие, что воздух кажется напоенным ароматом духов. Позднее, когда Жюли стала подростком, она снова не раз видела этот корабль и со щемящим чувством вспоминала то давнее отплытие. К тому времени Жан-Франсуа уже погиб на войне. Кто бы мог подумать, что этот огромный океанский лайнер переживет ее старшего брата?
– Мама, папа, мне пора идти. – Жюли подняла взгляд на двух старичков в черном. – Еще надо переодеться в форму…
Отчий дом Жюли покидала впервые. Она получила работу во Французской пароходной компании и теперь отправлялась в свое первое морское путешествие.
– Конечно, – кивнула мать. – Нельзя опаздывать.
Не говоря больше ни слова, родители и Жюли обменялись поцелуями – такими невесомыми, что они почти не коснулись друг друга, точно все трое были не людьми, а призраками. Повесив дорожную сумку на плечо, Жюли углубилась в толпу у трапа пассажиров третьего класса. Пробираясь сквозь строй людей, она в задумчивости наклонилась, подхватила длинный обрывок зеленого серпантина и, быстро накрутив его на руку, к своему удовольствию заметила, что кое-кто из членов команды все еще стоит на пирсе. Проталкиваясь между пассажирами и местными жителями, она на миг замерла, ослепленная фотовспышкой, – но ведь не ее же снимают?
Возле корабля она заметила стайку соседских мальчишек – из ее квартала Святого Франциска. Подобно канатоходцам, они бесстрашно балансировали на толстых канатах, протянутых с парохода на пристань, и подначивали друг друга сосчитать бесчисленные корабельные иллюминаторы. При этом, указывая то на один, то на другой, каждый хвастался, что именно этот иллюминатор сваривал его отец. Их взгляды мгновенно обратились к Жюли.
– Au revoir, Жюли! – Раскачиваясь на тугих канатах, кричали они и махали ей на прощание. – Bonne chance![3]
Теперь, вдалеке от родителей, она позволила себе улыбнуться.
– Au revoir, mes enfants![4] И вам тоже удачи! – подойдя к трапу, воскликнула она в ответ.
Поднимаясь по ступеням, Жюли почувствовала, что на душе у нее все легче и легче. Бесцветное домашнее существование и безрадостный мир Гавра теперь позади, – начинается новая жизнь. В ней не будет места безмолвию, не будет места пустоте. И бившиеся о корму волны рукоплескали ее прибытию.
Поднявшись на борт, Жюли выбралась на палубу третьего класса. Она легко протиснулась сквозь толпу, сгрудившуюся вокруг швартового устройства и грузовых люков. Затем прошла на боковую палубу и прислонилась к узкому отрезку перил, который никто еще не успел занять. Взглядом отыскав родителей – выбравшись из толпы, они отошли от корабля подальше, – Жюли принялась нервно накручивать на руку серпантин: с той минуты, как месяц назад ей предложили эту работу, на нее то накатывала радость, то одолевали сомнения.
Она не сводила взгляда с родителей и все думала: неужели после ее отъезда они больше не скажут друг другу ни слова?
* * *
На пирсе смешались крики и смех, ржание лошадей и лязг подков, всплески аккордеона и скрипки. Констанция Стоун, оглушенная какофонией звуков, прохладно пожала руку сестре и кивком попрощалась с ее французским другом Мишелем.
– Что ж, прощай, – пробормотала Констанция и сделала шаг в сторону парохода.
Но не в силах сдержаться, она тут же обернулась к сестре.
– Ты ведь знаешь, Фэйт, тебе надо ехать со мной! – совершила она последнюю попытку. – Если бы у тебя было хоть какое-то сознание долга, хоть какое-то чувство ответственности перед семьей…
– А не ты ли годами долбила мне, что я лишена каких-либо представлений о нравственности, – с лукавой усмешкой прервала ее Фэйт. – Что ж, ты, наверное, была права.
Они замерли лицом к лицу. Констанция и ее младшая сестра. Фэйт – даже в двадцать три года она все еще отличалась ребячеством – стояла перед ней и улыбалась; облаченная в свободного покроя блузку, юбку и шарф, поверх которых спускалось длинное ожерелье, на голове у нее красовался расшитый бисером тюрбан – на вкус Констанции ни дать ни взять цирковая артистка. Она стояла, прижавшись к любовнику. Мишель был лет на восемь ее старше, в темной рабочей одежде и ботинках, заляпанных краской всех цветов радуги.
– О да! – вздохнула Констанция и снова отвернулась от Фэйт. Беспутная, безнадежная…
– Хорошего путешествия! – явно ничего не поняв из разговора сестер, с милой улыбкой воскликнул Мишель.
– Прощайте, – бросила обоим Констанция и на этот раз без колебаний зашагала прочь.
Вблизи парохода она облегченно вздохнула. Как долго они ехали поездом из Парижа! Но за это время она перекинулась не более чем двумя словами с сестрой – не говоря о Мишеле. После напряженных последних дней славно было побыть в одиночестве, отдохнуть от колких и злых ответов, враждебности и молчания.
Фэйт отказалась вернуться домой, превратив поездку Констанции в пустую трату времени. Констанции вспомнилось начало этого путешествия, вокзал в Вустере – на платформе плачут ее дочери, взгляд Джорджа исполнен недовольства и укоризны.
Она поступила наперекор мужу, и что из этого вышло? Фэйт ни в какую не хотела расставаться со своей новой жизнью в Париже. И теперь уже было не важно, помог бы ее приезд матери или нет…
Идя к кораблю, Констанция заметила впереди себя репортеров. Их было несколько. Вытянув шеи, они выискивали вокруг занятные сюжеты. Фотографы тут и там щелкали фотоаппаратами. А неподалеку Констанция приметила кинооператора – он снимал отплытие корабля для киножурнала новостей; и на случай если она попадет в кадр, Констанция поправила шейный платок, пригладила ладонями юбку и, глубоко вздохнув, стерла с лица последние следы раздражения.
На ней был костюм, несколько недель назад купленный для поездки в Европу. Едва примерив его, она почувствовала себя такой элегантной. Длинная черная юбка, белая шелковая блузка, красный с большим узлом шелковый галстук, образ завершала пышная серая шляпа. Но стоило Джорджу – к тому времени он хоть и смирился с ее поездкой, но все же злился – увидеть жену в этом наряде, он тут же начал ее дразнить.
– Дорогуша! – не преминул воскликнуть он. – Какая же ты предусмотрительная! Ты же будешь одета под стать кораблю! Подумать только, какое сочетание! Черный цвет и белый, да еще красный – под цвет пароходной трубы, а наверху серый дымок!
Констанция, пораженная издевательским тоном и несвойственным ее супругу взлетом воображения, немедленно готова была пойти купить другой наряд, но времени на это не оставалось. И вот теперь, шагая к лайнеру, она надеялась, что подобное сравнение никому не придет в голову, а главное, не придет в голову репортерам. Она мгновенно представила себе газетный заголовок: «Пропала провинциалка, одетая под стать лайнеру!»
Из толпы выскочил светловолосый фотограф и, приземлившись прямо перед ней, с извиняющейся улыбкой щелкнул вспышкой.
К счастью – спасибо судьбе за маленькие подарки, – фоном для фотографии оказался не лайнер, а толпа. Оглянувшись, Констанция заметила, что эта неожиданная вспышка испугала двух женщин поблизости: одна, маленького роста, молодая, с ярко-медными волосами, приостановилась в нескольких шагах впереди нее, а вторая, пожилая и невероятно худая, в длинном облегающем сливового цвета пальто, остановилась сбоку. Обе женщины, ослепленные вспышкой, на мгновение замерли – и вновь продолжили путь по направлению к кораблю. Интересно, куда может попасть это фото? И надо же, обе женщины, как и она, отправляются в путь в одиночестве…
Но толпа вдруг активно зашевелилась, и дамы пропали из виду, не дав Констанции развернуться в предположениях. Мимо нее вдруг ринулись все подряд: офицеры в элегантной форме, бармены, посыльные… Она слышала, что на пароходе «Париж» не меньше тысячи членов экипажа, а пассажиров – начиная с «цилиндров и моноклей» в благоустроенных каютах первого класса наверху и кончая обездоленными эмигрантами в самом низу – вдвое больше.
Перед тем как взойти на корабль, Констанция приостановилась разглядеть его. Корпус лайнера тянулся вдоль всего пирса, а над верхней палубой возвышались три ярко-красные трубы – по сравнению с ним все прочие суда в гавани казались карликовыми. По длине «Париж» не уступает высоте Эйфелевой башни, но вид у лайнера куда более мощный и основательный. Наверное, следует считать, что ей повезло участвовать в первом путешествии этой гигантской морской посудины, плывущей из Гавра в Саутгемптон и далее в Нью-Йорк. Однако настроение у нее было отнюдь не праздничное.
И тут в общей неразберихе кто-то толкнул ее. Задевший ее мужчина повернулся, видимо, желая сказать что-то нелестное и выбранить за остановку в таком неподходящем месте, но как только увидел ее – а она была, несомненно, хороша сейчас, переполненная эмоциями, – выражение его лица сразу переменилось.
– Простите, мадемуазель, – бросив на нее плотоядный взгляд и прижавшись посильнее, произнес он.
Констанция, которая не раз ловила на себе подобного рода взгляды, холодно кивнула в ответ и, присоединившись к другим пассажирам второго класса, зашагала в сторону трапа. Она двигалась, зажатая в толпе незнакомцев, без всякого удовольствия ощущая прикосновение их одежды, их рук, ног и их дыхание, пока наконец не поднялась на палубу и не подошла к перилам напротив своей каюты.
С палубы, не умолкая, неслись возгласы восторга и восхищения: кричали возвращавшиеся домой американцы, туристы, молодые пары, отправившиеся в свое первое путешествие, и состоятельные еврейские эмигранты, навсегда покидавшие Европу; все бросали разноцветный серпантин и махали шляпами. Констанция устремила взгляд на пирс и мгновенно обнаружила в толпе Фэйт и Мишеля. Да и как их можно было не заметить?
Подобно всем провожающим, они теперь ободряюще ей улыбались (ну не нахальство ли?) и, нежно обнимая друг друга, весело махали руками. Констанция несмело махнула в ответ, но ей почти сразу же расхотелось смотреть на них. Все эти две недели своего душеспасительного визита она чувствовала себя пятым колесом в телеге, будучи неизменной свидетельницей их неуемных нежностей.
В присутствии Фэйт и Мишеля она без конца сравнивала их беспечное счастье со своими отношениями с Джорджем. Не могла не сравнивать! И хотя Констанция не понимала их бесед на французском, она завидовала тому, с каким восхищением Мишель смотрел на ее сестру, завидовала сквозившей в их голосах страсти. Ей было отлично известно, что Фэйт считает ее отношения с Джорджем скучными, во многом формальными, то есть такими, каких быть не должно.
Устав созерцать их довольные лица – Фэйт то и дело прижималась к Мишелю и без конца ему улыбалась, – Констанция покинула веселящуюся толпу и удалилась к себе в каюту. И хотя ей было не по себе оттого, что она возвращалась домой ни с чем, она с радостью покидала Францию. Войдя в каюту, она сняла пышную серую шляпу – и грусть сковала ее. Да, более эгоистичного человека, чем ее сестра Фэйт, свет не видывал.
* * *
Вера отпустила руку Чарлза – пора было идти на корабль.
– Что же я буду без тебя делать? – печально спросила она.
– Может, мне спрятаться в твоем гигантском сундуке? – улыбнулся он.
Понимая, что времени для встреч у них остается совсем немного, в эти последние недели Чарлз виделся с Верой гораздо чаще обычного, хотя его и тяготило то, что ее здоровье с каждым днем ухудшалось.
– В этот сундук можно упрятать слона. Громада в громаде!
Вера улыбнулась.
– Как же мне будет тебя не хватать, – тяжело вздохнула она.
– Вера, мы же не навсегда прощаемся! Мы еще увидимся.
– Конечно, – кивнула она.
Чарлз наклонился поцеловать ее, они обнялись и застыли на миг в объятии. Прижавшись к Чарлзу, Вера, к своему удивлению, почувствовала, как по его щеке скатилась слеза. Она смахнула ее и с улыбкой заглянула во влажные от слез глаза друга.
– Можешь считать меня сентиментальным, – пожав плечами, прошептал он, – но мне, моя радость, тоже будет тебя не хватать.
Чарлз отошел на шаг попрощаться с Амандиной, а потом погладил по голове Верину собаку.
– До свидания, – улыбнувшись, сказал он. – Au revoir!
Шагая к огромному кораблю, Вера все еще ощущала теплоту прикосновения Чарлза, и она дотронулась до щеки проверить, можно ли это тепло почувствовать рукой и на какое-то время его сохранить, но вместо тепла ощутила лишь прохладу стареющей кожи. И хотя ей все еще хотелось, чтобы Чарлз окликнул ее и умолял не уезжать, она понимала, что каждый из них уже сделал свой выбор.
Вера, чтобы улыбнуться другу и помахать ему рукой, еще раз обернулась – и зашагала по пристани, черная собака впереди, Амандина позади. Пока их маленькая процессия лавировала между лошадьми с повозками, автомобилями, ящиками и сундуками, Вера невольно разглядывала окружающих. Семьи, члены экипажа, эмигранты и группы туристов так же, как и они, извиваясь подобно водорослям или морским угрям, выискивали любую лазейку, чтобы пробраться к лайнеру, словно их несло к нему мощным морским течением. И еще, к своему неудовольствию, Вера заметила, что сегодня в порту, где обычно пахло соленой свежестью, доминировал едкий запах человеческого тела.
Вера едва держалась на ногах. Наконец, дойдя до «Парижа» – огромного парохода, который отвезет ее домой на Манхэттен, – она, прежде чем взойти на трап, тяжело оперлась на трость и приостановилась. Вокруг нее царил полный хаос: люди кричали и толкались, глаза жгло ослепительное солнце. Или это была фотовспышка? Она несколько раз сморгнула и увидела перед собой светловолосого фотографа. Он указал ей на камеру и смущенно улыбнулся.
– Это для судовой газеты, – по-французски сказал он. – Если в завтрашней газете прочтете статью об отправлении нашего лайнера, найдете в ней себя!
Вера вежливо ему кивнула. В этот период жизни ей меньше всего хотелось увидеть свою фотографию в газете. Она принялась наблюдать, как фотограф двинулся дальше, вспугивая вспышкой других пассажиров. Все еще задыхаясь, она прислушалась к раздававшимся вокруг нее голосам: восторженным возгласам и восхвалениям морского лайнера.
– Comme c’est beau!
– C’est le transatlantique le plus grand de la France!
– Le salle de machines est magnifique![5]
Равнодушная к величию корабля, Вера с грустью подумала лишь о том, что будет скучать по французскому языку. Она почти полжизни провела в Париже и теперь вдруг осознала, что этот прекрасный, любимый ею язык, в котором она все эти годы старательно совершенствовалась, больше ей не понадобится. Все оставшиеся ей дни ее будут окружать только те, кто говорит по-английски.
Вскоре она добралась до входа на палубу первого класса, переступив порог которого почувствовала себя в современном дворце. Она вошла в помещение первого класса, не обращая внимания ни на роскошные деревянные панели, ни на плюшевые ковры, ни на громадные букеты экзотических цветов, ни на ласковые улыбки обслуживающего персонала. Она прошла мимо грандиозной лестницы и на лифте поднялась на верхний этаж, туда, где была ее каюта. Выйдя на палубу, она передала поводок Амандине, а сама подошла к перилам, чтобы в последний раз на прощание помахать Чарлзу. Теперь, когда почти все пассажиры уже поднялись на борт, толпа на пирсе в основном состояла из друзей отъезжающих и поклонников морских лайнеров; через минуту-другую она отыскала Чарлза и помахала ему рукой.
Крепко держась за перила, Вера не сводила глаз со своего старого друга, который, точно с другого конца света, отвечал ей таким же пронзительным взглядом. Чарлз, пожилой мужчина годом или двумя старше нее – теперь он мог рядом с ней показаться гораздо моложе, – был прекрасно одет, и вид у него был весьма величавый. С печальной улыбкой разглядывая друга, Вера отметила про себя, что, несмотря на то что он прожил на континенте немало лет, угадать его происхождение было вовсе не трудно. Чем это объяснялось? Формой челюсти и прямой осанкой? Или густыми седыми волосами? Неужели по этим признакам можно определить британца?
Разглядывая его привлекательную фигуру – одна рука в кармане, другая небрежно опиралась на трость, – Вера едва могла поверить, что никогда больше его не увидит.
Компания рядом с ней вдруг разразилась смехом – они только что открыли бутылку шампанского и теперь отряхивались от брызг. Один из мужчин поднес бутылку ко рту, поймать рвущиеся из горлышка пузыри, и ко всеобщему развлечению облил свою экзотическую дорожную накидку.
Вере больше не хотелось стоять на палубе, но, прежде чем покинуть ее, она на прощание помахала Чарлзу, а он прощальным жестом поднял шляпу, послал ей воздушный поцелуй и не спеша двинулся в сторону вокзала, чтобы сесть на поезд и вернуться в Париж. Вера проводила его взглядом и бросила последний прощальный взгляд на Францию (хотя, конечно, этот портовый город не был ее Францией). Еще одно скорбное расставание. Зайдя в каюту, она легла на кровать – ей никогда не нравилось натужное веселье, а это празднование отплытия огромного океанского лайнера было истинным воплощением подобного рода глупости.
* * *
Жюли стояла у перил на палубе третьего класса и махала рукой родителям. Она разглядела их в самом дальнем конце пирса. В траурных одеждах они казались такими маленькими, что походили на пару черных дроздов, примостившихся на краю поля. Мать, похоже, махала ей в ответ. А может быть, это только казалось.
Она легонько провела пальцами по перилам. Всю жизнь прямо из кухонных окон их дома она видела, как эти поразительные лайнеры выходили из порта и входили в порт. На ее глазах они проживали свой недолгий век: праздничное отправление в первое путешествие, активную юность и малопривлекательные зрелые годы. А потом, всего через пять-восемь лет после спуска на воду, иногда тяжко пострадавшие от пожара или несчастного случая, они уходили на покой. Однако на корабле Жюли путешествовала впервые.
Семья ее жила в маленьком рабочем районе посреди портовых причалов в окруженном каналами домике. Островок в порту, да и только. Она выросла среди воды. Среди воды и кораблей. Но до сегодняшнего дня самое большое судно, на каком ей удалось побывать, была отцовская рыбацкая лодка, такая куцая, что в ней не помещались все его сыновья. А этот корабль «Париж» размером был больше ее жилого квартала Святого Франциска.
Жюли бросила на родителей мимолетный взгляд и отвернулась. Мать и отец пришли проводить своего единственного пережившего войну ребенка – дочь, которая покидала родительский дом, и Жюли невыносимо было видеть их усталые, мрачные лица. Ей пора было спускаться вниз и готовиться к работе, но она никак не могла решиться уйти с палубы, исчезнуть и оставить отца и мать в полном одиночестве. Кроме того, Жюли хотелось увидеть с палубы, как этот грандиозный лайнер величественно выйдет из порта и покинет Гавр.
Несколько матросов и корабельных рабочих все еще веселились на палубе; они кричали и размахивали руками, указывая в сторону столпившейся на пирсе публики. В эту минуту к перилам подошли два моряка – парни, настолько похожие друг на друга, что, хотя один из них был почти на голову выше другого, их легко можно было принять за братьев. Встав возле Жюли, они принялись изо всех сил махать белокурой девушке с маленькой собачкой в руках. Она улыбнулась им в ответ и помахала собачьей лапой. Парень пониже закатил глаза, а потом устремил взгляд вдоль гладкого корпуса парохода вниз к самой воде.
– Ни разу не был так далеко от земли, – заметил он приятелю.
– Ты хочешь сказать, так далеко от воды! – воскликнул приятель и тоже устремил взгляд вниз к воде.
Жюли, вытянув шею, сделала то же самое, и ее взгляд скользнул вдоль борта корабля до самой морской глади, и та действительно показалась ей поразительно далекой. Она размотала с пальцев серпантин, выпустила его из рук и, пока он не коснулся темной воды, с замиранием сердца следила за его падением, потом подняла голову и снова бросила взгляд на родителей. Они терпеливо ждали отплытия парохода – им это было далеко не впервой. Жюли грустно вздохнула и покачала головой – разве она могла заменить им сыновей?
– Эй, слушай, – все еще свешиваясь через перила и разглядывая море с высоты, заговорил низкорослый. – А ты когда-нибудь спрашивал себя, откуда во время прилива берется лишняя вода?
– М-да, это загадка, – с насмешливой серьезностью отозвался второй матрос. – Вроде того, откуда что берется, когда разбухает твой петушок?
Низкорослый изумленно задрал голову, его длинный приятель, хлопнув его по спине, расхохотался, а Жюли, чтобы парни не заметили ее улыбки, поспешно отвернулась. Матросы! Интересно, солдаты в окопах тоже отпускают такого рода шутки и так же хохочут над ними?
Внезапно у пассажира, стоявшего на носу корабля, ветром сдуло с головы небрежно надетую соломенную шляпу. Когда та пролетела мимо Жюли, она с легкостью поймала ее, и стоявшие рядом матросы, мгновенно оборвав смех, уставились на нее с таким видом, будто она спустилась с небес.
Жюли была настолько миниатюрна, что люди обычно не замечали ее, но если они все-таки обращали на нее внимание, то уже не могли отвести от нее взгляда. Ее необыкновенные медно-рыжие волосы блестели на солнце. Ее тонкая бледная, с едва заметными розовыми и голубыми прожилками кожа казалась почти прозрачной и напоминала поверхность жемчужины. Брат Жюли Лоик, бывало, говорил, что его сестра похожа на неземное существо, вроде ангела или нимфы, и еще она напоминает ему только что ожившую статую Пигмалиона. Но Жюли прекрасно знала, что на самом деле посторонние не сводили глаз с огромной родинки, которая, примостившись у нее под носом, четко обозначала ложбинку над верхней губой.
Вот и сейчас матросы вмиг разглядели ее родинку, но тут же, не успев скрыть отвращения, смущенно отвели взгляды. Сколько ей помнилось, вот так на нее всегда и смотрели все, и она уже к этому привыкла.
– Здорово вы ее поймали, – наконец вырвалось у низкорослого.
Жюли повертела шляпой в руках и пожала плечами.
– Я выросла с четырьмя братьями, – объяснила она.
Владелец шляпы подошел к ней и, словно шляпа, пролетев по воздуху, успела испачкаться, принялся ее отряхивать.
– Премного вам благодарен! – воскликнул он.
Мужчина сказал это по-французски, но его глубокий голос прозвучал с незнакомым акцентом.
Он взял протянутую ему шляпу, поклонился и посмотрел Жюли прямо в лицо, и она заметила, что его взгляд не устремился к родинке, – он, судя по всему, еще не успел ее обнаружить.
– Я купил эту шляпу только сегодня утром. Довольно нелепая покупка для судового механика. – Незнакомец улыбнулся и протянул ей руку: – Меня зовут Николай Грумов.
Этот рослый, крупный мужчина напомнил Жюли виденных ею во время войны здоровенных американских солдат, которые, казалось, все как один были взращены на ферме, где их кормили исключительно мясом и молоком. Хотя незнакомец, похоже, был всего на несколько лет старше ее (лет двадцати четырех, не больше), его взъерошенные каштановые волосы явно начали редеть. А на загорелом лице были видны едва заметные следы оспы. В его облике сквозила надежность, и Жюли это сразу понравилось. Она с улыбкой пожала его большую теплую руку.
– Жюли Верне. Рада с вами познакомиться, – слегка запинаясь, проговорила она. – Я тоже работаю на этом корабле.
– Наверное, в обслуживающем персонале. У нас в машинном отделении хорошеньких девушек нет, – улыбнувшись, сказал Николай.
Жюли, непривычная к вниманию мужчин, покраснела и потупилась. И тут вдруг взревел гудок – первое предупреждение о скорой отправке корабля.
– А вот и напоминание, что мне пора приступать к своим обязанностям! – объявила Жюли.
Она подняла с палубы сумку и, отходя от перил, оглянулась.
– Может быть, мы еще случайно встретимся, – робко предположила она.
– Я очень на это рассчитываю! – Николай подмигнул ей и приподнял шляпу.
Проходя мимо своего нового знакомого, Жюли почувствовала, что он не сводит с нее глаз. Она приостановилась и улыбнулась. Возможно, с этой поездки у нее действительно начнется новая жизнь. И тут до нее дошло, что она забыла напоследок помахать родителям. Жюли глубоко вздохнула – теперь этого не поправить; ее новый знакомый все еще стоит на палубе, и было глупо снова туда возвращаться, но, как только у нее появится свободная минута, она обязательно им напишет. Повесив сумку на плечо, Жюли зашагала в сторону женского спального отделения для прислуги.
Хотя лайнер был огромен, она отлично знала, куда ей надо идти, и двинулась в сторону нижней палубы. Во время подготовительных занятий Жюли почти наизусть выучила план парохода. Правда, кроме этого, она практически не узнала ничего нового, так как на корабле женщинам предстояло делать то же самое, что они делали на суше: стирать белье, делать уборку, присматривать за детьми или работать в магазинах и салонах красоты. А уроки английского языка, обязательные для тех, кого нанимали во Французскую пароходную компанию, не были так уж трудны для жителей Гавра, поскольку во время войны они на каждом шагу сталкивались с солдатами союзных войск.
Жюли спускалась по одной лестнице за другой; воздух вокруг становился все теплее и теплее, а шум моторов все громче и громче, пока наконец она не оказалась возле носовых отсеков корабля. В этой наиболее подверженной качке части лайнера разместилось оборудование, хранились грузы, и там же предстояло жить нанятым на пароход работницам.
Она заглянула в женскую общую спальню, и перед ней предстала комната с низкими потолками, заставленная прикрепленными к клетчатому полу шкафчиками, скамейками и двухъярусными кроватями. Рядом со спальней располагалась столовая. В ней над длинными столами и скамейками с покатого потолка свисали тусклые лампочки. И в этом тоскливом месте работницам предстояло проводить свой досуг: есть, рукодельничать и играть в карты.
Пока Жюли шла к своей кровати, несколько женщин приподнялись с мест, чтобы с ней поздороваться, но из-за монотонного шума моторов их приветствий почти не было слышно. Однако большинство работниц, чтобы вовремя успеть на свои посты, торопливо примеряли фартуки и шапочки.
Жюли приветливо им улыбалась и пыталась угадать, на какую работу наняли каждую. Хорошенькие девушки с модными прическами и нежными руками, несомненно, будут на работах полегче и на виду у публики: они будут продавать табачные изделия и цветы; другие – тоже привлекательной наружности, но попроще, – очевидно, парикмахерши и маникюрши, а может быть, наняты на роль служанок для пассажиров второго класса, которые отправились в путешествие без прислуги. Большие, крепкие женщины, скорее всего, были прачками, и их обветренные лица, казалось, тоже не грех было вымочить.
Жюли не рвалась прислуживать рафинированной публике, но считала ниже своего достоинства стирать белье, и потому ее назначили обслуживать пассажиров третьего класса. Что ж, работа как работа. В любом случае она будет с этими людьми по соседству, и ей не придется целый день носиться по всему кораблю.
Радуясь тому, что ей достался «нижний этаж», Жюли села на кровать и открыла сумку. Она достала из нее кружевную, с затейливым узором салфетку – в центр которой была изящно вплетена буква «В», – положила ее на подушку и нежно расправила рукой. Эту салфетку сплела ее мать, кружевница, еще в те времена, когда Жюли была ребенком. Перед ее глазами до сих пор стоял образ совсем другой матери: сидя перед окном, молодая женщина плетет кружева, и в руках ее то и дело постукивают костяные коклюшки, а она то провязывает цепочку из воздушных петель, то соединяет нити и петли в узор. Но всему этому положил конец скрутивший ее артрит. Почти все изделия – воротнички, манжеты, кружевные чепчики – шли на продажу. Так, конечно, и было задумано. Хотя матери приходилось продавать свои изделия богатым жителям Гавра, кое-какие свои творения она припасла для детей. Эта салфетка, например, предназначалась будущей невесте старшего сына.
А потом грянула Первая мировая война.
Мадам Верне потеряла на войне четырех сыновей. Каждый год она теряла сына – одного за другим, в порядке старшинства. Самый старший, Жан-Франсуа, погиб в Лотарингии в первую же неделю войны. Эмиль пал в битве при Ипре, а за ним Дидье в бою при Вердене. Лоика убили в 1918 году перед самым перемирием. Войну их страна выиграла, но семья Верне потерпела поражение. И поскольку о невесте Жана-Франсуа речи больше не было, эту кружевную салфетку без каких-либо торжественных церемоний мать отдала младшему ребенку – дочери.
«Что ж, раз уж ты покидаешь наш дом, возьми ее на прощание», – тяжко вздохнув, сказала мадам Верне и протянула Жюли сложенную вчетверо салфетку.
Жюли сложила в шкафчик остальные пожитки: туалетные принадлежности, нижнее белье, книгу с заложенными в нее письмами, достала из сумки новенькую, с иголочки, черную форму – до того отутюженную, что от нее, казалось, пахло паленым. Жюли вдруг снова вспомнила о родителях. Вспомнила, как они, тоже в черном, стояли на пирсе, не произнося ни слова и не касаясь друг друга. Так у них повелось с того дня, как они узнали о своем последнем жертвоприношении войне – гибели Лоика.
– Мадемуазель Верне?
Жюли подняла глаза и увидела перед собой нахмуренное морщинистое лицо худощавой женщины лет пятидесяти. Та перевела взгляд с Жюли на свой блокнот и обратно. В спальной комнате они теперь были одни – все ушли на свои посты.
– Да, это я. – Жюли смущенно улыбнулась, а женщина еще больше нахмурилась и приняла строгий вид.
– Надо отвечать: «Да, мадам». Я твоя начальница, – выпрямляя спину, проговорила она. – Мадам Трембле. Глава хозяйственного отделения.
– Извините, мадам.
– Почему вы все еще тут?! – Мадам Трембле нетерпеливо топнула ногой. – Шевелитесь! Немедленно надевайте форму! Вам давно положено быть в общей комнате третьего класса!
– Разумеется, мадам, – поспешно вставила Жюли, и мадам Трембле исчезла за дверью.
Недовольная тем, что произвела дурное впечатление на начальницу, Жюли принялась торопливо застегивать пуговицы и прилаживать белую накрахмаленную шапочку, но не прошло и минуты, как в спальню снова ворвалась мадам Трембле.
– Достаньте из кладовки половую тряпку. На полу в коридоре рвота, – указав острым подбородком направо, потребовала она.
– Хорошо, мадам, – слегка нахмурившись, ответила Жюли.
Ее наняли работать в столовой третьего класса, и она не предполагала, что в ее обязанности входит вытирать рвоту.
– Корабль еще не отправился в путь, а кого-то уже вырвало! – возмущенно воскликнула начальница и снова исчезла.
Жюли принялась завязывать фартук, раздумывая о том, что она того, кого стошнило, ничуть не осуждает. В третьем классе от воздуха исходил дурной, тяжелый запах, будто его пропитало дыхание больных простудой и людей с гнилыми зубами.
Неожиданно с палубы послышались приглушенные возгласы. «Париж» отходил от причала и покидал гавань. Жюли вдруг пошатнулась – точно кто-то ее дернул и потащил за собой – каким громадным ни был этот лайнер, она, находясь на носу, над моторами, явственно ощутила его резкое движение. И хотя Жюли не один год прожила на воде, таких рывков она, пожалуй, никогда не испытывала. Чтобы не упасть, она поспешно ухватилась за металлический столб. Ее вдруг обдало жаром, и она почувствовала, что задыхается.
* * *
Вера лежала в каюте на постели, закрыв глаза и почти не шевелясь, в ногах у нее дремала собака. Она старалась не обращать внимания на доносившийся с палубы шум, но неожиданно он достиг безумного предела: загрохотали фейерверки, послышались взрывы смеха и повторяемые с маниакальным упорством восторженные крики: «Bon voyage! Vive la France! Vive L’Amérique!»[6]
Вера понимала, что все это означает, и попыталась прочувствовать это едва уловимое движение – выход корабля из порта. Ей казалось, что она способна его распознать, как в свое время на Крите распознала малейшие колебания начинавшегося землетрясения. Но вот наконец возбужденная толпа в поисках новых приключений начала постепенно покидать палубу, и Вера облегченно вздохнула.
Она уже в десятый раз пересекала океан, в десятый раз пересекала Атлантику. Вера приподнялась на локте и принялась разглядывать каюту – свое пристанище на ближайшие пять дней. Она с удивлением заметила на столе телефон и грустно вздохнула. Эта каюта была куда как далека от той изумительной каюты, в которой она в прошлый раз восемь лет назад пересекала океан на пароходе «Франция». Построенная по образу и подобию Версальского дворца, величественная «Франция» с ее позолоченными каминами, изумительными зеркалами и изящными резными комодами была истинным произведением искусства. Этот же корабль был намного современнее – прямые линии и незамысловатые формы его дизайна Вере отнюдь не казались элегантными. Еще один признак новых времен. А может быть, признак ее старения.
Вера наклонилась к спящей собаке и почесала ей шею под подбородком. Обе они прошли сходную эволюцию и сходный процесс старения: страстные в молодости, надменные и вспыльчивые в среднем возрасте, теперь обе они без конца вздыхали и то и дело впадали в дрему. Поначалу черному шотландскому терьеру дали кличку Бэт Нуар[7]. Но Чарлз счел, что для такой маленькой собачки подобная кличка слишком претенциозная, и переименовал ее в Биби.
Она снова вернулась мыслями к Чарлзу. Как она обрадовалась, когда он настоял на том, чтобы поехать вместе с ней на поезде в Гавр и проводить ее! Она столько лет прожила в Париже – если точно, тридцать один год, – завязала массу знакомств, вращалась в самых разных кругах, и у нее было множество верных поклонников. Но не хватать ей будет только одного из них – Чарлза.
С Чарлзом Вера познакомилась сразу по приезде в Париж. Ее двоюродная сестра – она была замужем за англичанином – дала Вере к нему рекомендательное письмо, и он сразу же пригласил ее на чай. Они оба тогда были хороши собой, оба модно одевались, и им обоим было чуть больше тридцати. Они были свободны от брачных уз, независимы и оба искрились радостью и любовью к жизни. В тот первый вечер их знакомства после чая они отправились поужинать в ресторан, а оттуда в кабаре выпить шампанского и потанцевать. И в первую же встречу они откровенно поведали друг другу о своей жизни! Вера рассказала Чарлзу о своих равнодушных родителях и неудачном супружестве, а Чарлз рассказал ей о своей аристократической, но эмоционально ущербной семье. Под утро он привез Веру домой и на прощание прошептал: «Дорогая Вера, наверное, мое чувство можно назвать любовью с первого взгляда. Ах, ну почему вы не мужчина!» И оба расхохотались – до коликов в животе.
Не один десяток лет высшее общество Парижа считало их парой – по крайней мере их вместе приглашали на званые обеды; приглашали часто, и они всегда были желанными гостями. Во время войны они даже поселились вместе, – Чарлзу тогда уже поздно было служить в британской армии, и он служил Вере. Он находил ей на черном рынке мясо и кофе, приносил дрова для камина, нежно обнимал во время воздушных налетов на Париж и непрестанно веселил своими непредсказуемыми язвительными шутками.
Как бы ни складывались ее отношения с мужчинами – с равнодушным отцом, мимолетным мужем и примерно с дюжиной любовников, – сердце Веры принадлежало исключительно Чарлзу, несмотря на то, что женщины его вовсе не привлекали. Но любовь Веры не была безответной – она была взаимной и глубокой. У Чарлза, как и у Веры, были любовники. Порой ее друг исчезал и не появлялся неделями, однако в конце концов возвращался с дьявольской улыбкой, а иногда – и это зависело от его партнера – и с трофеем: бутылкой старого бордо, ящиком гранатов или привезенными из Брюгге домашними шоколадными трюфелями. В отличие от Веры, которой нравилось обсуждать с Чарлзом достоинства и недостатки своих любовников, Чарлз о своих тайных партнерах не заводил речи. Правда, оба знали, что эти любовники – явление временное, тогда как их отношения были крепкими и долговечными. Вера вспомнила мимолетный поцелуй Чарлза на пирсе и прикусила губу. Как она будет жить без него в Нью-Йорке?
Оглянувшись, Вера заметила, что ее багаж уже внесли в каюту и аккуратно сложили в углу. Из шести сундуков соорудили пирамиду, вершину которой венчал саквояж. К этим старым сундукам – им теперь было лет двадцать пять, не меньше – Вера испытывала сентиментальную нежность и ни за что не хотела сменить их на новые. Ее молоденькая секретарша Сильвия не видела в них ничего привлекательного и при каждом удобном случае уговаривала Веру купить новые, но Вера на ее уговоры так и не поддалась. На бежевых с коричневой окантовкой боках сундуков красовались бесчисленные оставшиеся от прошлых путешествий наклейки: названия средиземноморских и скандинавских портовых городов, а также городов маршрута Французской пароходной компании: «Нью-Йорк – Гавр». Почти все наклейки выцвели и потерлись. Даже самые новые из них были двухлетней давности.
В прежние времена эти сундуки предназначались исключительно для нарядов, которые она – как и многие другие пассажиры первого класса – в морском путешествии меняла по пять раз на дню. Бывало, к завтраку, обеду и ужину, на танцы и игры Вера выходила всякий раз в чем-то новом, но теперь она не собиралась терять время на смену туалетов – в этих огромных сундуках она перевозила вещи из своего парижского дома в Нью-Йорк. Она решила не отправлять вещи по почте, а ограничиться только теми, что поместятся в эти видавшие виды сундуки. В последние годы, особенно после войны, Вера поняла, что в жизни вещи – почти все вещи, – не играют существенной роли.
Полусонная Амандина заерзала в кресле, а затем, не открывая глаз, облизала сухие губы. «Какая же мы жалкая троица, – прислушавшись к похрапыванию Биби, подумала Вера. – Три старушки, вялые и неповоротливые. Дряхлые медведицы в нескончаемой спячке».
– Амандина, – тихо позвала Вера, и служанка сразу же откликнулась. – Передайте мне, пожалуйста, вот ту сумку. Да, ту самую, с книгами. А теперь можете идти устраиваться в своей каюте. Она рядом с моей, на этом корабле вам не придется бегать из первого класса во второй.
Вера сама себе улыбнулась, представив, как неторопливая Амандина во всю прыть несется по палубе.
– Вы уверены, что вам не нужна моя помощь? – спросила старая служанка. – Я могу развесить ваши наряды, распаковать ваши туфли…
– Нет, спасибо, не надо. Я пока о нарядах не думаю, – ответила Вера. – Одна мысль о них наводит тоску. Отдохните немного. А если мне что-то понадобится, я вас позову.
Амандина, мимоходом погладив Биби, неторопливо зашагала в соседнюю каюту.
Вера же принялась распаковывать саквояж. Первым делом она достала из него свой маленький портрет в рамке красного дерева. Внимательно всмотрелась в него и вспомнила тот день, когда он был написан. Ей тогда было далеко за тридцать, и Чарлз предложил – а вернее, подтолкнул ее к тому, чтобы заказать портрет некому карликового роста художнику с огромными пухлыми губами. Да, это было настоящее приключение! Они с Чарлзом в дождь взобрались по длинной крутой лестнице на Монмартр и встретились с этим гротескного вида человеком, потом вдребезги напились не то анисовой водки, не то абсента, а приблизительно через час художник закончил ее портрет – рисунок пастелью.
Позднее этот художник прославился и умер довольно молодым – намного моложе, чем она теперь. Художник не проявил ни к ней, ни к Чарлзу никакой симпатии – он почувствовал, что они посмеиваются над ним, и взял с них денег больше положенного (или по крайней мере он сам так счел). Вере тогда портрет отнюдь не понравился. Художник преувеличил все ее недостатки – длинный нос, квадратное лицо, острый подбородок, – насмеявшись в ответ над ней. Но теперь в этом рисунке она увидела прежнюю Веру – интересную, гордую, самовлюбленную, даже отчасти лукавую, и она вдруг подумала, что этот портрет, пожалуй, ей сейчас весьма по душе.
Она поставила рисунок на столик перед зеркалом, сдвинула в сторону и всмотрелась в оба образа – в портрет и в свое отражение. Женщина в расцвете лет и женщина на закате жизни. Она придирчиво вгляделась в свое отражение: из-за худобы морщинки у нее на лице прорезались резче прежнего, кожа обвисла. Она слегка откинула голову и бросила взгляд на свою шею. «У тебя красивая шея», – однажды сказала ей мать. Теперь же эта шея выглядела так, словно группа крохотных искателей приключений, пробороздив ее, взобралась по ней, как по склону, и из ложбинки под подбородком бросила веревочную лестницу своим менее энергичным и решительным сотоварищам. Интересно, что они сделают, когда доберутся до вершины? По слуховому проходу проползут к ней в мозг? Вера вообразила, как эти миниатюрные существа, оснащенные веревками и ледорубами, подбираются к центру ее мозга. В последнее время подобные ощущения казались ей все более и более явственными.
Она бросила последний сентиментальный взгляд на портрет – молодую Веру, затем перевела его на иллюминатор – к ее удовольствию, он оказался больше прежних пароходов, на которых ей доводилось когда-либо плавать. И хотя их лайнер отчалил от берега и их теперь окружала вода, по мнению Веры, он еще не вышел в открытое море. Прежде чем пересечь океан, им еще предстояло остановиться в Бретани. Гавр, Саутгемптон… До чего же провинциально это звучит! Почему было не назвать маршрут корабля «Париж – Лондон – Нью-Йорк»? Ведь и такое название не вводит в заблуждение.
Вера снова принялась распаковывать вещи. Она достала сумочку с туалетными принадлежностями и уже почти решила воспользоваться «Волшебным питанием для кожи» Феррола (удивительное средство для морщинистой шеи), но тут же сочла это занятие совершенно бессмысленным. Хмыкнув, она сложила туалетные принадлежности в ящик и еще раз заглянула в саквояж.
На глаза попалась книга, которую Чарлз дал ей для чтения в пути, – тоненький томик стихов его приятеля-грека. Вера с улыбкой заметила, что Чарлз позволил себе загнуть одну из страниц. На ней, видимо, напечатано стихотворение, которое, по его мнению, ей стоило прочесть обязательно. Что ж, она оставит его на последний день, а потом пошлет телеграмму Чарлзу, в которой скажет, что только что его заметила. А может быть, позвонить ему?! Эта мысль ее рассмешила. Интересно, какое столь срочное известие посреди океана кому-то понадобится сообщить на сушу?
Последними из саквояжа Вера достала три толстых дневника. Она осторожно опустила их на маленький письменный стол, из бокового кармашка вынула ручку и положила ее поверх дневников. Этой ручкой было написано здесь каждое слово; семь лет назад с этой ручки и начались ее дневниковые записи.
Случилось это за несколько месяцев до начала войны. Она возвращалась на поезде после тоскливого выходного в Довилле – модном курорте на сером и плоском Нормандском побережье, курорте, который какими-то коварным путем пролез в список фешенебельных мест отдыха светского общества. Из-за дождя в Довилле отменили скачки, и этот выходной оказался особенно унылым.
К тому времени уже довольно сонные, они устроились в купе первого класса и приготовились к шестичасовой поездке в Париж – Амандина прикорнула у нее на плече, Биби улегся ей на колени. Вера и сама наконец почувствовала себя совершенно расслабленной – ни одной английской няне не удалось бы укачать ребенка лучше, чем французскому поезду, – когда в их купе зашел почтительного вида господин. Он сел на свободное место напротив них, снял шляпу и, улыбнувшись, вежливо им поклонился. Затем, пошарив в сумке, вытащил книгу, надел очки и принялся читать.
Вера же, притворившись спящей, стала за ним исподтишка наблюдать. Судя по его одежде, он не был французом, да и кожа у него была смуглее, чем у бледнокожих жителей северных районов Европы. Волосы у незнакомца успели слегка поседеть, в аккуратно подстриженной бородке тоже проглядывала седина, но его густые дугообразные идеальной формы брови были черны, как смоль.
Ей нравилось наблюдать, как он читает. Она с интересом следила, как он водит глазами, спрятанными за очками в золотой оправе, – вверх-вниз по странице – и как его тонкие пальцы нетерпеливо перелистывают одну станицу за другой. Вера всмотрелась в название книги – Валье Инклан[8]. «Театр».
Имя показалось ей необычайно экзотичным – какой-то древний бог индейских племен. Этот смуглый незнакомец, очевидно, принадлежит к театральному миру – драматург, режиссер, а возможно, даже актер? Вера вдруг представила, как он читает ей вслух пьесу (ведь пьесы созданы для представлений, не правда ли?) и своим глубоким голосом превращает испанскую прозу в музыкальный спектакль.
Она заметила, как незнакомец вынул из дорожной сумки табачную трубку, но, поразмыслив, положил ее обратно и достал блокнот и ручку. Он пристроил блокнот на коленях и принялся что-то писать, а вечная мерзлячка Вера неожиданно почувствовала, что в купе стало тепло. Она улыбнулась сама себе и вдруг погрузилась в несвойственную ей мечтательность: она уже путешествовала не со старой служанкой и собакой, а с таинственным господином, и за окном теперь мелькали не сероватые поля, а сияющие на солнце холмы с многочисленными замками на них.
С закрытыми глазами – возможно, задремав – Вера услышала, как незнакомец, собравшись уходить, складывает в дорожную сумку вещи. Поезд подъезжал к Сен-Жермену, а значит, они уже в двух шагах от Парижа. Вера решила притвориться спящей – ей не хотелось разочаровываться: а вдруг этот испанец уйдет, всего лишь слегка приподняв шляпу и мельком ей улыбнувшись? Уж лучше вообразить, будто он, приостановившись в дверях, прощается с ней долгим взглядом, полным сожаления.
Прозвучал свисток, и поезд неохотно тронулся с места; медленно, ритмично застучали колеса. И тогда Вера наконец открыла глаза и устремила их на пустое сиденье, которое только что занимал незнакомец. Неожиданно в щелке между сиденьями она заметила ручку. Бережно прижимая к себе Биби, Вера потянулась за ней и беззвучно рассмеялась. Это дар любви, сказала она себе.
У нее было несколько изящных письменных принадлежностей: два чернильных прибора, коллекция перьевых ручек и с полдюжины авторучек, приобретенных в лучших европейских магазинах. Но эта ручка была уникальной. У нее был перламутровый колпачок, густо-коричневый корпус и серебряный зажим. Вера погладила пальцами корпус и сняла колпачок. Перо авторучки было украшено изящным крестом. Чарлз, разбиравшийся в подобного рода тонкостях, впоследствии сказал ей, что это крест Сантьяго – тот самый, который Веласкес на одном из своих самых известных полотен «Фрейлины» изобразил у себя на груди.
Кто знает, возможно, эту ручку изготовили специально для испанского путешественника. В любом случае вряд ли ей когда-нибудь снова удастся встретиться с ним и вернуть ему ценный предмет. И Вера сочла, что самым лучшим выходом из положения будет написать этим пером что-нибудь стоящее. Она решила, что напишет ту единственную историю, которая ей так хорошо знакома, – историю своей жизни. Именно этой ручкой.
Вера долго обдумывала, каким образом лучше всего приступить к мемуарам. Ей ничуть не хотелось начинать с фразы «Я родилась», а потом описывать последующие годы своей жизни, которых она совершенно не помнила. Вместо того чтобы вести рассказ в хронологическом порядке, Вера решила вести его в алфавитном. И она принялась описывать знаменательные, смешные и символические эпизоды своей жизни от «Аппендицита» (трагикомической истории о ее страданиях во время поездки к умалишенной бабушке) до «Цеппелина» (об ужасе, с которым она следила за этими безмолвными смертоносными дирижаблями, кружившими над Парижем в Первую мировую войну).
С большим удовольствием Вера отбирала истории для каждой из букв алфавита; порой этот выбор был очевидным, порой – вовсе нет. Каждую историю она записывала исключительно синими чернилами. Через два года ее алфавитные мемуары были закончены. Однако, завершив их, Вера вошла во вкус, и ей захотелось написать о чем-нибудь еще: рассказать о случаях, не вошедших в алфавитную серию, и о тех, которые она неожиданно вспомнила, и о тех, о которых раньше она не решалась рассказать. Ей пришла в голову мысль записать их в виде маленьких зарисовок, а сюжетов для таких зарисовок у нее была тьма. Вера, разумеется, не собиралась писать обо всем подряд – она выберет только самые значительные и символичные, и в том порядке, в каком они ей вспомнятся. Начала она с адреса своих родителей – дома номер 1057 на Пятой авеню.
В этих рукописях поля, а порой и целые страницы занимали рисунки – комические наброски, карикатуры, иллюстрации к тексту – тоже выполненные ручкой, но иногда закрашенные карандашом или пастелью. Веру никогда не тянуло к вышиванию, но она с удовольствием рисовала. Сразу же по приезде в Париж она поступила в Академию Вити – женскую частную художественную школу, но ей довольно скоро наскучило рисовать натурщиков и выслушивать еженедельную критику. Она предпочла заниматься рисованием в одиночестве. Заглянув ненадолго в Лувр, она нередко покидала его с незамысловатыми рисунками древнегреческих и египетских статуй. А впоследствии в ее дневнике рассказы и рисунки объединились в единое целое и уже вместе повествовали о разрозненных историях из ее жизни.
И в тот день в роскошной кабине огромного лайнера, перелистывая страницы своего дневника, Вера снова вспомнила об испанском незнакомце. Еще вчера, как и много лет подряд, она рассеянно искала его в толпе. Проходя с Чарлзом по вокзалу Сен-Лазар, Вера раздумывала о том, живет ли он по-прежнему во Франции и узнает ли она его теперь, сражался ли он на войне и, если сражался, был ли он покалечен. И вообще, жив ли он? Этот испанец превратился для нее в некий таинственный образ. В такие образы можно облечь лишь незнакомцев. Чарлз годами беззлобно поддразнивал ее на его счет, и всякий раз, когда они знакомились с каким-нибудь чудаком, шутливо спрашивал: «Это, случайно, не тот самый испанец?» И тем не менее Чарлз всячески поощрял ее сочинительство и пока что был ее единственным читателем.
Вера неожиданно отложила в сторону ручку.
– Черт возьми, – пробормотала она, сообразив, что забыла попросить Амандину занять для нее на палубе шезлонг.
Она направилась к двери служанки и вдруг нахмурилась: в последнее время она становилась все забывчивей и забывчивей.
* * *
Констанция терпеливо ждала своей очереди к столику стюарда. Она стояла за медлительной седоволосой женщиной, у ног которой разлеглась седеющая собака, явно готовая в любую минуту вздремнуть.
– Oui, je voudrais une chaise longue de première classe pour Madame Vera Sinclair[9], – попросила она.
Констанция, случайно подслушав эту просьбу и почти ничего из нее не поняв, подумала про себя, что фамилия «Синклер» не очень-то напоминает французскую. Старушка, потянув за поводок, расшевелила собаку и на прощание вежливо кивнула Констанции.
– Au revoir, – зашаркав по коридору, пробормотала она.
Констанция сразу же встала на ее место.
– Мне, пожалуйста, шезлонг на палубе второго класса, – отчеканивая каждое слово на случай, если стюард слабо владеет английским, проговорила она. – Меня зовут миссис Стоун. Миссис Констанция Стоун. И мне нужен шезлонг на левом борту. На левом, – выразительно повторила она.
По пути во Францию Констанция, будучи новичком в морских путешествиях, понятия не имела, насколько важно заказать шезлонг на солнечной стороне корабля. Из-за атлантических ветров на теневой стороне лютовал холод, и ей не удалось получить от пребывания на палубе ни малейшего удовольствия.
Зарезервировав нужный шезлонг, она отправилась обратно в каюту. Усевшись на постель, Констанция сняла шляпу, расстегнула ботинки и огляделась.
Новенький корабль отправлялся в первое плавание… И в этой поездке ее привлекало вовсе не царившее на пароходе празднество, а опрятность и чистота. Она первая пользуется этой каютой, первая ложится на эту постель. Все новенькое: водопроводный кран и раковина, уютное, с яркой обивкой кресло… Все вокруг сияет безупречной чистотой! Констанция вдохнула исходивший от деревянных панелей медовый запах воска, зарылась лицом в покрывало. После двух недель, проведенных в парижском отеле, она особенно ценила эту опрятность. Отель, считавшийся роскошным, оказался сырым и затхлым, постельное белье – изношенным, а средневековый туалет не лучше, чем в коридоре. Среди всех этих «роскошеств» она лишь чудом не подхватила воспаление легких.
Констанция достала дамскую сумочку и вынула из нее две отпечатанные на твердой бумаге студийные фотографии. На первой из них три ее дочери, двух, четырех и шести лет, все три с огромными бантами в красивых густых волосах, держались за руки и улыбались, и Констанция улыбнулась им в ответ. Если бы только она могла поцеловать их, прижаться губами к их мягким круглым щечкам! Как им там живется? Неужели за эти несколько недель они подросли и изменились?
На втором снимке был ее муж Джордж: в его позе чувствовалось напряжение, он с подозрением смотрел в фотокамеру. Эту фотографию он подарил ей еще до свадьбы. На ней он такой же скованный и серьезный, как и теперь, но тогда он, конечно, выглядел намного моложе – еще не носил очков и не поседел. Сейчас же волосы у него поредели и стали совсем седыми, а аккуратно подстриженной бородой Джордж напоминал Санта-Клауса.
Констанция, поставив фотографии на комод, перевела взгляд с одной на другую. О чем они с Джорджем будут говорить через двадцать лет, когда девочки вырастут, выйдут замуж, покинут дом и будут растить своих детей? Прожить зрелые годы в обстановке мучительной тишины и натянутой вежливости – это будет просто невыносимо: так прошло все ее детство. Констанция щелкнула пальцем по фотографии мужа, и та упала лицом вниз.
Она открыла специально приобретенный для этой поездки дорожный сундук и, чтобы убедиться, что все на месте, принялась просматривать одно отделение за другим. Достав купленную себе в Париже кружевную шаль, она с нежностью прижала ее к щеке и положила на место. Потом внимательно осмотрела подарки девочкам – фарфоровых кукол, разодетых по последней парижской моде, – и убедилась, что все целы и невредимы, затем проверила подарок родителям – бутылку «Вдовы Клико» (та тоже не разбилась и не треснула). Снова оборачивая бутылку папиросной бумагой, Констанция отругала себя за неразумность: ну для чего родителям дорогое шампанское? Что им праздновать? Она уложила бутылку рядом с куклами и закрыла сундук. Ах, но она так ничего и не купила Джорджу! За все время пребывания в Париже ей не попалось ничего подходящего, ничего, что могло бы послужить знаком любви или символом примирения, ничего такого, что могло бы быть просто стоящим сувениром. Возможно, суть была в том, что ей хотелось, чтобы Джордж об этом путешествии забыл как можно скорее.
Оставив сундук в углу, Констанция села в маленькое кресло, потянулась и выглянула в иллюминатор. Забавно, как быстро люди привыкают к путешествиям. Когда она по пути в Европу впервые пересекала Атлантический океан, она, непривычная к одиночеству, ужасно нервничала и никак не могла прийти в себя и успокоиться. Наверное, поэтому она проводила столько времени со своей попутчицей и соседкой по каюте Глэдис Пелэм.
Глэдис, ужасно стеснительная старая дева лет сорока пяти, и ее приятельницы из Сент-Луиса – целая компания почтенных матрон, вдов и старых дев – с радостью взяли Констанцию под свое крыло. Эти общительные дамы были заинтригованы тем, что молодая женщина путешествует одна.
Неожиданно для себя Констанция поведала им о своей жизни куда больше, чем когда-либо рассказывала о ней подругам в Вустере. Здесь, где она была сама по себе и никто не знал ее семью, она могла говорить свободно, и от собственных рассказов у нее едва ли ни шла кругом голова. Ее никто не прерывал – ни отец, обычно останавливающий ее неодобрительным жестом, ни муж, любивший оборвать ее рассказ и продолжить его по-своему. Дома ее считали спокойной, ответственной и несколько сдержанной (но, конечно, не скучной, как Джордж!), однако на корабле, где ей внимали чуть ли не с восхищением, она могла говорить все что угодно и представляться так, как ей заблагорассудится, – женщиной самоотверженной, преданной и даже искушенной.
Констанция объяснила дамам, что отец послал ее в Париж вернуть домой младшую сестру Фэйт, которая в прошлом году, путешествуя по Европе со своей тетушкой, просто-напросто от нее сбежала. Еще Констанция им рассказала, что Фэйт живет с художником и позирует обнаженной! Теперь же их мать всерьез заболела (кто бы не слег с такой вот дочерью?), и отец счел, что только она, Констанция, сможет уговорить Фэйт бросить сомнительную жизнь в Париже и вернуться домой. И вот она, оставив любимого мужа и трех чудных дочек, возлагает все свои силы на алтарь служения близким.
Представленная в подобной версии, ее семья наверняка показалась слушательницам почти нормальной. Разумеется, Констанция опустила все малоприятные подробности, включая тот факт, что уж кого-кого, а свою старшую сестру Фэйт, скорее всего, не станет и слушать. Они с детства были заклятыми соперницами – Констанция считала Фэйт несносной, донельзя избалованной, в то время как Фэйт считала свою сестру ханжой. В своем рассказе Констанция опустила и еще один факт – их матери было совершенно безразлично, вернется ее младшая дочь в Вустер или нет.
Их мать Лидия – женщина легко возбудимая и склонная к истерии – в свое время была пациенткой их отца. Джеральд Уотсон проводил тогда научные исследования, а Лидия оказалась среди изучаемых им пациентов; и хотя к тому времени отец уже был достаточно взрослым человеком, чтобы проявить благоразумие, он влюбился в эту красивую, хрупкую и уязвимую девушку. Коллеги Уотсона резко осудили его поведение. Но, несмотря на то что в университете Кларка на кафедре психологии разразился скандал, Джеральд после недолгого бурного ухаживания женился на Лидии. В тот же год родилась Констанция, а пять лет спустя – Фэйт. При том что Лидия была глубоко привязана к мужу, в ее сердце не нашлось и крохотного уголка для дочерей. Она не уделяла им ни капли внимания и переложила заботу о них целиком и полностью на слуг, бабушек и тетушек. Детские воспоминания девочек о матери сводились к долгому холодному молчанию, пугающим рыданиям и взрывам смеха и дикому выражению лица, сопровождавшемуся судорожными подергиваниями всего тела; а еще – к воспоминанию о том, как раза два-три отец, чтобы привести мать в чувство, бил ее по щекам. По мнению Констанции, пренебрежение матери должно было бы сблизить сестер, однако оно привело к абсолютно противоположному эффекту.
Как бы то ни было, на пути в Париж Констанция всерьез нуждалась в компании. Когда женщины не обсуждали с ней ее так называемую «миссию», они развлекались на корабле как могли: играли в шаффлборд, настольный теннис, криббедж и ходили на чаепития. В Саутгемптоне – Глэдис и ее приятельницы направлялись в Лондон – Констанция с ними простилась. Прощание сопровождалось горячими объятиями, слезами и обещаниями писать письма.
На этот же раз общение с незнакомцами представилось Констанции просто невыносимым. Она даже решилась приплатить за отдельную комнату, и когда стюард, проведя ее в каюту, обычно предназначенную для холостяков, посмотрел на нее с неодобрением, она не придала его взгляду ни малейшего значения. Мало того что потерпела неудачу ее миссия, Констанции теперь казалось, что и она сама всего лишь жалкая неудачница. При воспоминании о зажигательных беседах (а на самом деле обыкновенных сплетнях) с дамами из Миссури (честно говоря, довольно серыми особами) ей теперь казалось, что она – не говоря о том, что скучный человек, – еще и обманщица.
Скучная и заурядная. Констанция, которая когда-то считала себя красавицей, после поездки в Париж чувствовала себя старой занудой. Ей вспомнилось, что на их с Джорджем свадьбе она нечаянно подслушала, как Фэйт над ней подшучивала. «Говорят, катящийся камень мхом не обрастает, а что в таком случае происходит с лежачим? – намекая на новую фамилию Констанции, Стоун[10], сказала она. – Не пройдет и года, как этот камушек станет вконец замшелым! А вокруг сплошное болото!» При этом воспоминании Констанция нахмурилась. Она уже восемь лет замужем, и предсказание сестры действительно сбылось.
Тем не менее свою размеренную жизнь она не поменяла бы на ту, что выбрала для себя Фэйт. Фэ, как она называла себя теперь – что, к изумлению Констанции, по-французски означало «фея» – жила в абсолютно диких условиях: без горячей воды, без водопровода и без прислуги. Каждый день ей и Мишелю с сумками и пакетами приходилось взбираться по крутой лестнице на четвертый этаж старого дома к крохотной запущенной квартирке, в которой лучшая комната – большая, с французскими окнами – была отдана Мишелю под студию.
Мало того что квартирка была маленькой и у сестры и Мишеля почти не было домашнего скарба, она была не только грязной, но в ней еще и царил полный бедлам. На полу – стопки книг и газет, на двух диванах – мятые одеяла и грязная одежда, в углу – сломанные лампы, столы завалены инструментами, цветным стеклом, бусами, бутылками вина, кофейными чашками и курительным табаком.
К ним то и дело «заваливались» их друзья и приятели – заглядывая на минутку, они просиживали часами, и почти всегда кто-то приносил какую-нибудь побрякушку, которую все принимались разглядывать. Однако среди всей этой бессмыслицы и Фэйт, и Мишель, и все их друзья и приятели непонятно почему казались вполне довольными жизнью. И донельзя занятыми!
В первую половину дня Фэйт мастерила замысловатые, украшенные эмалью ювелирные «штучки» (и где она только этому научилась?). Хотя Констанция ни за что не надела бы на себя ни одну из этих странных вещиц, но она не могла не признать, что они были поразительно необычны и даже красивы. Фэйт с удовольствием носила свои собственные броши, шляпные булавки, серьги и медальоны, а порой кое-что и продавала. После полудня она обычно бежала на Монпарнас позировать художникам, платившим ей столько, сколько им было по карману. Как Фэйт честно призналась сестре, художники брали ее в натурщицы не потому, что восхищались ее внешностью, а потому что она умела сидеть неподвижно. Это просто невероятно, думала про себя Констанция. Просто невероятно. А по вечерам Фэйт и Мишель вместе с друзьями отправлялись в кафе, где пили вино, пели песни, пробовали новые, только что изобретенные приятелями блюда или до поздней ночи обсуждали собственные идеи.
Констанции все это казалось страшно изнурительным.
Сощурившись от бившего в иллюминатор солнца, она вдруг почувствовала тупую пульсирующую боль в глазницах. Надо немного подремать, – подумала было она, но, ощутив необъяснимое беспокойство, вскочила на ноги. За дверью в коридоре сновали люди, кричали дети, кто-то топал ногами, звучала иностранная речь, а в тиши ее отдельной каюты этого новенького лайнера неожиданно раздался скрип, напоминавший скрип старого-престарого дома. Констанция поспешно завязала шнурки, схватила сумочку и вышла из каюты.
Шагая по коридору, она мельком заметила, что кое-кто уже выставил туфли, чтобы их почистили к выходу на обед. А она об этом и не подумала! Что она наденет к обеду? С кем будет обедать? Какие диковинные соусы подадут?… Она вышла из коридора к корме – к магазинчикам.
Проходя мимо них, Констанция вглядывалась в узенькие витрины: торговец табачными изделиями показывал пожилому покупателю диковинные виды сигар, цветочница готовила для дам к вечернему выходу букетики на корсажи. Она прошла мимо аптеки, где в витрине красовались флаконы французских духов, мимо лавки сувениров, в витрине которой были выставлены открытки и игрушечные пароходы, и наконец остановилась у входа в магазин канцелярских товаров.
Когда они с сестрой были еще детьми, окружающие считали, что у Констанции есть творческие способности. В детстве она не только сочиняла сказки и писала стихи о природе, но, по мнению родных, у нее был и художественный талант. Летом 1910 года, когда Констанцию и Фэйт послали пожить у их тетушки Перл в Бостоне, Констанция снискала хвалебные отзывы за роспись фарфора. Тетушка и кузины восхищались тем, как она твердой рукой снова и снова точно копировала на фарфор выбранные ею рисунки. Фэйт же делала это столь бестолково и неаккуратно, что ей до конца лета запретили даже прикасаться к краскам.
Констанция открыла дверь магазина, зазвонил дверной колокольчик, и она вошла. Миловидная продавщица встретила ее приветливой улыбкой.
– Доброе утро, мадам! Чем могу быть полезна?
– Будьте добры, акварельный набор и альбом для рисования, – ответила Констанция.
– О, aquarelle! Вы художница? – Продавщица потянулась за коробками с красками, и в глазах ее засветилось восхищение.
– Нет, нет. – Констанция скромно покачала головой. – Я всего лишь любительница.
Она сочла, что двенадцати тюбиков ей будет вполне достаточно, и выбрала самую маленькую коробку и тонкий альбом с двадцатью листами плотной бумаги.
– Думаю, это то, что мне надо, – заплатив за покупку, с улыбкой сказала она и, довольная выбором, добавила: – Я собираюсь сделать рисунки для посуды.
Если уж Фэйт удаются красивые вещи, то у нее это и подавно получится.
– Как приятно, когда у тебя есть время на такие занятия, – заворачивая в тонкую бумагу коробку с красками, со вздохом проговорила продавщица.
Неужели она надо мной посмеивается, подумала Констанция. Выходит, рисование – легкомысленное занятие? Скучное времяпрепровождение для замужних дам?
– Надеюсь, вы получите от них удовольствие. – Продавщица протянула ей покупку и опять улыбнулась. – И от путешествия! Au revoir!
Констанция кивнула на прощание и направилась к выходу. Прижимая покупку к груди, она вышла на палубу. Здесь с решительным видом расхаживали пассажиры и, отражаясь от воды, нещадно палило солнце. Она закрыла глаза и приложила руку ко лбу в надежде, что на этот раз обойдется без мигрени. Сообразив, что у нее не осталось ни грамма порошка от головной боли (во время визита к сестре истощились все ее запасы), Констанция решила зайти к корабельному доктору.
Шагать по темным пустым коридорам оказалось намного спокойнее и приятнее, чем по палубе. После нескольких неверных поворотов (среди одинакового декора нетрудно было заблудиться) она в конце концов нашла кабинет врача. Войдя в приемную, Констанция увидела, что прямо напротив двери в кабинет сидит та самая пара, которую она недавно видела в очереди к стюарду, – седовласая служанка и старенькая собака. А рядом с ними – сухощавая дама в изящном сливового цвета пальто, которую она заприметила еще на пристани. Элегантно одетая, но хрупкая и увядающая женщина напоминала собой больную титулованную матрону из исчезнувшей с лица земли королевской семьи. Возможно, это и была мадам Синклер?
* * *
Вера Синклер сидела в приемной врача, когда в комнату вошла миловидная женщина. Вера тут же отметила, что фигура у нее идеальная, правда, из-за того, что одета она была по моде прошлого сезона, стройность ее была едва различима. От Вериных глаз не укрылось, как эта новая посетительница, увидев ее сутулую спину, мгновенно выпрямилась, словно проводя черту между молодостью и старостью. Увы, бег времени не остановить, грустно подумала Вера.
Вновь прибывшая дама присела на край стула и бережно положила на колени дамскую сумочку и пакет. Обе женщины вежливо кивнули друг другу.
– Добрый день, – пробормотали они одновременно. Амандина и Биби при этом хранили молчание.
В эту минуту из кабинета вышел доктор. На нем поверх морской формы был белый халат, волосы были аккуратно причесаны, усы старательно подстрижены. Хотя на висках у него уже появилась седина, а на лице едва заметные морщинки, этот почти достигший среднего возраста привлекательный мужчина выглядел совсем молодо. Он приветливо улыбнулся ожидавшим его в приемной женщинам и, прежде чем пригласить в кабинет ту, что постарше, задержался одобрительным взглядом на той, что помоложе.
Вера заметила и явное одобрение доктора, и то, как залилась краской ее соседка. Ее саму такого рода красота не трогала. Опыт подсказывал ей, что за столь совершенной внешностью обычно скрывается довольно заурядная личность.
С трудом поднявшись со стула, Вера последовала за доктором. Они зашли в кабинет, и он закрыл за собой дверь.
– Добрый день, доктор. Меня зовут Вера Синклер. Мне посоветовал к вам обратиться мой парижский доктор Эдгар Ромэнс. – Она говорила по-французски без ошибок, но ее выдавал акцент, неизбежный у людей, переселившихся в другую страну в том возрасте, когда детского чутья к звукам уже нет и в помине.
– А я доктор Серж Шаброн, – поклонившись, произнес доктор и тут же небрежно добавил: – Мадам Синклер, если вам проще говорить по-английски, говорите по-английски.
Несколько лет назад такое предложение наверняка оскорбило бы Веру и она сочла бы доктора невоспитанным. Но теперь его слова ее ничуть не тронули.
– Да, пожалуй, проще, – переходя на родной язык, сказала Вера.
Доктор, чтобы проверить Верин пульс, взял ее за запястье и стал смотреть на часы. Вера усталым взглядом обвела белую, без окон комнату, задержавшись взглядом на стеклянных шкафчиках, забитых маленькими коробочками и малопривлекательными инструментами. В комнате стоял легкий запах эфира. Вера знавала мужчин, которые вдыхали эфир для удовольствия и наслаждались приносимым им забвением. Обычно это были влюбленные мужчины, сделавшие неудачный выбор: то слишком молоденькая девушка, то замужняя женщина, а то особа «неправильного» пола.
– Мадам, вы нездоровы? – вежливо спросил доктор, хотя вопрос был скорее риторическим – то, что Вера всерьез больна, видно было невооруженным взглядом.
– Я умираю, – с печальной улыбкой ответила Вера. – И возвращаюсь домой в Нью-Йорк. Как старый слон.
– Умираете? – изумленный ее прямотой, не сдержался доктор. – Это вам сказал ваш парижский врач? А какие у вас симптомы? Что болит?
– Мне кажется, доктор Ромэнс считает, что у меня рак груди. По-моему, у него в этом почти нет сомнений. Что же касается симптомов… – Вера вздохнула. – Мне все сейчас кажется симптомом. Когда вернусь в Нью-Йорк, позвоню старому приятелю – доктору, который лечит такого рода болезни. Но я знаю, что надежды почти нет.
– Что вы, мадам, надежда есть всегда! – Доктор произнес это так искренне, вдохновенно, что Вере стало грустно.
– Что ж, как я уже сказала, мой парижский доктор, который обычно беспокоится сверх меры, посоветовал мне, как только корабль тронется в путь, сразу обратиться к вам. Но здесь, на борту я собираюсь наслаждаться солнцем и морским воздухом. До чего же мрачная и тоскливая в этом году в Париже весна!
– Я вам желаю приятного путешествия. – Доктор улыбнулся. – Солнечные лучи, морской воздух, глубокий сон, вкусная еда… Эти морские путешествия порой просто воскрешают. Вы приедете в Нью-Йорк на десять лет моложе!
– Это было бы замечательно! Я столько лет не видела своих кузин, и хотя у меня тщеславия не осталось ни на грош, мне страшно не хочется показаться им изможденной и слабой. – Вера протянула доктору руку. – Что ж, мне пора идти. Перед тем как переодеться к обеду, мне нужно немного отдохнуть.
– Конечно, мадам Синклер. – Доктор тепло пожал ей руку. – Если во время поездки вам что-либо понадобится, сразу же дайте мне знать – что бы то ни было.
Вера заметила про себя с улыбкой, что доктор, прежде чем открыть ей дверь, мельком посмотрелся в висевшее возле двери зеркало. Однако едва он проводил Веру в приемную и приветливо кивнул ожидавшей его молодой женщине, как в помещение вбежала невысокая девушка в темной форме и белой шапочке.
– Monsieur le docteur?[11] – почти задыхаясь, спросила она.
Веру поразила ее внешность: славное бледное овальное личико, испорченное большой родинкой. Ей тут же вспомнилось, как в детстве на ферме у дяди в Коннектикуте она, собирая яйца и натыкаясь на белое чистенькое яйцо, порой, подняв его с земли, вдруг обнаруживала, что снизу оно измазано куриным пометом, и ее восторг мгновенно сменялся отвращением. Вера бросила беглый взгляд на хорошенькую посетительницу, которая уже поднялась с места, чтобы пройти в кабинет, и снова перевела его на молоденькую девушку. Затем, нащупав тростью пол, повернулась к ожидавшим ее Амандине и Биби и в их сопровождении заковыляла назад к каюте.
* * *
Жюли получила от мадам Трембле прямое указание немедленно привести доктора. Когда же она, открыв дверь приемной, уже приготовилась передать доктору порученное ей послание, то увидела, что из кабинета доктора в его сопровождении выходит престарелая дама. Он передал ее с рук на руки служанке, и тут же к нему в нерешительности поднялась с места другая женщина, помоложе.
Жюли с интересом пригляделась к пожилой даме – от нее веяло богатством и величием. И хотя ее покрытые перстнями костлявые пальцы держали трость, будто скипетр, она была сухопара, сгорблена и явно нездорова. Будь она пассажиркой третьего класса, ей бы ни за что не пройти медицинской проверки. Жюли наблюдала, как в портовой гостинице врачи и медсестры проверяли пассажиров на вшей, чесотку и заразные болезни, отчисляя тех, кого считали для подобного путешествия больными или слишком слабыми. Даже Жюли было ясно, что, будь эта старушка бедна, ее бы на борт «Парижа» просто не допустили.
Другая же посетительница в приемной, совсем наоборот, выглядела свежей, здоровой и даже, пожалуй, отличалась красотой – у нее была чуть розоватая гладкая кожа и наполовину скрытые огромной шляпой густые-прегустые волосы. Высокая, полногрудая, без единого изъяна. Таким людям, наверное, живется намного легче, подумала Жюли.
Когда престарелое трио величественно двинулось к выходу, женщина в перстнях, опершись на трость, неожиданно приостановилась, бросила внимательный взгляд на Жюли и одобрительно ей кивнула. Жюли, озадаченная таким вниманием, слегка поклонилась даме. Обычно богатые замечали слуг, только когда нуждались в их помощи. Дверь за старушкой и ее эскортом закрылась, и Жюли повернулась к моложавой женщине, которая явно пришла на прием к врачу.
– Одну минуту, мадам, – попросила Жюли. Она повернулась к доктору и поспешно заговорила с ним по-французски: – Месье, мадам Трембле послала меня, чтобы сказать вам, что десятки пассажиров третьего класса страдают морской болезнью. Там душно, и корабль так качает… Их тошнит, им так плохо! Если у вас будет время и вы сможете туда прийти, мы будем вам очень благодарны.
Жюли не упомянула, что и сама она чувствовала себя отвратительно, а после того как ей пришлось отмывать пол от рвоты, состояние ее, разумеется, не улучшилось.
– Обычно на такой случай у меня была медсестра, а то и две, но в этой поездке, похоже, о помощниках нет и речи. Надеюсь, в Нью-Йорке положение изменится. Не понимаю, что здесь творится! – Доктор покачал головой и вздохнул. – Я, конечно, приду. Я приму эту даму и сразу же к вам спущусь.
– Благодарю вас, месье. – Доктор по-отечески кивнул Жюли. Она присела в реверансе и благодарно кивнула хорошенькой женщине. – И вас тоже, мадам.
Выйдя из кабинета, Жюли поспешила назад в отделение третьего класса, опасаясь, как бы мадам Трембле не подумала, будто она увиливает от своих обязанностей.
* * *
Оставшись наедине с Констанцией, доктор Шаброн взял ее за локоть и провел к себе в кабинет.
– Проходите, пожалуйста, и расскажите мне, что вас беспокоит.
Констанция, довольная тем, что доктор наконец-то сможет безраздельно уделить ей внимание, обрадовалась, что он бегло говорит по-английски, и была очарована его легким акцентом. В Париже ей не удалось пообщаться почти ни с кем из друзей и приятелей Фэйт, но, не желая, чтобы они сочли ее сухарем или решили, что она их осуждает (а нередко именно так и было), Констанция в их присутствии постоянно улыбалась. Она чувствовала себя простушкой, которая улыбается неизвестно чему, и знала, что время от времени они ее обсуждают и над ней подтрунивают. С доктором ничего подобного не случится, подумала Констанция с облегчением.
– Здравствуйте, доктор, – робко начала она и неожиданно смутилась. – Видите ли, иногда я испытываю сильные головные боли. И вот недавно, стоя на палубе, я почувствовала, что еще немного – и у меня заболит голова. А у меня с собой нет никаких порошков. И я побоялась, что…
Она вдруг умолкла, пораженная тем, что готова вот-вот расплакаться.
– Господи! Что это со мной!
– Спокойнее, не волнуйтесь, – тепло, утешительно проговорил доктор. – В этих долгих путешествиях людям свойственно беспокойство, но как только вы здесь освоитесь, вы начнете получать удовольствие от поездки.
Он с улыбкой протянул ей чистый носовой платок.
– А теперь скажите мне, пожалуйста, как вас зовут.
Констанция, промокая глаза, замешкалась с ответом. Ей вдруг захотелось назваться своей девичьей фамилией, но после минутного колебания она с тоской проговорила: «Констанция Стоун», – чувствуя себя довольно глупо, оттого что пропустила слово «миссис».
– А вас, сэр? Как вас зовут?
– Я корабельный врач, доктор Серж Шаброн, – ответил он и отрицательно покачал головой, когда она попыталась вернуть ему платок: – Нет, оставьте его себе. Путешествие еще не закончено!
Он снова улыбнулся, встал со стула и принялся шарить в одном из металлических ящиков.
– Вы говорите, у вас болит голова?
Констанция наблюдала, как он перебирает одну за другой маленькие белые коробочки, и ей вдруг стало неловко: ее головной боли как не бывало.
– Вот, возьмите, – сказал доктор и протянул ей две коробочки. – Аспирин от головной боли и порошки от бессонницы. Если вечером не удастся расслабиться, перед сном смешайте один порошок с водой. А сейчас позвольте мне проводить вас в вашу каюту. Боюсь, мне пора идти – во мне нуждаются пассажиры третьего класса.
Доктор Шаброн запер дверь в кабинет и, предложив Констанции руку, не торопясь повел ее в сторону кают второго класса.
– Скажите, а вы из Нью-Йорка? – спросил он.
– Нет, я живу в Массачусетсе. Я приехала в Париж, чтобы сопроводить домой сестру. Она тут прожила целый год.
– Ваша сестра живет в Париже? Красивый город, не правда ли?
– Да, разумеется, – ответила Констанция без особого энтузиазма.
Она чувствовала себя в этом городе настолько чужой, что почти не замечала его очарования.
– А вы родом из Парижа?
– Нет, я из Ренна. Но, по правде говоря, после пятнадцати лет работы на корабле я, пожалуй, чувствую себя дома только в море. Я даже всю войну провел на океанском лайнере, когда «Францию» превратили в госпитальный корабль. Он тогда представлял собой довольное странное зрелище. – Доктор, предавшись воспоминаниям, слегка нахмурился. – Забинтованные люди, некоторые в ожогах, некоторые без рук и без ног, сидят на элегантных кушетках, окруженные роскошью.
Констанция пробормотала какие-то сочувственные слова, и доктор поспешно обернулся к ней, точно вдруг вспомнив, что ему положено быть обворожительным.
– Что ж, – снова весело заговорил он, – вероятно, море и есть моя земля.
Проходя по устланному ярким ковром коридору со свисающими тут и там хрустальными люстрами, Констанция подумала: неужели подобный коридор мог быть набит ранеными солдатами? Это не укладывалось в ее голове.
Они вышли на палубу. Доктор вынул из кармана портсигар, протянул Констанции сигарету – она отказалась, а он затянулся. Приостановившись у перил, доктор пустил колечко дыма и снова повернулся к Констанции.
– Вы часто путешествуете, мисс?
– О, вовсе нет! Я почти всю жизнь прожила в одном городе, – ответила Констанция. – А ваша жизнь на море… Я такой даже вообразить не могу! Каждый раз просыпаешься на новом месте, снимаешься с якоря и плывешь в следующий порт…
– Это может быть весьма увлекательно, – улыбнулся доктор, – а может быть и скучно. Зависит от погоды, корабельной команды, пассажиров… Но у меня в каюте всегда на всякий случай припасено несколько романов. Уж они всегда хорошая компания.
– У меня в дорожной сумке тоже есть три-четыре романа, – с улыбкой сказала Констанция. – А какие книги вам нравятся больше всего?
– Да я читаю самые разные, – открывая дверь, ведущую к каютам, и пропуская Констанцию вперед, проговорил доктор, – но сейчас я читаю серию рассказов о Шерлоке Холмсе.
– О Шерлоке Холмсе?! – расплываясь в улыбке, воскликнула Констанция. – Я обожаю эти рассказы!
– Не может быть?! – Доктор рассмеялся. – Убийства, наркотики, нищие, отравления… Далеко не все женщины станут читать об этом.
– Да что вы, доктор, – вслед за ним рассмеялась Констанция. – Ну кто же откажется от занятной таинственной истории? Особенно когда в конце все так логично объясняется.
– Ой-ой-ой, – с насмешливым изумлением покачал головой доктор. – Женщина, которой по душе мрачные детективные рассказы, да еще и любит логику!
Они подошли к каюте Констанции, и она остановилась.
– Благодарю вас за то, что вы меня проводили, – протягивая ему руку, сказала она. – Приятно было с вами познакомиться.
– И мне тоже было очень приятно. – Доктор с легким поклоном взял ее руку в свою. – Мне всегда приятно встретить поклонников мистера Холмса. Возможно, во время нашего путешествия мы с вами и с вашей сестрой еще встретимся, верно, мисс Стоун?
Констанция собралась было поправить его и сказать, что на самом деле она миссис Стоун, но потом передумала. После двух недель в роли старшей, замужней, страшно занудной сестры ей захотелось хотя бы несколько дней побыть снова одинокой и молодой. А вовсе не миссис Стоун.
– О, моя сестра со мной ехать не захотела, – только и сказала Констанция.
– Что ж, – с улыбкой проговорил доктор, – она еще пожалеет, что упустила такое замечательное путешествие! – И вежливым профессиональным тоном добавил: – Наверное, вам все-таки следует отдохнуть. И если у вас заболит голова или вас сразит какой-то другой недуг, пожалуйста, без стеснения обращайтесь ко мне. А сейчас, боюсь, мне придется вас покинуть и пойти проверить, как себя чувствуют пассажиры третьего класса. Au revoir!
Констанция продолжала стоять у двери каюты и, пока доктор Шаброн шел по коридору, провожала его взглядом. Какой приятный человек! Наблюдая, как этот высокий мужчина быстрым шагом движется по коридору, она думала о том, как грустно, а может быть, и несправедливо, что такое слово как «миссис» мгновенно определяет положение любой женщины. А ведь у мужчин слова вроде «доктор», «капитан» и даже «мистер» ничуть не выдают подробностей их личной жизни. Действительно, какое имеет значение, будет корабельный доктор называть ее мисс или миссис? Разумеется, «мисс» было комплиментом – ненавязчивым признанием ее молодости.
Констанция отперла дверь, вошла в каюту и с улыбкой достала из дорожной сумки детективный роман.
* * *
Стоя рядом с группой застигнутых морской болезнью пассажиров третьего класса, Жюли с надеждой прислушивалась к тому, о чем говорил им только что появившийся здесь доктор. Он сердечно приветствовал всех этих несчастных набившихся в комнату пациентов.
– Я понимаю ваши страдания, – продолжил доктор Шаброн. – Что ж, для первого путешествия это обычное дело, и я уверен, что вы скоро привыкнете к качке.
Послышался общий стон недоверия – и наступила предсказуемая тишина…
– Я всем советую лечь в постель и закрыть глаза. Это вернет вам чувство равновесия и успокоит нервы.
Доктор одного за другим обвел взглядом страждущих.
– Или можете посидеть на палубе, – предложил он. – Помните, что меньше всего качка чувствуется в середине корабля. И не спускайте глаз с горизонта. Это самый верный способ почувствовать себя лучше.
– Но, доктор, разве для нас нет никакого лекарства? – чуть ли не взмолился пожилой мужчина в первом ряду. – Какое-нибудь снадобье, чтобы стало полегче?
– Боюсь, что такого средства нет, – нахмурившись, покачал головой доктор. – Организм должен привыкнуть к качке. Только старайтесь не нервничать – я уверен, что очень скоро вы все придете в себя.
Доктор Шаброн пожелал страдальцам удачи и поспешил наверх к пассажирам первого и второго классов. Громко вздыхая, с позеленевшими лицами одни пассажиры послушно двинулись к своим каютам, чтобы улечься в постель, другие принялись подниматься по лестнице на палубу вдохнуть свежего воздуху и отыскать линию горизонта.
Расстроенная Жюли неподвижно стояла в углу – советом полежать или подняться на палубу она воспользоваться не могла. Как и всем тем женщинам, что работали в столовой третьего класса, ей через час предстояло подавать обед в несколько смен более чем восьмистам пассажирам.
Неожиданно из спальни послышались шаги, и в комнату вошла девушка, ее ровесница Симона Дюра. Она была родом из Харфлера, городка в десяти километрах от Гавра, и вместе с Жюли проходила тот же курс подготовки. У нее были жидкие, сероватого цвета волосы, рябая кожа и натянутая улыбка, за которой она прятала выпавшие зубы. И, конечно, ее тоже послали работать в третий класс.
Жюли обрадовалась знакомому лицу и робко помахала Симоне рукой. Несмотря на свой простоватый вид, Симона была разговорчивой, общительной и во время подготовительного курса то и дело оказывалась центром всеобщего внимания.
– Привет, – подойдя к Жюли, сказала Симона. – Ты ведь из Гавра? Мы вроде вместе были на курсах?
– Верно. Меня зовут Жюли Верне, – ответила Жюли и расцеловала Симону в ответ. – А тебя зовут Симона? У тебя это тоже первая поездка?
– Да, первая! Правда, потрясающе? Хотя я была разочарована, когда мне сказали, что я буду работать здесь, внизу. Я-то хотела работать в первом классе, водить компанию с богатеями и знаменитостями. – Ее рот растянулся в улыбке. – А ты? Что ты думаешь?
– По правде говоря, мне пока не очень-то по себе, – призналась Жюли. – Я впервые на корабле и чувствую себя отвратительно. Без конца бегаю в туалет и пытаюсь скрыть это от мадам Трембле. Просто кошмар! А скоро мы начнем подавать обед – чесночный суп и кроликов. Господи, только бы пассажиров от него не стошнило.
– Это запросто! Уж сколько я сегодня за ними подтерла. – Симона в отвращении закатила глаза, но тут же вспомнила, что и Жюли страдает от болезни не меньше других. – Я тебе очень сочувствую.
– А как же ты? Тебя разве не тошнит? Поделись своим секретом, – с надеждой попросила Жюли.
– Никакого секрета нет. Просто я всегда была уверена, что моя жизнь на корабле будет лучше не придумаешь, – пожав плечами, сказала Симона и бросила взгляд на часы. – Уже полпятого? Пора накрывать столы к обеду.
Жюли охнула, и они побежали по коридору. По дороге они наткнулись еще на четырех девушек, спешащих туда же, куда и они, и уже вшестером они устремились в кухню. Симона успела с ними познакомиться раньше, и теперь она восторженно заговорила со всеми одновременно.
– Вы уже были на кухне? – с широко открытыми глазами возбужденно спросила Симона. – Вы когда-нибудь в жизни видели столько еды? А какие они подают порции! Даже здесь, в третьем классе! Стоит мне подумать о том, сколько нам выдавали еды во время войны… Чайки, что летят за этим лайнером, и те питаются лучше!
Остальные девушки закивали головами и рассмеялись. Даже Жюли, несмотря на тошноту, попыталась улыбнуться. Она слышала, как бухгалтер и повар обсуждали невероятное количество продуктов, заготовленных для этого пятидневного путешествия: двадцать пять тонн говядины, десять тон рыбы, пять тон бекона и ветчины, восемьдесят тысяч яиц… И чем выше на корабле располагались пассажиры, тем больше продуктов они поглощали. А Жюли с минуты отплытия корабля смогла съесть только один сухарик. Как только люди могут предаваться обжорству на плывущем корабле?
Девушки принесли из кладовки белые скатерти, накрыли ими длинные столы и, сев рядом, принялись складывать салфетки. Жюли внимательно слушала их болтовню – Симона заправляла обсуждением роскоши первого класса, чудес Нью-Йорка и самых симпатичных членов экипажа, – и хотя Жюли не сказала почти ни слова, ей было приятно ощущать себя частью этой компании. Если бы только прошла эта мерзкая тошнота! Она завязала на очередной салфетке узел – ни дать ни взять отражение того, что творилось у нее внутри.
* * *
Из иллюминатора Вере были видны плавные очертания утесов острова Уайт; корабль держал курс к проливу Солент, а потом к портовому городу Саутгемптон. Там они пришвартуются на час, заберут пассажиров и почту и оттуда отправятся в длительный путь в сторону Америки. Вера надела пальто и взяла трость.
– Биби, – пробормотала она и пристегнула поводок к ошейнику, – пойдем бросим последний взгляд на старый Альбион.
На палубе Биби уютно улеглась у Вериных ног, а та, привязав поводок к перилам, достала из карманов перчатки. На палубе явно похолодало. Глядя на возвышенности и рифы британского острова – что там за деревушка вдали, Бембридж или Райд? – Вера мгновенно вспомнила Чарлза.
Когда она в последний раз на морском лайнере пересекала Атлантический океан – американское приключение на корабле «Франция», – Чарлз был рядом с ней. Они стояли бок о бок на палубе – пожалуй, на этом самом месте – и провожали взглядом исчезающий из виду остров. Чарлз рассказывал ей, что благодаря королеве Виктории остров Уайт стал необычайно модным и в детстве родители без конца возили его в эти края на каникулы. В тот вечер почти десять лет назад, проплывая мимо притулившихся в бухтах причудливых деревушек, они говорили о том, что хорошо бы как-нибудь летом снять на острове коттедж. Вера вздохнула. Столько же мечтаний в этой жизни так и не воплотилось!
Корабль уже двигался в сторону порта. Вера неожиданно вспомнила, как их с Чарлзом рассмешили названия рек в Саутгемптоне. Если бы только он был сейчас рядом!
Нахмурившись, Вера подняла воротник. Почему все так обернулось? Это поспешное решение вернуться в Америку она приняла дождливым парижским полднем в каком-то азартном порыве. На самом деле она лишь хотела немного встряхнуть Чарлза – напомнить ему, что ее присутствие в Париже не вечно. В этот последний год она остро ощущала его отсутствие, и ей хотелось, чтобы их дружба засияла вновь своим прежним великолепием, хотелось, чтобы Чарлз снова наслаждался ее компанией так, как он наслаждался ею прежде, до того как она заболела раком.
Вера знала людей, болезнь для которых была чем-то вроде подпитки: одни получали удовольствие от безраздельной власти над немощными, другие с удовольствием играли роль прикованных к постели мучеников; но Чарлз ни капли не походил ни на тех, ни на других. Он терпеть не мог хвори. Ему невыносимо было видеть Верино осунувшееся лицо и ее худобу, тяжко было переносить ее забывчивость и изможденность. В этот последний год, когда они оказывались вместе, он уже больше не притворялся, будто они оба все еще в расцвете лет. Вера стала для него мрачным напоминанием о смерти – в том числе его собственной.
С тех пор как она заболела, ей стал невыносим его взгляд, а вернее, невыносимым стало то, что он избегал ее взгляда, и тем не менее ей не хватало его волнующих, пьянящих бесед и его заразительного смеха. В этот последний год Вера не была одинока – ее навещали друзья и приятели, и ее без конца приглашали на вечеринки. Но отношения со всеми этими людьми не шли ни в какое сравнение с той дружбой, которой она наслаждалась с Чарлзом.
Глядя на огни Саутгемптона, Вера едва заметно повела головой. Что она делает на этом корабле? Неужели она будет получать хоть какое-то удовольствие от общения со своими родными или от манхэттенского общества? Ее настоящий родной дом – Париж. Неужели ее единственной целью было проучить Чарлза? До чего же странно ведут себя люди, столкнувшись лицом к лицу со смертью!
Неожиданно сгустились сумерки. Пора было идти переодеваться к обеду. Щелкнув языком, Вера разбудила Биби, и они медленно зашагали в каюту. Какую же она сотворила глупость!
* * *
Еще по пути в Европу Констанция поняла, что, оставив семейные и общественные обязанности и оказавшись на корабле, пассажиры могут делать только одно – наслаждаться бездумным отдыхом. И они не только дремлют в шезлонгах, читают, танцуют и занимаются спортом, но и играют в салонные игры и подвергают себя участию в глупых состязаниях. Однако гвоздь программы на лайнере – трапезы: обеды, коктейли, чаепития, ужины. Французская еда славилась необыкновенным вкусом и изысканностью, и пассажиры под стать этим фантастическим блюдам разодевались в кружева и бархат, украшали себя цветами и драгоценностями.
Поскольку Констанция путешествовала одна, она не удосужилась заказать себе столик и выбор вечерней застольной компании предоставила воле случая. В лиловом шелковом платье она неторопливо вошла в огромную, полную пассажиров комнату. Ее, немного смущенную, сразу провели к столику в дальнем конце помещения. Не самый престижный стол, – заметила про себя Констанция. Но и за этим столом оставалось одно единственное пустое место, – остальные уже были заняты.
Констанция всем улыбнулась – за столом сидели почти одни мужчины – и представилась. В ответ представились и все остальные: два деловых партнера из Голландии, прекрасно говорившие по-английски, но с непроизносимыми фамилиями, британский офицер капитан Филдинг, с красным, блестящим пятном на лице – следом от недавней операции, и супруги Томас из Филадельфии.
Миссис Томас, несмотря на то что была старше Констанции всего лет на пять или шесть, уже казалась дамой среднего возраста; полная, с серьезным выражением лица, она даже в столовую этого роскошного парохода надела коричневый шерстяной костюм. Констанция улыбнулась своей единственной компаньонке, но та в ответ лишь холодно ей кивнула. Миссис Томас явно не была в восторге оттого, что к их почти целиком мужской компании присоединяется такая молодая, хорошенькая пассажирка, да еще и путешествующая в одиночестве. Хотя миссис Томас была седеющей матроной, лицо ее исказила гримаса избалованного ребенка.
– Миссис Стоун, а что привело вас на борт «Парижа»? – спросил капитан Филдинг.
До того как появилась Констанция, на этот вопрос, судя по всему, успели ответить все сидевшие за столом.
– Я во Франции навещала родственников и возвращаюсь домой, – стараясь не привлекать к себе внимания, ответила она.
– Вы говорите, навещали их во Франции? – отозвался капитан Филдинг. – А как вам понравились на вкус лягушки? И улитки?
Капитан поморщился.
– Я их не пробовала, – с вежливой улыбкой ответила Констанция.
– Вы все это время были только во Франции? – удивленно подняв брови, спросила миссис Томас. – Вы проделали весь этот путь в Европу и ничего больше не посмотрели?
– Нет, я почти все время была в Париже.
– Какая обида – пересечь Атлантический океан и не увидеть Венеции! – воскликнул мистер Томас.
– Кстати, хотя Амстердам и мой родной город, – заметил один из голландцев, – но я с полной объективностью могу сказать, что он ничуть не хуже Венеции. А мостов и каналов в нем даже больше.
– К черту города! – вмешался капитан Филдинг. – В Европе нет ничего красивее Альп!
Они принялись перечислять все самые интересные места континентальной Европы. Констанция не посетила ни одного из них. И снова, как и в последние две недели, она молча, с чарующей улыбкой выслушивала своих собеседников.
Она была готова к тому, что посыплются вопросы, почему она путешествует одна, расспросы о ее жизни и семье, но на этот раз она решила ни одну из этих тем не обсуждать. Она придумала историю, что ездила навещать свою тетю, ее парижского мужа и их многочисленных деток – своих племянников. Констанция даже подумывала выдать себя за вдову. Но ее застольные компаньоны, похоже, не проявляли к ней никакого интереса. Она почувствовала большое облегчение, хотя их равнодушие ее все же немного задело.
– И они называют это изысканной едой, – со смехом заметил мистер Томас, когда принесли рыбное блюдо. – В наших краях, прежде чем подать рыбу на стол, у нее отрезают голову и хвост!
Констанцию удивило, что мистер Томас нисколько не стесняется своей провинциальности. Она и сама предпочитала филе, но никогда не стала бы говорить об этом.
– А вы, господа европейцы, ловите рыбу? – машинально поправив шиньон, спросил мистер Томас.
Мужчины мгновенно окунулись в оживленную беседу о рыбалке, включая нескончаемые рассуждения, какой длины леска и какие удочки и катушки могли бы понадобиться для ловли рыбы с океанического лайнера.
– Я бы сказал, лески нужно ярдов сто… не меньше! – высказался капитан Филдинг. – Это все равно что ловить с высоты десятиэтажного дома. А если поймаешь какую-нибудь стоящую рыбу, попробуй еще ее вытянуть!
Поскольку Констанция в рыбалке ничего не смыслила, она стала с интересом оглядывать большую, обшитую деревянными панелями комнату. Какой-то мужчина в твидовом костюме читал нотацию сыну-подростку, а тот не обращал на него ни малейшего внимания; дама в бархатном платье вытирала пюре с подбородка своего двухлетнего чада. «Интересно, а как все выглядит в первом классе? – подумала Констанция. – Неужели в окружении роскоши беседы намного занимательнее? А в третьем классе? Болтовня рабочего люда груба и непристойна?» Как бы то ни было, и в том и в другом случае разговоры наверняка намного занимательнее, чем за ее столом.
* * *
Медленный проход по британским прибрежным водам и остановка в Саутгемптоне благотворно сказались и на настроении, и на желудках большинства пассажиров третьего класса. Во время ужина в столовой царило настоящее веселье: то и дело слышались громкие возгласы и взрывы смеха, и почти все тарелки были так тщательно вытерты хлебом, что слуги недоумевали: ел кто-то из этих тарелок или нет? Жюли чувствовала себя лучше, ее уже меньше тошнило, она была намного бодрее и даже не расстроилась, когда мадам Трембле объявила, что им придется обслужить еще одну смену – британцев и ирландцев, которые сели на пароход в Саутгемптоне.
Многие из новоприбывших пассажиров, да и многие из тех, что взошли на борт утром в Гавре, собирались эмигрировать в Соединенные Штаты. В прессе появились слухи, что американское правительство вот-вот ужесточит иммиграционные законы, и, пока новые реформы не вошли в силу, люди торопились перебраться в Америку. Жюли шла вдоль длинного стола, доливая новым пассажирам вина, вновь наполняя корзиночки хлебом (боже, какие же они голодные!) и слушая их возбужденные разговоры.
– За Нью-Йорк! – подняли стаканы с красным вином молодые ирландцы.
– За быстрые машины и проворных женщин! – воскликнул какой-то парень, не потрудившийся снять в столовой шерстяную шапку.
– Мой дядя Нед говорит, что там вовсю идет строительство небоскребов, – подал голос бледный веснушчатый паренек. – Туда и пойду работать.
– Что?! – вскричал другой, рыжеволосый. – Расхаживать по железным балкам? Сто-двести метров от земли? А если свалишься?
– Пока будет лететь, успеет трижды прочитать «Пресвятую Деву Марию» и один раз «Отче наш»! – рассмеялся парень в шапке.
– А я попробую раздобыть работу в порту, вроде той, что выполнял у нас в Ливерпуле, – объявил рыжеволосый. – Но главное в том, что получать за нее буду вдвое больше!
– Нет, главное совсем в другом! Главное в том, что можно делать в Нью-Йорке, когда не работаешь! – отозвался парень в шапке. – Там есть джазовые клубы, бокс, скачки…
– И нет никакой выпивки! – нахмурившись, вставил рыжеволосый.
– А дядя Нед говорит, что выпивку достать можно, – откликнулся бледный парнишка. – Он говорит, что там можно достать все что угодно!
– Эй, мисс! – окликнул Жюли рыжеволосый. – Принесите еще вина!
Доливая в стаканы вино, Жюли размышляла о Нью-Йорке. Почти все пассажиры третьего класса с нетерпением ждали прибытия в этот город, – жаждали начать новую жизнь. А Жюли уже воображала, как впереди покажутся современные очертания Нью-Йорка, и предвкушала прогулки по его улицам, ведь прежде чем корабль снова пересечет Атлантику, членов экипажа наверняка отпустят побродить по городу.
Когда последние пассажиры из Саутгемптона покинули столовую и направились кто в общую гостиную, кто на палубу, а кто к себе в каюту – в каждой по четыре двухъярусные кровати, – прислуга убрала со столов и помыла столы. Как только в столовой стало чисто, рабочий день Жюли закончился.
Придя в спальню, она сняла форму и, надев халат, принюхалась к исходившему от нее запаху: от одежды пахло потом, грубой пищей, нашатырным спиртом и рвотой. Пожалуй, этот букет запахов рассказывал обо всех обязанностях на новой работе.
Переодеваясь в халат, Жюли оглядела комнату. Девушкам, обслуживающим пассажиров первого и второго классов, – гардеробщицам, няням, продавщицам сигарет и всем прочим – предстояло работать еще не один час, тогда как в третьем классе большинство работниц уже были в постели.
Положив материнское кружево под подушку, Жюли забралась под одеяло и тут же почувствовала вибрацию двигателя. А помимо его шума услышала, как кто-то тяжело дышит, кто-то похрапывает, кто-то переворачивается с боку на бок, а кто-то бормочет во сне что-то нечленораздельное. Правда, Симона – лежавшая прямо над ней – не издавала ни единого звука. Жюли, в надежде хоть немного охладить шею, подложила под нее влажные руки. «Париж» вышел в открытый океан, и к горлу опять подступала тошнота. Только бы перестало качать! Только бы снова почувствовать себя по-человечески!
Неожиданно в изножье кровати что-то зашевелилось. Жюли напряженно вгляделась в полутьму и обнаружила два маленьких сияющих глаза. Мышь! В их прибрежном доме всегда водилось полно мышей, и, к неудовольствию матери, Жюли пыталась некоторых приручить. Кусочками засохшего хлеба она пыталась заманить их в коробку и превратить в домашних животных. Жюли улыбнулась мышонку и поманила его пальцем.
Наблюдая за тем, как мышонок проворно шевелит лапками, она почему-то вспомнила одно из писем, присланное Лоиком с фронта – их часть тогда почти полгода стояла неподалеку от Реймса. Из всех ее братьев он единственный регулярно присылал письма с фронта, и Жюли каждый раз с неиссякаемым интересом читала его описания окопной жизни: о необъяснимом уюте блиндажа, о ромашках, маках и подсолнухах, цветущих в этой далекой земле, и о том, каково спать в промокших сапогах.
Однажды Лоик описал, как после проливных дождей окопы стали такими скользкими, что лягушки и полевые мыши, соскользнув в них, не могли выбраться назад. Сотни зверьков застряли в глубоких траншеях, точно в ловушке, и ночью солдаты то и дело невольно крушили их своими тяжелыми сапогами. Жюли почувствовала, как у нее защекотало в носу и перехватило дыхание – первые признаки того, что вот-вот хлынут слезы, – и тогда она медленно, глубоко вдохнула и выдохнула. Это ее первая ночь на корабле – нет, она ни за что не расплачется!
– Застряла, малышка? – прерывисто прошептала Жюли.
Мышь соскочила с кровати, метнулась по полу и исчезла.
Жюли подумала, что, пожалуй, она тоже не прочь прогуляться. Несмотря на то что она целый день выполняла одно поручение за другим, она не чувствовала усталости. Весь прошедший день она мечтала очутиться на палубе, подставить лицо солнцу и подышать свежим воздухом. Приподнявшись в постели, она устремила взгляд в дальний конец комнаты, где лежала мадам Трембле. Под грудой одеял ее почти не было видно. Жюли слезла с постели и в узком проходе между кроватями переоделась в повседневное платье и жакет. Прихватив с собой туфли, она вышла в коридор, обулась и начала подниматься по лестнице. Чем выше она поднималась, тем прохладнее становился воздух и тише шум мотора.
Выйдя на палубу, Жюли двинулась к середине корабля, где качка, как предполагалось, была слабее, чем в прочих частях корабля. Она молча прошла мимо целующихся парочек и любителей романтичных прогулок и встала возле перил. Овеянная ночной прохладой, Жюли устремила взгляд на воду. Из бального зала первого класса доносились едва слышная игра оркестра и переливчатые голоса танцоров и любителей поздних трапез – всех тех, кто явно отказывался признавать, что они уже больше не на суше.
Жюли запрокинула голову к небу и, закрыв глаза, наслаждалась прохладой воздуха; прошла минута-другая, и она почувствовала себя немного лучше. Она медленно открыла глаза и посмотрела на звезды. Здесь, посреди моря, с того места, где стояла она, им просто не было числа. Из кухонного окна их дома в Гавре «Париж» казался громадиной, но здесь, посреди бескрайнего черного океана, под бескрайним звездным небом, он казался маленьким и, пожалуй, уязвимым.
Заглядевшись на Млечный Путь, Жюли снова вспомнила Лоика. Ее старшие братья, Жан-Франсуа, Эмиль и Дидье, были старше ее лет на восемь-двенадцать, и после того как они пошли работать, казались ей не столько братьями, сколько постояльцами: они то уходили, то приходили, а приходили часто только к обеду, изредка шутили, но чаще бывали усталыми и безразличными, и их ничуть не интересовали детские проделки. Лоик же казался ей почти близнецом. Поскольку разница в возрасте у них была всего тринадцать месяцев, и родители, и братья не называли их иначе как «малыши». К ним почти никогда не обращались по именам, и вообще не обращались отдельно – их вместе бранили, им вместе отдавали приказания и их воспринимали как одно целое.
Когда в 1914 году три старших брата записались в армию, они сфотографировались втроем в новой форме. Эта фотография со временем истончилась от беспрестанного поглаживания и покрылась пятнами от слез. На снимке они стояли плечом к плечу – Эмиль, самый высокий, посредине, – у всех одинаковые усы, на всех одинаковые, небрежно надетые новенькие фуражки. И хотя фотография была в коричневых тонах, Жюли до сих пор не забыла их ярко-красных брюк и светло-голубых облегающих фигуру мундиров. Прежде она видела своих братьев только в грязных рабочих комбинезонах или дешевых костюмах на выход, а теперь, когда эти трое облачились в военную форму, Жюли подумала о том, что никогда в жизни они не выглядели такими достойными и привлекательными.
Высовываясь из окна поезда – каждый в своем полку, – они бряцали оружием и восторженно улыбались толпе, кричавшей: «На Берлин!» Местные уже считали их героями. А стоявшие на платформе родители сияли от гордости.
Всякий раз, когда один из старших братьев погибал на фронте, в Жюли умирала частица ее самой. В рыбной лавке или в булочной на нее вдруг накатывали теплые детские воспоминания – рассказанные ими истории, катания на лошадях, любительские фокусы, и она, не обращая внимания на жалостливые взгляды продавцов, начинала молча плакать. Но в то время как Жюли скорбела, ее родители, полностью погрузившись в собственную скорбь, отстранились от младших детей и с каждой новой официальной повесткой уходили все глубже и глубже в себя. Они стали молчаливы и холодны – пустой оболочкой прежних родителей – и Жюли почти не замечали. А потом, когда Лоику исполнилось семнадцать, он объявил, что тоже идет на войну.
– Здравствуйте, Жюли Верне!
Она испуганно обернулась: кто это ее окликнул? И кто здесь знает, как ее зовут? Неужели ей сейчас достанется за то, что она вышла ночью на палубу? И разрешено ли ей на борту носить повседневную одежду? Из темноты показался высокий крупный мужчина, и Жюли тут же признала в нем того самого русского, с которым она познакомилась, когда лайнер еще стоял в порту, – того самого человека, чью шляпу она так ловко поймала.
– Вы Николай, верно? – с облегчением рассмеявшись, сказала Жюли. – Вы меня напугали. Я уже подумала: сейчас мне достанется за то, что я вышла на палубу!
– Когда я поблизости, бояться вам нечего, – подмигнув, ответил Николай.
Он встал возле нее и устремил взгляд на сиявшие в безоблачном небе звезды. Рядом с этим человеком Жюли казалась себе маленьким ребенком. Его массивные по сравнению с ее крохотными руками пальцы теперь небрежно отбивали ритм регтайма. Повыше запястья у него была синяя татуировка – пять-шесть перекрещенных линий. Жюли пыталась понять, что она значит. Тайный символ, какой-то инструмент или перевернутый крест? У нее вдруг промелькнула мысль, что эта татуировка имеет отношение к войне, что Николай сражался на фронте и ему посчастливилось остаться в живых.
К уцелевшим на войне мужчинам Жюли нередко испытывала неприязнь. Она знала, что такое отношение к ним нелепо, и тем не менее ее не оставляла в покое мысль: как так могло случиться, что ее братья погибли, а эти люди уцелели? Однако сегодня она порадовалась, что этому дружелюбному человеку удалось остаться в живых. Жюли отвела взгляд от его руки и снова посмотрела на звезды.
– Я люблю приходить на палубу ночью. Здесь так тихо и красиво. – Николай обернулся к ней, и хотя он ее не касался, в ночной прохладе она ощущала исходившее от него тепло. – И я очень рад, что вы тоже сюда пришли. Я так надеялся вас снова увидеть.
– Да, пришла, – смущенно потупившись, отвечала Жюли и замолчала, обдумывая, о чем бы еще с ним поговорить. – А как сегодня было в машинном отделении?
– Жарко! – рассмеялся Николай. – И шумно. А как прошел ваш первый день на работе?
– Боюсь, не слишком хорошо, – вздохнула Жюли. – Весь день мучилась от морской болезни.
Сказав это, Жюли тут же пожалела о признании. Милая картинка! Она, вся зеленая, стоит, склонившись над унитазом. Однако Николай, похоже, был искренне озабочен.
– Ай, ай, ай, – пробормотал он. – Очень жаль. Впервые в море?
– Да, у меня, как и у «Парижа», это первое путешествие. – Жюли улыбнулась и, набравшись храбрости, посмотрела Николаю в глаза.
Он с высоты своего роста ей улыбнулся, а затем облокотился на перила, и их руки соприкоснулись.
– Послушайте, у меня с собой на случай качки есть имбирный чай, – тихо, придавая их беседе некую интимность, сообщил Николай. – Он на самом деле помогает. И я с удовольствием с вами поделюсь.
– Спасибо, – ответила Жюли. – Это просто замечательно! Я так надеялась на чудодейственное средство.
– Вы, наверное, абсолютно непривычны к морским условиям. Откуда вы родом? Из Эльзаса? Оверня?
– Нет, совсем из других краев. Вы были в моем городе сегодня утром. Я из Гавра. А вы? – Жюли тайком пригладила волосы. – Откуда вы, Николай, родом?
– Из Санкт-Петербурга. Теперь его называют Петроградом. Но моя семья уехала оттуда в семнадцатом году, после революции. Мы в конечном счете поселились в Париже.
– Уехать из России во время войны, наверное, было нелегко, – тихо проговорила Жюли.
Они продолжали стоять, молча глядя на воду, и от его руки по-прежнему веяло теплом. «Интересно, о чем он сейчас думает? – размышляла Жюли. – Неужели он находит меня привлекательной? Его не смущает моя родинка? Хорошо, что он стоит слева».
– Слышите музыку? – отвлекая ее от мыслей, заговорил Николай; и действительно из бального зала теперь доносились звуки вальса. – В России постоянно звучала музыка… Мы пели везде… в приютах для бедных, в тюрьме, даже на войне!
Николай грустно улыбнулся, повернулся к Жюли и посмотрел ей в глаза.
– Знаете, у вас музыкальная красота, – тихо произнес он. – Вы такая маленькая, такая хрупкая… И все же вы пленили меня, словно мелодия, которая не переставая звучит у меня в голове.
Таких комплиментов Жюли никто никогда не делал. Может, он шутит, подумала она. А может, выпил лишнего? Но Николай произнес эти слова совершенно искренне. У Жюли никогда прежде не было поклонников, и она не знала, что и ответить, как себя вести.
– В Гавре у вас, наверное, была тьма поклонников, – добавил Николай и накрыл ее руки ладонью.
– Н-н-нет, – краснея и запинаясь, проговорила Жюли. – Я бы этого не сказала.
Ее тело вдруг поддалось волне его тепла. Взволнованная и смущенная, она опустила взгляд, и перед ее глазами снова мелькнула его синяя татуировка.
– Можно мне поцеловать вас? – наклонившись к ней, мягко, почти напевно прошептал Николай. – Можно?
Жюли почувствовала его дыхание и мгновенно поняла, что события развиваются слишком уж стремительно.
– Мне надо идти, – пробормотала она. – Моя начальница спохватится, что меня нет, и рассердится. Честное слово, мне надо идти.
– Жюли, бросьте, – ухватив ее за прядь волос, принялся уговаривать Николай. – Побудьте еще немного.
– Спокойной ночи, Николай!
Жюли решительно зашагала по палубе. Она боялась, что он за ней последует, – правда, в какой-то мере ей этого и хотелось, – но Николай не двинулся с места.
– До завтра, моя маленькая Жюли! – выкрикнул он.
Сердце Жюли громко стучало, и она, словно пытаясь скрыться от собственного возбуждения, ускорила шаг, пока в конце концов не побежала. Жюли летела по коридорам и вниз по лестницам. Она мчалась в отделение третьего класса подобно мыши, которая стремглав несется в свою нору.
Добежав до спальни, Жюли остановилась, чтобы отдышаться. Она сбросила с ног туфли и подумала: что же все-таки случилось? Николай хотел ее поцеловать! Вспоминая, как этот красивый мужчина ей улыбался, как шептал ей комплименты, она изумленно теребила родинку и никак не могла поверить случившемуся. Наконец Жюли пробралась в спальню и снова переоделась в пижаму. Она укрылась прохладной простыней, и от одной мысли об исходившей от Николая теплоте и воображаемом прикосновении его губ ее пробрала дрожь. Жюли вспомнились его последние слова «До завтра!», и она, устремив взгляд к кровати Симоны, широко улыбнулась.
3
Удачи! (фр.)
4
До свидания, ребята! (фр.)
5
Как красиво! Это самый большой трансатлантический лайнер! Машинное отделение потрясающее! (фр.)
6
Хорошего путешествия! Да здравствует Франция! Да здравствует Америка! (фр.)
7
Bête noire (фр.) – идиоматическое выражение, обозначающее неприятного человека или неприятное занятие.
8
Один из крупнейших испанских писателей и драматургов.
9
Пожалуйста, зарезервируйте шезлонг на палубе первого класса для мадам Веры Синклер (фр.).
10
От англ. Stone – камень.
11
Вы, месье, доктор? (фр.)