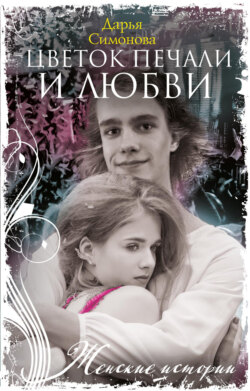Читать книгу Цветок печали и любви - Дарья Симонова - Страница 3
Соловей Уайльда
ОглавлениеЯ начала привыкать к этому распорядку. Полночи – читаю, редактирую. Потом сплю; главное – не заснуть с угрызениями совести у тихо сопящего, самоотверженного компа, потому что потом проснешься – и бездна нахлынет на тебя! Так лучше не делать, но иногда выходит. А с утра – опять работы уйма! И Энн наладилась звонить, когда гуляет с Тучкой. Нет, это не впервые, когда у собаки есть и имя, и несколько прозвищ, но Тучка мне нравится больше, чем Черчилль. Потому что дурашливый, инфантильный и добродушный пес уж больно не похож на приземистую британскую тыкву с сигарой. Но раз уж в его окрасе присутствовали английские охотничьи мотивы, то… в общем, пес не жаловался. Он как сыр в масле катался, и Энн с упоением рассказывала о своих хлопотах и тревогах по части его пугливости, капризов и хрупкого здоровья, в частности пугающего интимного уплотнения. Она могла рассказывать это и утром, и в сумерках – гулять с изнеженной собакой приходится в любое время. Мы с Алешей так и прозвали эту подвижную часть дня – энергичную, насыщенную срочными делами, новостями и медийным мусором – «Бубенцы Черчилля».
И в этот час, когда житейские насмешки побеждают боль, – а боль может победить лишь смех с тем, кто знает эту боль, – и пришла ко мне та непостижимая история, в которой мне было предложено участвовать. Предтечей тому послужила Аполлинария с ее обострением паранойи. Это не то чтобы удивило меня – на протяжении нашего уже почти двухгодичного знакомства Полли уверенно демонстрировала разные симптомы психической неадекватности, но так как все они не фатально мешали нашей дружбе и совместному труду на литературной ниве, я не считала себя вправе делать выводы. Ведь Полли со своей шизой и правда мне помогала, в отличие от многих формально здоровых знакомцев. Я знала, что она принимает препарат, который мелькал в англоязычных фильмах. Мелькал в роли лекарства от психических расстройств. Вряд ли это свидетельствовало о его эффективности, скорее наоборот – то, что действительно помогает, держат в тени. На виду лишь фуфло с массой побочек. Но, кажется, Полли к ним привыкла. Кажется, польза превышала вред.
Итак, Аполлинария на три дня выпала из эфира, а потом вернулась, опасливо озираясь, с убеждением, что она под колпаком у злоумышленников. Но прошло часа два – и наваждения как не бывало! Полли вообще барышня отходчивая и оптимистичная, и ей милее розовые иллюзии, чем сумрачные. К тому же после темных приступов эйфория обычно стреляла выше, дальше, быстрее! И вот уже наша сестрица Гримм уверена, что получит за свою сказочную эпопею какую-то невероятную премию из рук самой Джоан Роулинг, в переводе на наши деньги миллионов девять, – и, бывало, заранее смотрит на меня свысока. Но ее тщеславную вспышку всегда гасит великодушная фантазия о том, что она одарит меня частью своего шального приза, словно Бунин, получивший Нобелевскую, – своих обнищавших соотечественников-эмигрантов.
Но в этот раз маятник качнулся в третью сторону.
– У нас тут жуткая, просто невозможная история! Я знаю эту семью! Прекрасные люди, муж-преподаватель, она, Лариса, тоже до рождения детей чему-то учила… В общем, у них дочка старшая и мальчик-инвалид. Очень слабенький! И вдруг он… все! Не выдержал мучений, скончался. Возможно, к этому все шло, хотя они его берегли не знаю как! Но вот… случилось. И вдруг жена обвиняет мужа в убийстве ребенка!!! Вроде как муж давно хотел прекратить страдания сына… или, по ее версии, он прежде всего хотел прекратить свои страдания, он сразу после рождения хотел оставить дитя в роддоме, и вся его родня – она давно ополчилась на жену за этот бессмысленный подвиг…
«Бессмысленный подвиг…» – отзывается во мне топорище страшного эха и падает внутри, разрывая все нутро, как осколочная граната.
Аполлинария с садистской тщательностью живописует подробности, но я в тот первый день пропускаю их сквозь пальцы. И дело вовсе не в том, что я не доверяю источнику, – я доверяю, но избирательно! Ведь Полли пишет фэнтези… Она по определению не может передать реальность достоверно. Таково уж свойство чрезмерно разработанного воображения. Можно возразить, что писателю, как и актеру, необходимо уметь выходить из роли, но хрупкой психике все эти входы и выходы противопоказаны, и Полли, очевидно, это поняла, когда ее рассудок начал покрываться кракелюрным узором трещинок, как полотна старых мастеров. И она – интуитивно! – однажды решила, войдя в свой причудливый мир, не выходить из него. Оказалось, что так вполне можно балансировать на грани, при условии, что в твоем мире есть окна в реальность. Однако окна окнами, а наблюдать из них цветущий сад и гулять по нему – не одно и то же…
– …я его видела, наверное, два или три раза. Он улыбался! Я больше никогда не видела, чтобы человек в инвалидной коляске улыбался… В нем была над мирная энергия светлого воинства, вот как бы я это назвала! И он знал меня по имени, представляете? Никогда это не забуду: «Здравствуй, По!» Он не все выговаривал, у него язык словно в трубочку сворачивался, но это «По» у него получилось так торжественно и одновременно непринужденно, что мне захотелось взять такой псевдоним. Но ведь один По уже есть… Я после той встречи написала ваш любимый рассказ…
– Про джазовую певицу в доме престарелых?
– Да! – Полли горделиво расцвела.
– Так что же теперь будет… с этой семьей? И что значит «жена обвиняет мужа»? Она написала заявление? Но это за гранью… а старшая девочка? Это же ад кромешный для нее…
– Вмешательства карательных органов не будет. Наказание будет другим. Будет суд человеческий!
Я незамедлительно представила, как толпа разрывает на части преступного и несчастного отца, и импульсивно метнулась на сторону его защиты. Он не мог! Это оговор безутешной матери. Я знаю, как это бывает – ту вину, которую ты возлагаешь на себя, ты не силах вынести. Поэтому боль разливается по всему твоему миру, боль и вина распределяется на всех. А потом… этот окровавленный кинжал возвращается на круги своя – в твое сердце, точнее, в ту дыру, откуда его вырвали…
– Лариса хочет, чтобы люди знали о том, как бывает… – распалялась Полли, – о том, что может произойти в твоей собственной семье! Она собирается подробно описать это у себя в блоге, а потом написать книгу… – Аполлинария споткнулась. – Знаете, это приземленно и кощунственно – вкратце пересказывать такую трагедию!
Мне захотелось возразить, что еще кощунственнее – равнодушие. Прохладный интерес, уродливо выраженный в обывательских искажениях. И само упоминание о блоге, неуместное соседство тщеславной жажды внимания, вирусом которой мы теперь больны… Но «бессмысленный подвиг» уже накрывал меня удушьем, и я не могла говорить дальше… И «суд человеческий» продолжал страшить – все же нам с позапрошлого века так и не ответили, а судьи кто… Мир наполняется злобными троллями при малейшей возможности кого-то судить…
Я пообещала перезвонить и погрузилась в деятельную тоску. Но вместе с ней пришло и открытие – я снова знаю чужую боль. Захлопнутая было дверца отворилась. После того, что произошло у нас, – после того, что не имеет названия, – все рассказы о чьих-то несчастьях казались мне пресной бутафорией. Издевкой чужого нарциссического разума. Способом вытянуть из меня последние силы. Но светлый мальчик, вдохновивший Аполлинарию на самый лучший ее рассказ, разорвал в клочья мою скорбную пелену. Мне захотелось что-то для него сделать. Да, для него, пускай он теперь в недосягаемых пределах, но я физически ощутила этот сгусток энергии, этот поток, шедший в мою сторону… Да поймите же, это был не просто лучший рассказ Аполлинарии – это было ее единственное произведение без плагиата.
Впрочем, то, что я называю плагиатом, для Полли – вполне допустимая опора для сюжета. Но ведь обескураживает, когда очаруешься идеей или эпизодом, а тебя огорошат: мол, это я позаимствовала из «Пересадочной станции» Саймака… И так не единожды, хотя я не читала ее главных фэнтези-эпопей. Но история о джазовой певице в доме престарелых – она была без всяких чуждых примесей, она была оригинальная! Может, странно любить всего за один рассказ писателя с толстовским замахом, но я предпочитаю любить за что-то одно, чем не любить вовсе.
И вот в том потрясении и лихорадочном поиске своего места в этой истории меня застала грустная Энн.
– А что вообще нынче можно назвать плагиатом? – отозвалась она с запальчивой меланхолией. – Мы живем в гигантском ирландском рагу, где уж давно не различить первичного ингредиента. Мы черпаем из реки жизни материнское молоко Земли, а что мы возвращаем в эту реку? Не отходы ли нашего сознания? Не миазмы ли нашего больного воображения?.. И даже гении грешны. Взять любимого Чехова. Он описал страдания Лики Мизиновой, которая любила его долго и безнадежно, умея превратить девичьи слезы в хрусталики ироничных эпистол. Чехов описал ее любовные травмы и воплотил в образе Нины Заречной. Это все знают… но как-то не принято говорить о том, что в пьесе он убивает ее ребенка. Не помню, сколько прошло времени после премьеры, возможно, несколько месяцев – и маленькая дочь Лики тоже… я знаю, ты не произносишь это слово, в общем, ты поняла. По-твоему, что это – он предчувствовал или накликал беду? Предупреждал или безжалостно пустил в расход ради красного словца живую детскую душу? И где тут плагиат… искусство, как роза у Оскара Уайльда, забирает кровь у соловья и выбрасывает обратно в жизнь бездыханное тельце…
Чувствуя себя обязанной примирить искусство и невинную душу, я понимала, что вот именно сейчас, в эту чеховскую паузу, я должна найти ответ…