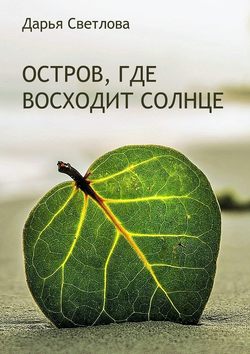Читать книгу Остров, где восходит солнце - Дарья Светлова - Страница 2
Паспортный контроль
ОглавлениеДо Восточного Тимора из Дарвина летит маленький самолетик, одиннадцать рядов по три сиденья в каждом. Вы можете приехать в аэропорт за два с половиной часа, как того требует представитель авиакомпании «Air North», но дарвиновская пограничная служба откроет свою контору, когда вы переделаете все, что можно, в маленьком зале ожидания. Съедите фиш с чипсами в «Red Rooster», переворошите книжные новинки, примете волевое решение не покупать сувениров и поможете большой индонезийской семье, ожидающей рейса на Бали, сделать группой портрет на фоне летного поля.
– Положите сумки на транспортер, упакуйте губную помаду в полиэтиленовый пакет и скажите «до свидания» минералке, – распорядился таможенник. – Жидкостей можно перевозить не более ста миллилитров, да и те закрыть герметично и до конца перелета не трогать.
Банка из-под таблеток от простуды, куда Дашка бережливо перелила оливковое масло, если и вызвала интерес у таможенника, но отвинчивать крышку он не стал. Покрутил банку в руках, почитал этикетку и сказал, все нормально, забирайте. Для масла это был уже второй перелет. Сначала по маршруту Сидней—Дарвин, в родной бутылке, для устойчивости поставленной в металлическую походную кружку. И теперь в Восточный Тимор.
Австралийская пограничная служба, свирепствуя на въезде в страну, на выезде работала по правилу «чем скорее, тем лучше». В случае с Демидычем правило потребовало исключения. Его паспорт – полученный как дополнительный в Москве – никак не хотел распознаваться даже путем сканирования по новейшей технологии.
– Are you UN? – с надеждой в голосе спросил вертлявый сотрудник паспортного контроля.
Демидыч, огромного роста, в шортах, походных ботинках и завязанной узлом на животе рубахе, если и выглядел как солдат ООН, таковым не являлся.
– Извините, – сказал он. – Я не ООН. Паспорт новый, и каждый раз одно и то же на границе.
– Это Вы нас извините, – вздохнул сотрудник. – Придется проверить. Подождите, пожалуйста. Я скоро.
Через несколько минут из офиса вышел начальник сотрудника, извинился и сообщил, что с паспортом все в порядке. Не удержался и вежливо полюбопытствовал, зачем владелец паспорта – он же Демидыч, он же Дашкин муж, вернее не муж пока еще, а псевдомуж – летит в Восточный Тимор. В том плане, чего же в Демократической Республике Тимор—Лесте делать нормальному человеку, если он не при ООН и не при делах и не один из неприкаянных скитальцев, для которых чем отдаленнее место от цивилизации, тем лучше.
Демидыч показал сумку с фотоаппаратурой, улыбнулся и развел руками, мол, такова се ля ви. Начальник заулыбался, еще раз извинился, пожал руку и пожелал удачи. Вертлявый сотрудник тоже извинился, пококетничал с Дашкой и с наилучшими пожеланиями и приглашениями еще раз посетить гостеприимную Австралию закрыл свой пост до следующего международного вылета.
«До свидания, Австралия! Здравствуй, Восточный Тимор!» – думала Дашка, пока Демидыч пытался запихнуть свое огромное тело в самолетное кресло. Расстояние между рядами было еще меньше, чем в ТУ-144. Подошла бортпроводница и, не обращая внимания на страдания, попросила поставить багаж на багажную полку.
– Извините, можно мы пересядем на места у аварийного выхода? – спросил Демидыч. – Я большой, ноги не помещаются никак.
Бортпроводница оценивающе посмотрела на часть ног, торчащую между шортами и ботинками.
– Подождите минутку, я должна спросить у пилота. Вы ведь хорошо понимаете английский язык, не так ли? Думаю, проблем не будет.
Самолет принадлежал австралийской компании, и правила поведения на борту были австралийские. Через минуту на посадочных талонах девятый ряд был аккуратно исправлен на восьмой.
– Раз вы сидите около аварийного выхода, вы, получается, пассажиры—помощники, – сказала бортпроводница. – Вы готовы помогать в случае аварийной ситуации?
– Yes, – подтвердил Демидыч с заинтересованностью в голосе. Помогать другим Демидыч считал своей почетной обязанностью, даже если о помощи не просили.
– Если возникнет аварийная ситуация, нужно будет по моей команде открыть люк, подняв клапан и повернув ручку, и потянув дверь на себя и вбок. И далее помочь с эвакуацией пассажиров.
– Yes, – повторил Демидыч. – Понял я. Я полжизни провел….
Где Демидыч провел полжизни, австралийскую бортпроводницу не интересовало.
– Посмотрите еще раз, – учительским тоном сказала она. – Поднимаете клапан, поворачиваете ручку и тянете дверь на себя и вбок. Вам понятно?
– … в самолетах. Yes.
– Но только по моей команде.
– Yes.
– Отлично! Вы все еще хотите помогать в случае аварийной ситуации?
– Yes! Обязательно!
Информирование пассажиров-помощников, занявших места около аварийного выхода, проходило согласно действующему регламенту. Бортпроводница должна была не только объяснить, что делать, но и два раза спросить, будет ли пассажир помогать в случае чего. В бумажной версии инструкции было написано: «Если вам достались места около аварийного выхода, но вы не хотите или по состоянию здоровья или по физическим параметрам не сможете помочь, пожалуйста, скажите бортпроводникам и вас пересадят».
Обычно борьба за заветное место у аварийного выхода начиналась около стойки регистрации. Мало кто знал, что бронь на места снималась в последний момент, поэтому первыми приезжать в аэропорт не следует. Все это Дашке рассказал болтливый китаец с австралийским паспортом во время десятичасовой стыковки в Хошимине.
– Я хочу посадочный поменять, – попросил он гида-вьетнамца, опекавшего транзитных пассажиров. – Чтобы сесть у аварийного выхода.
– А что, можно? – спросила Дашка. – Вот так просто? Я бы тоже не прочь.
– Можно, можно, – сказал китаец.
Того, что можно, на поверку оказывается гораздо больше, чем того, что якобы нельзя.
– Я регистрировался шесть часов назад, тогда нельзя было. А сейчас можно. Надо попросить. И не берите место около окна. В некоторых самолетах дверь так расположена, что места для ног нет. Берите в проходе или посередине.
– У нас два места только, – сообщил сотрудник авиакомпании. – У окна и посередине.
– Хотите? – великодушно предложил китаец Дашке. – Берите место посередине.
– Нет, нет, – сказала Дашка. – Вы берите, пожалуйста, это ведь Ваша идея. Я наудачу возьму место у окна.
Место у окна оказалось шикарным, дверь располагалась далеко и имела небольшой выступ, на который можно было задрать ноги.
– Извините, – спросил Дашку проходящий мимо пожилой мужчина. – Как вам удалось получить места у аварийного выхода?
В один момент Дашка переместилась в группу опытных самолето-путешественников.
– Приходите ближе к окончанию регистрации, но не в самый последний момент. И попросите, дав понять, что знаете процедуру раздачи заветных мест.
Самолетик сделал круг над морем и начал заходить на посадку. До свидания, Австралия! Привет, Восточный Тимор! Забудьте все, чему вас учили в школе, и начинайте учиться заново.
Четыре будки паспортного контроля столицы Восточного Тимора делили поровну два дежурных пограничника. Одну из будок справа ответственно занимал пограничник постарше, в хорошем настроении и добром здравии, в отглаженной рубашечке, застегнутой на все пуговички, с погончиками, нашивочками и еще какими-то, понятными только пограничникам, знаками отличия. В будке слева, как двоечник на галерке, прятался пограничник помоложе, сонный, лохматый и ленивый. Он периодически косил в сторону своего коллеги, пытаясь скопировать важную позу царя на троне, но быстро сдавался, облокачивался на предплечья и, если бы не необходимость смотреть в паспорта прибывших рейсом Дарвин—Дили пассажиров, он бы лег на широкий пограничный стол и уснул. Дашка бы тоже уснула, так как рейс, хотя и значился как дневной, требовал прибытия в аэропорт за два ненужных часа, с упакованными тщательно рюкзаками и иной кладью, накопившейся за пять месяцев путешествия. Пришлось вставать по будильнику, совсем как в кошмарные времена принудительного посещения средней школы города—героя Малые Мневники.
В качестве группы моральной поддержки или поддержания дежурных коллег в работоспособном состоянии шесть веселых и юрких пограничников-помощников стояли по трое в каждой из будок. Помощники возбужденно размахивали руками, делали серьезный взгляд, приглаживали волосы не очень чистыми руками, тыкали пальцами в пустые страницы паспорта, менялись местами в хаотической последовательности и, не переставая, хихикали.
– Здрасьте, – сказала Дашка в левую будку. – Вот мой паспорт.
– Ага, – проснулся пограничник и спросил со всей строгостью. – А где вы, мисс, жить собираетесь, извините?
В ответ на Дашкин вопрос, что писать в графе «место жительства», Демидыч еще в самолете заржал и выдал:
– Да расслабься ты, наконец, как это, silly chicken. Это Тимор. Это я туда еду. А ты вроде как со мной. Вопросы будут задавать, смотри в мою сторону, женщина, я отвечу. Все, мы в Юго-Восточной Азии.
– Вот он тут главный, а я с ним, – Дашка повернулась к Демидычу и сделала страшные глаза, что означало типично женское «я же тебе говорила».
– А? Чего? Даша, он с тобой поболтать хочет, – Демидыч был в Восточном Тиморе проездом год назад, что автоматом предоставляло ему статус опытного местного жителя. Он повернулся и широко улыбнулся Дашкиному пограничнику. Согласно местному коду улыбка означала высокий уровень неудовольствия. Вслух Демидыч произнес:
– Жить будем у Риты в «Бэкпекерс». Рядом с «Тайгер Фьюел». Ферштеен?
«Ферштеен» произнесено не было, но по контексту предполагалось и служило дополнением выше упомянутой улыбке.
– Ах, конечно, – быстро сообразил пограничник и тоже улыбнулся, на американский манер, соблюдая формальности, ибо большой белый мистер мог оказаться кем угодно. – Конечно, мистер, я знаю. «Тайгер Фьюел». Сорри. Вот ваш паспорт, мисс, сорри еще раз и велкам вери мач.
– Кстати, – спросил Демидыч, отыскав визу в паспорте. Паспорт представлял собой гербарий из виз, штампов и отметок о пересечении границы, поскольку Демидыч проехал на мотоцикле из Москвы до Австралии, сейчас, не торопясь, возвращался обратно. – Виза до какого числа действительна?
Помощники произвели сложный рокировочно—ритуальный маневр из одной будки в другую.
– До одиннадцатого, – уверенно сказал один из них.
– А почему здесь до десятого? – спросил Демидыч, улыбаясь еще шире.
Помощники забегали и закудахтали. Как до десятого, куда до десятого, вот ведь написано на тридцать дней, да ладно, мистер, сейчас исправим, не волнуйся только, ах, ручка не пишет, дайте другую, ах, она мажет немножко, зато видно хорошо. Мистер, смотри сюда, исправили десять на одиннадцать. Все ок, мистер, не ругайся, мистер, велкам вери мач, мистер, ведь погода хорошая, обеденный перерыв скоро и вообще все зашибись.
Вот тебе и паспортный контроль. В Дашкиных тревожных мыслях, взращенных родителями при посещении стран бывшего соцлагеря, любой паспортный контроль помимо неприятной процедуры заставлял бороться с глубоко сидящим внутренним страхом. А вдруг не пустят, вдруг не дадут визу, вдруг…
Во второй приезд в Австралию – по окончанию первой трехмесячной визы пришлось лететь в Москву и получать там новую – на паспортном контроле Дашку встретила суровая пожилая женщина с очень короткой стрижкой и взглядом завуча начальных классов в школе с отличными показателями по дисциплине.
– Пожалуйста, пройдите, – сказала женщина, регламентировано улыбаясь и показывая рукой, куда нужно пройти.
Чуть правее за стойкой сидела другая сотрудница.
– Hello, – поздоровалась она.
Со слова «hello» могло начаться что угодно. От простого любопытства, что Дашка собирается в Австралии делать, до процедуры депортации Дашки обратно на родину без суда и следствия. В зоне паспортного контроля царили свои законы и методы выявления не подходящих Австралии посетителей. Особенно страшные для российских граждан, постоянно вынужденных при получении визы и пересечении границы доказывать, что ты законопослушный и ответственный, морально устойчивый и платежеспособный и не считаешь их страну заветным для тебя раем.
– Извините, – сказала сотрудница. – Это стандартная процедура выборочной проверки. Какова цель Вашего приезда в Австралию?
Дашка достала заранее подготовленные документы, подтверждающие, что она собирается писать книгу с картинками, издавать ее в серьезном издательстве, и деньги ей на это дело выделены в достаточном количестве.
– Правда? – спросила сотрудница. – Вы писатель и фотограф? Это так интересно.
Она искренне улыбнулась.
– Извините, – сказала она, – такова процедура. Еще несколько вопросов, и я Вас отпущу. Я вижу, что Вам никак не терпится приступить к своей работе.
Страх страхом, но Дашке никак не терпелось в туалет, а также на встречу с Демидычем, оголодавшим по регулярной сексуальной жизни. Последняя смска от псевдомужа гласила, что он только что купил две обалденные куриные ноги, но мысли его при виде этих ног почему-то ушли совсем в другую сторону.
– Вы уже были в Австралии в этом году? – продолжила опрос сотрудница.
В ее вопросах не было ничего особенного. Обычная процедура проверки. В компьютерной базе австралийского департамента иммиграции и гражданства хранилась подробнейшая информация обо всех приезжающих. Начиная от подачи заявления на визу и до момента выезда. Задавая вопросы, сотрудник сверял информацию в базе с информацией, поступавшей от проверяемого. Ничего более.
Дашка слово в слово повторила то, что говорила в посольстве в процессе получения второй визы. Подчеркнув, что ее австралийский друг по переписке Джон, сделавший ей приглашение для первой поездки, остался в Мельбурне и навещать его Дашка не собирается. Она едет работать. Для достоверности Дашка показала фотоаппарат и компьютер.
– Конечно, конечно, – сотрудница для себя решила, что у Дашки все в порядке и дальше собиралась лишь подкреплять свою версию фактами. – Извините. Можно посмотреть Ваш обратный билет?
Сдаваться Дашка не собиралась.
– У меня билет в одну сторону. Но это законно, – объяснила она. – Я специально позвонила в посольство и спросила, обязателен ли обратный. Они сказали, что не обязательно. Пожалуйста, посмотрите, вот выписка из банка, показывающая, что у меня достаточно денег на три месяца пребывания в Австралии и на билет домой.
– У вас ведь есть доступ к этим деньгам? – спросила сотрудница.
«Прямо как в школе», – вспомнила Дашка. При приеме в первый класс ей показали картинку со слоном и спросили, кто это. Дашка недоуменно ответила, что это слон, а позже у матери спросила, что может не надо в школу, если там не знают, как этот слон выглядит.
– У меня банковская карта Visa, – сказала она и добавила. – Чем хороши Вьетнамские линии, их билет в одну сторону равен половине суммы билета в оба конца. Я не стала покупать обратный, т.к. не знаю точно, когда полечу домой и не хочу платить дополнительно за перенос даты. Я это специально узнала в представительстве авиакомпании.
– А когда вы полетите? – последовал стандартный вопрос.
– Как только закончу, сразу полечу, – ответила Дашка. – У меня виза на три месяца, но я надеюсь управиться за два.
– Конечно, – сказала сотрудница. – Я понимаю. Извините, я покажу письмо и выписку из банка своему начальнику. Но думаю, что все в порядке, и я смогу Вас отпустить.
Дашка стояла у стола, готовая держать оборону до последнего. На кон было поставлено слишком много. От мужчины твоей мечты просто так не отказываются, даже если для этого нужно лететь на другой конец планеты и доказывать пограничникам, что ты здесь с добрыми намерениями.
Сотрудница появилась в дверях и замахала письмом.
– Все в порядке! – радостно сказала она. – Я только занесу информацию в компьютер. Он сегодня барахлит немножко. Извините, буквально пять минут подождите, пожалуйста.
– Конечно! Я понимаю, – Дашка упаковала обратно документы и фототехнику. – Спасибо.
Пара подобных паспортных контролей в базе твоего опыта, и к следующему – даже если это не строго контролируемая развитая страна, а Восточный Тимор, принадлежавший то ли к третьему, то ли к четвертому миру – начинаешь себя готовить еще до вылета, составляя список возможных вопросов со стороны пограничника и тренируя перед зеркалом уверенно-независимый взгляд. Психологи такое поведение называют невротическим.
– Ты здесь посиди, я скоро вернусь.
Демидыч, приезжая в любую страну, даже если в сто двадцать первый раз, в аэропорту садился за столик с хорошим обзором и наблюдал.
– Хорошо помогает понять, кто ты и где ты, – написал он Дашке до того, как они встретились в Австралии. – Сядь, возьми себе кофе или сок какой и оглядись. Не надо никуда бежать, искать такси, думать о гостинице или бытовых мелочах. Успеется. Если сразу побежишь, всю проездку бестолково пробегаешь.
Дашка поставила оба рюкзака ближе и посмотрела вокруг. Кафе, люди, туалет, еще люди, выход с летного поля, снова люди, люди, люди. И дети. Очень много детей. И все на тебя смотрят. В упор, не отрываясь.
Дашка вытащила распечатку по Восточному Тимору с сайта одного из «бывалых» путешественников. Бывалыми считались те, кому по молодости хватило смелости и финансов проскакать галопом по n—ному количеству удаленных от России стран, пожить по неделе в каждой и описать свои приключения в блоге по принципу «здесь был Вася». Отчеты таких путешественников сдобрены перечислением цен на отели и еду, проиллюстрированы плохого качества фотографиями памятников архитектуры и сладко улыбающихся местных жителей. Поиграют такие путешественники в Миклухо-Маклаев и рассказывают в старости внукам, что в двадцать пять все себе доказали, поняли, как мир устроен, вернулись домой, в теплую квартиру, нашли работу непыльную и успокоились.
«Здесь был Вася и выжил». Не думают путешественники, составляя отчеты, что неделю без ущерба для психики, физики и иных систем жизнеобеспечения можно продержаться где угодно. Гостиницу найти без проблем, еда на каждом шагу, и единственное, что от тебя требуется, – соблюдать правила личной гигиены и не попадать в неприятные ситуации, что еще и умудриться надо, чтобы сделать на стандартном туристическом маршруте.
В распечатке полезной информации было мало. Жарко, дорого, нестабильно. Жарко, потому что тропики. Дорого, поскольку в магазинах пусто, а официальная валюта доллар – прямо как в России в начале девяностых. Нестабильно благодаря борьбе тиморского народа за независимость с очередными угнетателями. В вопросах независимости Восточному Тимору не везло с 16 века. Или даже раньше.
В 16 веке до Тимора добрался португальский картограф и романтично назвал его островом сандалового дерева. Белое сандаловое дерево служило объектом торговли. С острова его вывозили в Индонезию и Индию до появления европейцев, и даже в китайских летописях Тимор засветился как Ти—Ву. Остров был поделен на мелкие королевства, которые воевали друг против друга, отрывая в случае особого интереса противникам головы. Соотечественники картографа, оценив обстановку, построили на острове колонию. И с этого момента началась борьба тиморского народа за свою землю.
Португальцев не только сандал интересовал. Вместе с торговцами появились монахи—доминиканцы с целью обратить неверных в правильную католическую веру. Согласно преданию, огромный корабль появился на горизонте, на нем был большой бородатый мужчина с черном, со звездой во лбу и золотым диском на груди. Сказал монах посланникам местной королевы, что прибыл он проповедовать истинное слово Божие и желает, чтобы местный народ его выслушал.
Королева ответила отказом, хотя милостиво разрешила пополнить запасы питьевой воды. Не заметила она и не заметили ее люди, как чужеземцы вынесли на берег огромный якорь, который тяжелой цепью приковал остров к кораблю. Когда пришла пора уплывать, монах поднял взгляд к небу, сложил руки на груди и отдал команду матросам. Корабль двинулся, но – о, Боже! – остров тоже сдвинулся с места. Тиморцы побежали к якорю, одни рубили его мечами, другие жевали бетель и выплевывали магическую жвачку на цепь, чтобы она разрушилась. Ничего не помогало.
Взмолились туземцы. «О, Бог всех морей и океанов, Бог глубоких вод и песчаных пляжей! Пожалуйста, оставь нашу землю, не забирай с собой». И ответил монах: «Раз вы не захотели услышать истинное слово Божие, придется мне забрать ваш остров и увезти его вместе с вами в мои края». Заплакали туземцы: «Пожалуйста, останься здесь, но только не увози нас с собой».
Корабль остановился, остров остановился, монах сошел на берег. Уверовали туземцы и посчитали монаха святее всех местных святых. Королева устроила в честь прибывших пышный прием и пожаловала дом на берегу. Монах разъяснил туземцам слово Божие; так тиморцы стали христианами.
Если отмотать пару веков назад, выясняется, что португальцы были не первые, кому остров приглянулся. Пришедшие якобы с Малайского полуострова в 13 веке в поисках лучшей доли тетуны1 отнюдь не мирными методами оттеснили коренных обитателей – атони – на запад, а завоеванную территорию поделили. Они привнесли на остров такие достижения цивилизации как собственность на землю, разделение на высших и низших, необходимость религиозных обрядов и прочее социально—государственное мироустройство. По слухам, и с охотой за головами тетуны мирных атони познакомили и вынудили тем самым к новым условиям жизни приспособиться.
Тетуны жили на востоке, атони на западе. Португальцы селились в портовых городах. Хочешь независимости, забирай семейство и уходи в горы. Хочешь жить в городе, играй по предложенным правилам. Будешь хорошо себя вести, получишь государственную должность, зарплату, дом и жену-полукровку. И не все так плохо. Португальцы привезли с собой ружья, лошадей, хлопок, кукурузу, золото, ткани. Кофе начали выращивать. И места всем хватает. Но не прошло и ста лет, как появились голландцы и заявили о правах на западную половину острова. Португальцам пришлось потесниться. Так спокойная жизнь закончилась.
Голландцы закрепились на западе, уходить не собирались и строили свои планы по колонизации. Короли местные не прекращали междоусобицы, и работы с ними было хоть отбавляй. Что касается католичества, в удаленных местах народ в новую веру обратили, но они продолжали молиться своим богам и жить так, как привыкли. Для управления всеми пришлось строить дороги, что вышло не скоро, только к началу 20 века.
В шестнадцатом веке португальский губернатор был назначен для руководства островом, как факт признания новой колонии. На побережье был построен город Дили – столица португальского Тимора и столица нынешнего Тимор-Лесте. Тиморцы сопротивлялись отчаянно, один раз армию в четыре тысячи человек собрали, но сделать ничего не смогли.
В начале 20 века остров Тимор официально разделили на западную голландскую часть и восточную португальскую. Для большего порядка ввели новую территориальную единицу – военный округ, со всеми вытекающими последствиями: территориальными законами, сводами правил «чего можно, чего нельзя», солдатами для поддержания требуемого порядка и тюрьмами для тех, кто этот порядок нарушал.
Порядок обустроили, но начались проблемы другого характера. Чтобы вернуть к жизни умирающие плантации кофе и торговлю сандаловым деревом, пришлось повысить налоги и ввести обязательную трудовую повинность. Не получилось. И с этого момента медленно, но верно португальский Тимор был предоставлен самому себе.
В начале второй мировой войны португальцы уехали, а на остров высадилась очередная партия иностранцев – австралийцы, с целью предотвращения японского вторжения. Японцы и правда появились, началась война, австралийцев вытеснили, но позже и сами были вынуждены убраться восвояси. Индонезия забрала западную голландскую часть Тимора, а восточная оставалась португальской колонией, пока новое португальское правительство не отказалась от всех заморских владений.
Но на этом мытарства в Восточном Тиморе не закончились. Страна объявила о независимости, но Индонезия не согласилась и начала совсем не мирный процесс «интеграции» страны в двадцать седьмую индонезийскую провинцию.
В 1989 году Восточный Тимор был открыт для туристов. Дороги были построены, госучреждения. Туристы редкие заезжали, и торговля шла не шатко, не валко. Вдруг, откуда не возьмись, экономический кризис. Новый президент Индонезии задал восточным тиморцам вопрос, требующий определенного ответа. Готовы ли восточные тиморцы жить отдельно от Индонезии. Семьдесят восемь процентов восточных тиморцев неожиданно высказались утвердительно. Начались беспорядки. Президент запросил миротворческую помощь ООН. Так в Восточном Тиморе появились очередные иноземцы, на этот раз с миром и по официальному приглашению. Тем более, что одновременно с независимостью, встал вопрос о нефтедобыче. Нефть оказалась в глубоком синем море в территориальных водах Восточного Тимора, и было понятно, что сами тиморцы со своей нефтью не справятся.
Постепенно вопрос с отделением от Индонезии был решен. ООН порядок в стране контролировала до 2002 года, когда была провозглашена вторая независимость Восточного Тимора. И продолжила контролировать лично по просьбе восточнотиморского президента, дабы не оставлять ни его, ни его помощников, ни мирных жителей на произвол судьбы в стране, основной доход которой состоял из иностранной гуманитарной помощи.
«Что спросил австралийский начальник? Чего в Демократической республике Тимор—Лесте делать нормальному человеку? – задумалась Дашка. – А тут еще Демидыч со своим „кто я, где я“. Понять бы, кто я, для начала. Жила-была городская девочка. Танцевала, рисовала, работала и была радушной хозяйкой в собственной квартире. А потом бросила все и уехала. И скитается уже год. Не одна, конечно, в прямом смысле слова. Но ответственность за себя, любимую, совсем другая».
Дашка вздохнула. Демидыч в ответ на экзистенциальные вопросы раскатисто смеялся и снисходительно предлагал ерундой себе мозг не забивать. Живи как живется. Что происходит сегодня, то и происходит. Как ты реагируешь, такая ты и есть. А хорошо это или плохо – гони подобные мысли, поскольку в реальном мире, настоящем, никем не регулируемом, таких понятий не существует.
– Чего грустная такая? Надо бы ехать.
Демидыч глотнул воды из маленькой бутылки стоимостью один американский доллар и рявкнул:
– Такси, мужики!
Мужики ростом в сто шестьдесят сантиметров, одетые в штанишки цвета хаки и застиранные футболки, деловито встрепенулись и важно запросили:
– Десять долларов, мистер.
Такси за десять долларов предназначалось для неопытных туристов-бэкпекеров и для рядовых сотрудников ООН, которых не встретили в аэропорту.
– Ошибочка, мужики, – заржал Демидыч. – Мы и за пять не поедем.
Договорились на четырех с залетным таксистом. Всю дорогу он по-детски искренне радовался, потирал ладошки и смеялся, как ему удалось обхитрить аэропортовскую таксистскую мафию и увезти с собой пассажиров.
«Куда я еду? – подумала Дашка. Экзистенциальный вопрос настойчиво требовал место в замороченной Дашкиной голове. – Хочу ли я, могу ли я… Да у тебя, душа моя, крыша поехала. Да ладно. Приедем на место и разберемся».
1
Согласно другому варианту написания – тетумы.