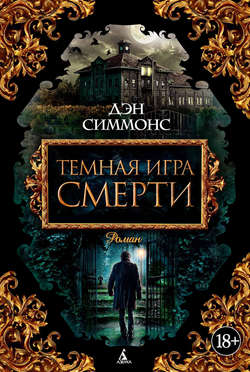Читать книгу Темная игра смерти - Дэн Симмонс - Страница 14
Книга первая
Гамбиты
Глава 10
ОглавлениеЧарлстон
Среда, 17 декабря 1980 г.
Сола разбудили голоса детей, игравших на улице, и сначала он никак не мог сообразить, где находится. Не в своей квартире, это точно. Он лежал на складной кровати под окном с желтыми занавесками. На секунду эти желтые занавески напомнили ему их дом в Лодзи, крики детей вызвали в памяти образы Стефы и Йозефа…
Нет, дети кричали слишком громко по-английски. Чарлстон. Натали Престон. Он вспомнил, как рассказывал ей вчера свою историю, и почувствовал смущение, словно эта молодая черная женщина видела его нагим. И зачем только он рассказал ей обо всем? После стольких лет… Почему?
– Доброе утро. – Натали заглянула в дверь. На ней был красный шерстяной свитер и узкие джинсы.
Сол сел в постели и потер глаза. Его рубашка и брюки, аккуратно сложенные, висели на спинке софы.
– Доброе утро.
– На завтрак яичница с беконом и тосты. Сойдет?
В комнате запахло свежемолотым кофе.
– Отлично, – сказал Сол, – только бекон – это не для меня.
Натали с досадой хлопнула себя ладонью по лбу.
– Ну конечно! – воскликнула она. – По религиозным мотивам?
– Нет, из-за холестерина.
За завтраком они говорили о жизни в Нью-Йорке, об учебе в Сент-Луисе, о том, что это такое – вырасти на юге.
– Это трудно объяснить, – сказала Натали, – но почему-то жить здесь проще, чем на севере. Расизм, конечно, еще жив, но… он меняется. Возможно, люди на юге так давно играют каждый свою роль, и в то же время им теперь приходится приспосабливаться. Наверное, поэтому они ведут себя более честно. На севере все принимает гораздо более грубые и злобные формы.
– Я не думал, что Сент-Луис северный город, – улыбнулся Сол. Он доел тосты и теперь попивал кофе.
Натали рассмеялась:
– Нет, конечно, но он и не южный. Скорее это нечто среднее. Я больше имела в виду Чикаго.
– Вы жили в Чикаго?
– Я провела там часть лета. Папа устроил меня на работу через своего старого друга из «Чикаго трибюн». – Она замолчала, неподвижно глядя в чашку.
– Я понимаю, вам трудно, – тихо сказал Сол. – На время забываешься, потом случайно упоминаешь имя, и все возвращается снова…
Натали кивнула.
Сол посмотрел в окно на длинные листья низкорослой пальмы. Окно было приоткрыто, и сквозь сетку проникал теплый ветерок. Трудно было поверить, что сейчас середина декабря.
– Вы собираетесь стать учителем, но ваша первая привязанность, похоже, фотография.
Натали опять кивнула, встала и еще раз наполнила кофейные чашки.
– Мы заключили с папой нечто вроде соглашения, – сказала она, на сей раз заставив себя улыбнуться. – Он обещал помочь мне научиться фотографировать, если я соглашусь получить образование по какой-нибудь «настоящей профессии», как он это называл.
– Вы собираетесь преподавать?
– Возможно.
Она вновь улыбнулась, уже через силу, и Сол отметил про себя, что у нее прекрасные зубы, а улыбка делает лицо милым и застенчивым.
Он помог ей вымыть посуду, а потом они налили себе еще кофе и вышли на небольшое крыльцо. Машин на улице было мало, детские голоса смолкли. Сол вспомнил, что сегодня среда; детишки, наверное, ушли в школу. Они уселись в белые плетеные кресла, друг напротив друга. Натали накинула на плечи легкий плед, а Сол свою удобную, хотя и немного помятую куртку.
– Вы обещали рассказать вторую часть вашей истории, – сказала Натали.
Он кивнул:
– А вам не показалась первая часть чересчур фантастичной, чем-то напоминающей бред сумасшедшего?
– Вы же психиатр. Вы не можете быть сумасшедшим.
Сол громко рассмеялся:
– О-о-о, я мог бы тут такого порассказать…
Натали улыбнулась:
– Ладно, об этом позже. Сначала вторую часть.
Он помолчал, помешивая ложечкой в чашке кофе.
– Итак, вам удалось убежать от этого негодяя-оберста, – подсказала Натали.
На минуту Сол закрыл глаза, затем вздохнул и слегка откашлялся. Когда он заговорил, в голосе его почти не было никаких эмоций, лишь слабый намек на грусть.
Через некоторое время Натали тоже закрыла глаза, чтобы лучше представить себе ту картину, которую воспроизводил ее гость своим тихим, проникновенным и чуточку печальным голосом.
* * *
– В ту зиму сорок второго еврею в Польше действительно некуда было податься. Я неделями бродил по лесам к северу и западу от Лодзи. В конце концов кровь из раны перестала сочиться, но заражение казалось неизбежным. Я обернул ногу мхом, обмотал ее тряпками и продолжал идти. След, оставленный пулей на боку и правом бедре, болел и кровоточил много дней, пока не затянулся. Я воровал еду на фермах, держался подальше от дорог и старался не попадаться на глаза группам польских партизан, действовавшим в этих лесах. Партизаны пристрелили бы еврея так же охотно, как и немцы.
Не знаю, как я выжил той зимой. Помню, две крестьянские семьи, христиане, позволяли мне прятаться в кучах соломы у них в сараях и давали еду, хотя у самих ее почти не осталось.
Весной я отправился на юг в надежде найти ферму дяди Моше возле Кракова. Документов у меня не было, но мне удалось пристать к группе рабочих, возвращавшихся со строительства немецких оборонительных сооружений на востоке. К весне сорок третьего уже не подлежало сомнению, что Красная армия скоро будет на польской земле.
До фермы дяди Моше оставалось восемь километров, когда один из рабочих выдал меня. Меня арестовала польская «синяя полиция» и допрашивала три дня, хотя ответы мои их, по-моему, не интересовали, им был нужен лишь предлог для избиений. Затем они передали меня немцам.
Гестапо тоже не проявило особого интереса к моей особе, полагая, очевидно, что я – один из многих евреев, покинувших город либо сбежавших во время перевозки по железной дороге. В немецкой сети для евреев было множество дыр. Как и в других оккупированных странах, готовность поляков сотрудничать с немцами сделала почти невозможной любую попытку евреев избежать лагерей смерти.
Неизвестно, по какой причине меня отправили на восток, хотя Аушвиц, Хелмно, Бельзен и Треблинка были гораздо ближе. Нас везли через всю Польшу четыре дня в пломбированном вагоне, за это время погибла треть из находившихся там людей. Потом двери с грохотом распахнулись, и мы, шатаясь, выбрались наружу, вытирая слезившиеся от непривычного света глаза. Оказалось, нас привезли в Собибор.
И там я снова увидел оберста.
Собибор был лагерем смерти. Там не было заводов, как в Аушвице либо Бельзене, никаких попыток ввести в заблуждение, как в Терезиенштадте или Хелмно, не было издевательского лозунга «Arbeit Macht Frei»[32] над воротами, украшавшего многие нацистские двери в ад. В сорок втором и сорок третьем у немцев работали шестнадцать огромных концентрационных лагерей, таких как Аушвиц, более пятидесяти лагерей поменьше, сотни трудовых лагерей и лишь три Vernichtungslager – лагеря смерти, предназначенные чисто для уничтожения: Бельзен, Треблинка и Собибор. Они просуществовали всего двадцать месяцев, но там умерло больше двух миллионов евреев.
Собибор был небольшим лагерем, меньше Хелмно, и располагался на реке Буг. Эта река до войны служила восточной границей Польши. Летом сорок третьего Красная армия теснила вермахт назад, к этой границе. К западу от Собибора простирался девственный Парчев лес, лес Сов.
Весь лагерный комплекс занимал площадь не больше трех-четырех полей для игры в американский футбол, но он очень эффективно выполнял свою функцию «скорейшего достижения окончательного решения еврейского вопроса», на чем настаивал Гиммлер.
Я не сомневался, что скоро погибну. Нас высадили из вагонов и загнали за высокую живую изгородь по коридору из колючей проволоки. Проволока была покрыта пучками соломы, так что мы ничего не видели, кроме высокой караульной вышки, верхушек деревьев и двух кирпичных труб впереди. К лагерю вели три указателя: «столовая», «душевая», «дорога в небо». Кто-то в Собиборе продемонстрировал, очевидно, эсэсовское чувство юмора. Нас отправили в душевые.
Евреи, привезенные из Франции и Голландии, шли довольно покорно, но я помню, как польских евреев немцам приходилось с проклятьями подталкивать прикладами. Рядом со мной старик выкрикивал ругательства и грозил кулаком эсэсовцам, которые заставили нас раздеться.
Не могу точно описать, что я чувствовал, когда вошел в душевую. Во мне не было ненависти, лишь немного страха. Возможно, из всех чувств преобладало облегчение. Почти четыре года мною владело одно могучее желание – выжить. Подчиняясь этому желанию, я просто наблюдал, как евреев, таких же как я, заталкивали в адскую пасть немецкой машины уничтожения. И не только наблюдал, иногда я сам помогал этой машине. Теперь же я мог отдохнуть. Я сделал все, чтобы выжить, но этому пришел конец. Единственное, о чем я сожалел, – это то, что мне пришлось убить Старика, а не проклятого оберста. В тот момент оберст олицетворял для меня все зло мира, и, когда за нами захлопнулись тяжелые двери душевой, перед глазами у меня стояло именно его лицо.
Помещение было набито битком, все толкали друг друга, кричали, стонали. Сначала ничего не происходило, потом трубы задрожали и заурчали, и, когда вместо газа сверху хлынули потоки воды, люди просто шарахнулись от них. Я стоял как раз под душем и, подняв лицо, подставил его под струи, вспоминая о своей семье и сожалея, что не попрощался с матерью и сестрами. И тут на меня вместе с водой накатила волна ненависти, я готов был найти этого арийца и сразиться с ним, чем бы это для меня ни кончилось. А люди вокруг кричали, трубы тряслись и гудели, выплевывая на нас потоки воды.
Господи, те самые душевые, в которых каждый день погибали тысячи людей, использовались и по своему прямому назначению! Какое это было наслаждение – просто смыть с себя грязь и остаться в живых. Наконец нас вывели наружу и подвергли дезинфекции, затем обрили нам головы. Мне выдали тюремный комбинезон и вытатуировали на руке номер. Боли я, пожалуй, и не испытывал.
В Собиборе, где так эффективно «обрабатывали» столько тысяч людей в день, каждый месяц отбирали заключенных для работы по лагерю и прочих дел. В тот раз выбрали наш эшелон.
Все еще оглушенный, я отказывался верить, что меня снова выпустили на свет, резавший глаза, и избрали для какой-то миссии. Я по-прежнему отказывался верить в Бога – любой бог, предавший свой народ, не заслуживал моей веры… Но с того момента я поверил, что есть какая-то причина, ради которой я должен жить. Причину эту можно было представить себе в виде оберста, явившегося мне, когда я готов был умереть. Никто – и меньше всего семнадцатилетний паренек – не мог осознать всей безмерности того зла, которое поглотило мой народ. Но я вполне мог понять недозволенность существования таких, как оберст. Я сказал себе: я буду жить. Жить несмотря на то, что внутри меня уже не осталось этого страстного желания, жить для того, чтобы свершилось то, что уготовано мне. Я вынесу все, лишь бы настал день, когда придет конец этому непотребству.
В течение следующих трех месяцев я находился в лагере-один в Собиборе. Лагерь-два был промежуточной инстанцией, из лагеря-три никто никогда не возвращался. Я ел, что давали, спал, когда позволяли спать, испражнялся, когда мне приказывали, и исполнял свои обязанности в качестве Bahnhofkommando.[33] На мне была синяя фуражка и синий комбинезон с нашитыми на них желтыми буквами «ВК». Несколько раз в день мы выходили встречать прибывающие эшелоны. И до сих пор, когда я не могу заснуть ночью, я вижу надписи мелом на этих запечатанных вагонах – места, откуда они прибыли: Туробин, Горзков, Влодава, Седльце, Избица, Маргузов, Комары, Замосць. Мы собирали багаж евреев, ошеломленных тем, что случилось с ними, и раздавали им багажные бирки. Из-за сопротивления польских евреев, сильно замедляющего обработку, немцы снова взяли за правило сообщать людям, выжившим в эшелонах, что Собибор – это всего лишь перевалочный пункт, место отдыха на пути к центрам переселения. Одно время на станции даже висели указатели с обозначением расстояний в километрах до этих мифических центров. Польские евреи не очень верили этим указателям, но в конце концов они тоже шли в душевые вместе со всеми. А эшелоны все прибывали: Баранов, Рыки, Дубенка, Бяла-Польска, Ухане, Демблин, Рейовец. По крайней мере раз в день мы раздавали евреям из гетто открытки, на которых был текст: «Мы прибыли в центры переселения. Работа на ферме тяжелая, но много солнца, а также много отличной еды. Ждем вашего скорого приезда». Они надписывали адреса на этих открытках и ставили свои подписи, а потом их уводили и травили газом.
К концу лета, когда гетто опустели, эта уловка уже была не нужна. Консковола, Йозефов, Мехув, Грабовиц, Люблин, Лодзь. В некоторых эшелонах живых не было. Тогда мы из Bahnhofkommando откладывали свои багажные квитанции в сторону и вытаскивали обнаженные трупы из вонючих вагонов. Здесь все было как в душегубках в Хелмно, только тела эти лежали в тисках смерти дни и недели, пока вагоны стояли где-нибудь на запасном пути, на полустанке в сельской местности под палящим летним солнцем. Однажды я потащил труп молодой женщины, обнявшей ребенка и женщину постарше, и рука ее оторвалась.
Я проклинал Бога, и при этом мне мерещилась издевательская улыбка оберста. Но я знал, что буду жить.
В июле Собибор посетил Генрих Гиммлер. На этот день было назначено прибытие специальных эшелонов западноевропейских евреев, и он хотел лично понаблюдать за их «обработкой». Вся процедура от прибытия эшелона до последней струйки дыма, поднимавшейся из шести печей, занимала менее двух часов. За это время все пожитки евреев были конфискованы, рассортированы, пронумерованы, сложены в контейнеры и занесены в гроссбухи. Даже волосы женщин в лагере-два обрезали и потом использовали для изготовления войлока или подкладки сапог, которые носили подводники. У немцев-педантов никогда ничего не пропадало зря.
Я как раз сортировал багаж в зоне прибытия, когда мимо, в сопровождении коменданта и многочисленной свиты, прошел шеф гестапо. Я почти не запомнил Гиммлера – невзрачный коротышка в очках, с усиками бюрократа, – но за ним следовал молодой светловолосый офицер. Я сразу узнал оберста. Он как раз наклонился и что-то сказал на ухо Гиммлеру, рейхсфюрер СС запрокинул голову и рассмеялся странным, почти женским смехом.
Они прошли метрах в пяти от меня. Я постарался нагнуться пониже, но когда все же поднял глаза, то увидел, что оберст смотрит в мою сторону. Не думаю, что он меня узнал. Прошло всего восемь месяцев после событий в Хелмно и в замке, но для оберста я, скорее всего, был лишь одним из многих евреев-заключенных, сортирующих багаж мертвых. Я раздумывал всего несколько секунд. Это был мой шанс, но я промедлил, и шанс был упущен. Возможно, в тот момент я смог бы добраться до оберста, схватить его за горло до того, как раздадутся выстрелы. Может, мне даже удалось бы выхватить пистолет у одного из офицеров, окружавших Гиммлера, и выстрелить прежде, чем оберст поймет, что ему грозит опасность.
С тех пор я много раз думал, не было ли там чего-то еще, кроме неожиданности и нерешительности, что остановило меня. Страх мой умер вместе со всем, что оставалось от моего духа, за несколько недель до этой встречи, в той герметически закупоренной душевой. Как бы то ни было, я колебался несколько секунд, а может, и минуту, и время было потеряно навсегда. Гиммлер со свитой двинулись дальше и прошли через ворота в штаб комендатуры – место, известное под названием «Веселая блоха». Я все стоял и смотрел на ворота, за которыми они скрылись, пока сержант Вагнер не заорал на меня: я должен был либо работать, либо отправляться в «больницу». Никто никогда не возвращался из той «больницы». Опустив голову, я снова принялся за работу.
Я был наготове весь день, не спал ночь и весь следующий день ждал, не появится ли оберст, но он не появился. Гиммлер со свитой исчезли ночью.
Четырнадцатого октября евреи Собибора подняли восстание. Я слышал разговоры о его подготовке, но они казались мне до того неправдоподобными, что я не обращал на них внимания. В конце концов весь тщательно продуманный план привел к уничтожению нескольких охранников и безумному рывку примерно тысячи евреев к главным воротам. В первую же минуту большинство их скосил пулеметный огонь. Некоторые в наступившей суматохе прорвались сквозь проволочную ограду позади лагеря. Бригада, в которой был я, как раз возвращалась со станции, когда вспыхнуло это восстание. Конвоировавшего нас капрала забила насмерть хлынувшая в ту сторону толпа, и у меня не было другого выбора, как бежать со всеми остальными. Я был уверен, что украинцы на вышке будут стрелять прежде всего по людям в синих комбинезонах вроде меня. Но я добежал до первых деревьев как раз в тот момент, когда двух женщин, бежавших рядом, скосило огнем с вышек. В лесу я переоделся в серую тюремную робу старика, который добрался сюда, под защиту деревьев, и уже здесь его достала шальная пуля.
По моей прикидке, в тот день из лагеря убежало сотни две заключенных, поодиночке или небольшими группами, большинство из которых не имели руководителей. Та группа людей, что спланировала побег, не предусмотрела, как действовать, чтобы выжить на свободе. Многие беглые евреи и русские военнопленные впоследствии были пойманы немцами либо выловлены и перебиты польскими партизанами. Другие пытались укрыться на ближайших фермах, но там их быстро выдали немцам. Лишь единицы выжили в лесу, да еще некоторые перебрались через Буг, навстречу наступающей Красной армии.
Мне повезло. На третий день блуждания по лесу меня обнаружили члены еврейской партизанской группы, называвшейся «Хиль». Командиром у них был храбрый, совершенно не знавший страха человек по имени Йехиэль Гриншпан. Он принял меня в отряд и приказал врачу подлечить и подкормить меня. Наконец-то мою рану правильно обработали. В течение пяти месяцев я скитался с этим отрядом по лесу Сов, помогал хирургу, доктору Ячику, и спасал жизни людей, когда мог, даже если это были немцы.
Вскоре после того побега нацисты закрыли лагерь в Собиборе. Они снесли бараки, разобрали печи и засадили картофелем поля, где во рвах лежали тысячи трупов, не сгоревшие в крематории. К тому времени, когда наши партизаны отпраздновали еврейскую Хануку, бо́льшая часть Польши уже находилась в состоянии хаоса – вермахт отступал на запад и на юг. В марте ту местность, где мы действовали, освободили войска Красной армии, и война для меня закончилась.
В течение нескольких месяцев советские военные власти держали меня в заключении и допрашивали. Некоторые бойцы «Хиля» попали в советские лагеря «для перемещенных лиц», но меня в мае отпустили, и я вернулся в Лодзь. Еврейское гетто было не просто опустошено – его уничтожили. Во время наступления был разрушен и наш старый дом в западном районе города.
В августе сорок пятого я перебрался в Краков, а оттуда поехал на велосипеде на ферму дяди Моше. Там уже жила другая – христианская – семья, купившая во время войны ферму у гражданских властей. Они сказали, что ничего не знают о местонахождении прошлых владельцев.
В эту же поездку я посетил Хелмно. Советские власти объявили эту территорию запретной зоной, и меня даже не подпустили к лагерю. Я прожил неподалеку от него пять дней и каждый день ездил на велосипеде по всем проселкам и тропинкам. В конце концов я нашел тот замок, вернее, его руины. Он был сожжен то ли артиллерийским огнем, то ли отступавшими немцами, и там не осталось практически ничего, кроме разбросанных камней, обгоревших бревен да обожженного дымохода. Шахматный пол главного зала тоже не сохранился.
На поляне, где когда-то смертниками была вырыта неглубокая могила, я обнаружил следы недавних раскопок. Вокруг валялось множество окурков русских папирос. Я пробовал расспрашивать в местной гостинице, но крестьяне утверждали, что о раскопках братских могил ничего не знают. Они также настаивали, причем довольно агрессивно, будто никто вокруг и не подозревал, чем на самом деле являлся лагерь в Хелмно. Я уже притомился спать, как бродяга, на открытом воздухе и хотел было переночевать в гостинице, перед тем как отправиться на велосипеде на юг, но сделать это мне не удалось. Евреев в гостиницу не пускали. На следующий день я отправился в Краков на поезде, искать работу.
Зима сорок пятого – сорок шестого года была почти такой же трудной, как зима сорок первого – сорок второго. Формировалось новое правительство, но в действительности население беспокоили много более серьезные вещи: отсутствие продовольствия, горючего, черный рынок, беженцы, тысячами возвращавшиеся домой, чтобы начать жизнь сначала, и в особенности советская оккупация. В течение сотен лет мы сражались с русскими, покоряли их, в свою очередь сопротивлялись вторжению, жили под угрозой с их стороны, а затем приветствовали как освободителей. Мы только очнулись от кошмара немецкой оккупации, как наступило холодное утро русского освобождения. Как и все поляки, я был истощен, пребывал в состоянии оцепенения и несколько удивлялся тому, что все еще жив. Единственным сильным желанием было пережить хотя бы еще одну зиму.
Весной сорок шестого пришло письмо от моей кузины Ребекки. Она со своим мужем-американцем жила в Тель-Авиве. Ей пришлось потратить несколько месяцев, отправляя письма, устанавливая контакты с чиновниками, рассылая телеграммы агентствам и разным учреждениям в надежде разыскать хотя бы следы кого-нибудь из семьи. Она нашла меня через своих друзей из Международного Красного Креста.
Я написал ей, и вскоре пришла телеграмма, в которой она настойчиво приглашала меня приехать к ней в Палестину. Они с Давидом предлагали прислать мне деньги на билеты.
Я вовсе не был сионистом, более того, наша семья никогда не признавала существования Палестины как возможного еврейского государства, но, когда я сошел с битком набитого турецкого сухогруза в июне сорок шестого на землю, которой суждено было стать нашей «землей обетованной», с плеч моих, казалось, свалилось тяжелое ярмо, и я впервые вздохнул свободно с того рокового восьмого сентября тридцать девятого года. Признаюсь, в тот день я упал на колени и глаза мои наполнились слезами.
Возможно, моя радость по поводу обретения свободы оказалась преждевременной. Через несколько дней после моего приезда в Палестину в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме, где располагалось британское командование, произошел взрыв. Оказалось, что и Ребекка, и ее муж Давид участвуют в движении «Хагана».
Полтора года спустя я вместе с ними включился в борьбу за независимость, однако, несмотря на свою партизанскую подготовку и опыт, принимал участие в военных действиях только в качестве санитара. Я чувствовал ненависть, но вовсе не по отношению к арабам.
Ребекка настояла, чтобы я продолжил учебу. В то время Давид был уже представителем очень приличной американской компании в Израиле, поэтому с деньгами проблем не было. Так и случилось, что довольно посредственный школьник из Лодзи, чье образование было прервано на пять лет, вернулся за парту уже мужчиной, покрытым шрамами и в двадцать три года чувствовавшим себя стариком.
Совершенно неожиданно вышло так, что на этом поприще я сделал успехи. Поступил в университет в пятидесятом году, а три года спустя уже учился на медицинском факультете. Два года я проучился в Тель-Авиве, год и три месяца в Лондоне, год в Риме и одну очень дождливую весну в Цюрихе. Когда мог, я возвращался в Израиль, работал в кибуце около фермы, на которой проводили каждое лето Давид и Ребекка, и общался со своими старыми друзьями. Мой долг по отношению к кузине и ее мужу был так велик, что я уже ничем не мог расплатиться с ними, но Ребекка постоянно твердила, что единственный оставшийся в живых член семьи Ласки, из племени Эшколей, должен добиться чего-то в жизни.
Я выбрал психиатрию. Занимаясь медициной, я уже знал, что все это – не более чем подготовительный этап: необходимо изучить тело, прежде чем проникнуть в сознание человека. Вскоре я был уже одержим всякими теориями насилия и случаями вампиризма в человеческих отношениях. Я с изумлением обнаружил, что в этой области практически еще нет сколько-нибудь надежных исследований. Было множество данных, в точности объясняющих механизмы господства в стаде львов, проводились обширные исследования в иерархических отношениях среди всех видов птиц, много информации поступало от приматологов – относительно роли господства и агрессивности в социальных группах наших дальних родственников, обезьян. Но как же мало было известно о механизме насилия над личностью, о господстве людей над людьми и о зомбировании. Скоро я сам стал развивать собственные теории и предложения.
Во время учебы я не переставал разыскивать оберста. Я знал, что он был полковником в айнзацгруппе номер три, я видел его с Гиммлером и хорошо помнил последние слова Старика: «Вилли, мой друг…» Я запрашивал союзнические комиссии по делам военных преступников в различных оккупационных зонах, обращался в Красный Крест, советский трибунал по военным преступлениям фашистов, Еврейский комитет, и бесчисленные министерства, и прочие бюрократические учреждения. Результата никакого. Пять лет спустя я обратился в Моссад – разведывательное агентство Израиля. Эти, по крайней мере, заинтересовались моим рассказом, но в те годы Моссад вовсе не был такой эффективной организацией, какой он, по слухам, является теперь. К тому же у них были иные приоритеты – они охотились за такими знаменитостями, как Эйхман, Мурер и Менгеле, и их мало волновал какой-то неведомый оберст, о котором заявил один-единственный человек, переживший холокост. В пятьдесят пятом году я поехал в Австрию, чтобы посоветоваться с охотником за нацистами Симоном Визенталем.
«Центр документации» Визенталя находился в ветхом здании, в бедном квартале на окраине Вены. По виду дома можно было предположить, что его построили во время войны как временное прибежище. Центр занимал три комнаты, две из которых под завязку были заполнены шкафами с папками, а третья – с голым цементным полом – служила кабинетом. Сам Визенталь оказался очень нервным и взвинченным человеком, от него исходило напряжение, внушавшее беспокойство тем, кто с ним общался, но в его взгляде было что-то очень знакомое. Поначалу я подумал, что у Симона Визенталя вид фанатика, но потом понял: этот напряженный взгляд я сам наблюдал в зеркале по утрам, когда брился.
Я рассказал ему сокращенный вариант своей биографии, сообщив лишь, что оберст совершал зверства по отношению к заключенным Хелмно ради развлечения солдат. Визенталь заинтересовался, когда я упомянул, что встречал этого негодяя в Собиборе в компании Генриха Гиммлера. «Вы уверены?» – переспросил он. «Абсолютно уверен», – ответил я.
Хотя Визенталь был очень занят, он потратил два дня на то, чтобы помочь мне разыскать след оберста. В своем Центре, больше похожем на могилу, он хранил сотни досье, десятки указателей и перекрестных указателей, а также фамилии более двадцати двух тысяч эсэсовцев. Мы изучали фотографии личного состава отрядов специального назначения и выпускников военных академий, вырезки из газет и фото из официального журнала СС «Черный корпус». К концу первого дня я так устал, что уже не мог сосредоточиться, глаза покраснели и опухли. В ту ночь мне снились лица офицеров-нацистов, которым ухмыляющиеся главари Третьего рейха вручали ордена. Следов оберста нигде не было.
Лишь на следующий день вечером мне удалось отыскать фото в газете за двадцать третье ноября сорок второго года. Подпись под снимком гласила, что прусский аристократ барон фон Бюлер, герой Первой мировой войны, вернувшийся в строй в чине генерала, погиб в бою, когда повел свои войска в героическую контратаку против русской танковой дивизии на Восточном фронте. Я долго смотрел на морщинистое лицо Старика с крупными чертами, запечатленное на пожелтевшей бумаге: Der Alte. Убрав газетную вырезку назад в папку, я продолжил поиски.
– Если бы у нас была его фамилия, мы смогли бы его разыскать, – сказал Визенталь в тот вечер, когда мы ужинали в небольшом ресторанчике близ собора Святого Стефана. – СС и гестапо имели точные списки своих офицеров.
Я пожал плечами и сообщил, что утром намерен вернуться в Тель-Авив. Мы перебрали почти все материалы по отрядам специального назначения и Восточному фронту, а мои занятия вскоре могли потребовать от меня все время целиком.
– Но как можно?! – воскликнул Визенталь. – Вы уцелели в гетто Лодзи, в Хелмно и Собиборе, у вас должна быть масса информации о немецких офицерах и других военных преступниках. Вам нужно провести здесь по крайней мере еще неделю. Мы с вами побеседуем, а потом запись этого интервью будет внесена в мои архивы. Вы не представляете даже, какие бесценные факты хранятся в вашей памяти!
– Нет, – отрезал я. – Меня не интересуют другие. Меня интересует только оберст.
Визенталь долго смотрел в свою чашку. Когда он поднял глаза, в них блеснул странный огонек.
– Значит, вас интересует только месть?
– Да. Так же как и вас.
Он печально покачал головой:
– Возможно, мы оба одержимы, мой друг. Но я добиваюсь справедливости, а не отмщения.
– А разве в данном случае это не одно и то же?
Визенталь снова покачал головой:
– Справедливый суд необходим. Его требуют миллионы голосов из безымянных могил, из ржавеющих печей, из пустых домов в тысячах городов. Чувство же мести недостойно, оно мелко…
– Недостойно чего? – спросил я резче, чем хотел.
– Нас. Их. Их смерти. Нашей дальнейшей жизни.
Я тогда ничего не ответил ему, но с тех пор часто думал об этой беседе.
Хотя Визенталь был разочарован, он согласился продолжить поиски любой информации, связанной с оберстом. Через год и три месяца, спустя несколько дней после того, как я получил степень, от Симона Визенталя пришло письмо. В конверте были фотокопии платежных ведомостей четвертого отдела зондеркоманды подотдела четыре-Б айнзацгрупп, графа «специальные советники». Визенталь обвел имя оберста Вильгельма фон Борхерта, офицера из штаба Рейнхарда Гейдриха, прикомандированного к айнзацгруппам. К этим фотокопиям был приколот газетный снимок, извлеченный Визенталем из своих архивов. Семь молодых улыбающихся офицеров позировали перед фотографом на концерте Берлинского филармонического оркестра в пользу вермахта. Газетная вырезка была датирована двадцать третьим июня сорок первого года… Исполнялся Вагнер. Ниже перечислялись имена улыбающихся офицеров. Пятым слева, едва заметный за спинами своих товарищей, стоял оберст, низко надвинув фуражку на бледный лоб. В подписи под снимком фамилия старшего лейтенанта Вильгельма фон Борхерта тоже была обведена кружочком.
Через два дня я уже был в Вене. Визенталь распорядился, чтобы его корреспонденты разузнали все, что можно, о фон Борхерте, но результаты обескуражили. Борхерты были хорошо известной аристократической семьей, имевшей поместья в Пруссии и Баварии. Источником богатства семьи служили земли, интересы в горнорудной промышленности и экспорт предметов искусства. Агенты Визенталя не смогли найти никаких записей о рождении или крещении Вильгельма фон Борхерта в архивах, просмотренных до тысяча восемьсот восьмидесятого года, но они обнаружили извещение о смерти. Согласно объявлению в «Раген цайтунг» за девятнадцатое июня сорок пятого года, оберст Вильгельм фон Борхерт, единственный наследник графа Клауса фон Борхерта, погиб в бою, героически защищая Берлин от советских захватчиков. Это известие дошло до престарелого графа и его жены во время их пребывания в летней резиденции в Вальдхайме, в Баварском Лесу близ Байриш-Айзенштейна. Члены семьи спрашивали разрешения союзных властей закрыть поместье и вернуться в свой особняк около Бремена, где должны были состояться похороны. В заметке далее говорилось, что Вильгельм фон Борхерт получил столь желанный «Железный крест за доблесть», а перед смертью был рекомендован к повышению в чине до обергруппенфюрера СС.
Визенталь дал своим людям задание искать какие-либо другие следы, но ничего нового так и не обнаружилось. В пятьдесят шестом году семья фон Борхерта состояла всего лишь из престарелой тетушки в Бремене и двух племянников, пустивших по ветру бо́льшую часть семейного состояния из-за неразумного вложения капитала после войны. Огромное поместье в Восточной Баварии пустовало уже много лет, охотничий заказник был продан для уплаты налогов. Из весьма ограниченных источников стран Восточного блока выяснилось, что ни Советы, ни восточные немцы не владели никакой информацией о жизни и смерти Вильгельма фон Борхерта.
Я вылетел в Бремен, чтобы побеседовать с тетушкой оберста, но она была уже в одной из последних стадий старческого маразма и не могла припомнить никого из членов семьи по имени Вилли. Она решила, что меня послал ее брат – пригласить на летний праздник в Вальдхайме. Один из племянников отказался встретиться со мной. Другой, молодой франт, которого я настиг в Брюсселе, откуда он направлялся на курорт во Франции, заявил, что видел дядю Вильгельма всего один раз, в тридцать седьмом году. Ему тогда было девять лет, и он ничего не помнит, кроме великолепного шелкового костюма и канотье, которое дядя носил лихо, немного набекрень. И еще он считал своего родственника героем, погибшим в сражениях с коммунистами. Я вернулся в Тель-Авив ни с чем.
Несколько лет я практиковал как психиатр в Израиле. За это время я узнал, как и все психиатры, что ученая степень в этой области всего лишь готовит профессионала к тому, чтобы начать серьезно изучать человеческую личность со всеми ее сложностями, достоинствами и недостатками. В шестидесятом году умерла от рака моя кузина Ребекка. Давид настоял на том, чтобы я поехал в Америку и продолжил там свои исследования. Когда я возражал, что у меня достаточно материала и в Тель-Авиве, Давид шутил, что нигде в мире спектр насилия не является таким разнообразным, как в Соединенных Штатах.
В Нью-Йорк я прибыл в январе шестьдесят четвертого года. Американская нация в это время едва опомнилась после убийства тридцать пятого президента и готовилась утопить свою печаль в подростковой истерии по поводу приезда британской рок-группы «Битлз». Колумбийский университет предложил мне должность профессора-консультанта сроком на один год, но потом получилось так, что я продолжил работать там, пока не закончил свою книгу о патологии насилия.
В ноябре шестьдесят четвертого я принял решение остаться в Штатах. Я тогда гостил у своих друзей в Принстоне, в Нью-Джерси. После обеда они, извинившись, спросили, не хочу ли я немного посмотреть телевизор вместе с ними. У меня своего телевизора не было, и я заверил их, что это меня развлечет. Как оказалось, они хотели смотреть документальный фильм, посвященный первой годовщине со дня гибели Джона Кеннеди. Это было мне интересно. Даже в Израиле, несмотря на нашу одержимость своими собственными проблемами, смерть американского президента потрясла всех. Я видел фотографии президентского кортежа в Далласе; меня очень тронул снимок, столь часто перепечатываемый, где младший сын Кеннеди отдает честь гробу своего отца. Читал я и том, как некий Джек Руби «убрал» предполагаемого убийцу президента, но мне ни разу еще не приходилось видеть видеозаписи этого момента. В том документальном фильме я наблюдал воочию самодовольно ухмыляющегося худого парня в наручниках, окруженного далласскими полицейскими в штатском, с их типичными американскими физиономиями. Откуда-то сбоку из толпы журналистов вынырнул грузный мужчина, вмиг приставил дуло пистолета к животу Ли Харви Освальда и выстрелил. Этот сухой резкий звук заставил меня вздрогнуть, я вспомнил белые обнаженные тела, падающие в ров… Крупным планом показали прижатые к животу руки Освальда, его перекошенное лицо. Полицейские тут же схватили Руби, в наступившей неразберихе телекамеру кто-то толкнул, и она оказалась направленной на толпу.
– Матка Боска! – почему-то заорал я по-польски и вскочил со стула. В толпе я увидел оберста.
Так и не объяснив своего волнения друзьям, я в тот же вечер покинул Принстон и вылетел в Нью-Йорк. Рано утром следующего дня я уже был в манхэттенском офисе той телекомпании, которая транслировала документальный фильм памяти Кеннеди. Я использовал все свои связи в университете и в издательском мире, чтобы получить доступ к фильмам, видеозаписям и роликам компании. Лицо в толпе, которое я видел по телевизору, появилось всего на несколько секунд и только на той пленке. Один мой аспирант любезно согласился сфотографировать эти кадры в монтажной и увеличить их, насколько это было возможно.
В таком виде узнать лицо оберста было еще труднее, чем в те две с половиной секунды, когда оно появилось на экране. Это было всего лишь белое пятно между широкими полями шляпы, как у техасских ковбоев, смутное впечатление легкой улыбки и глазницы – темные, будто дыры в черепе. Как вещественное доказательство такой снимок не годился, его не принял бы во внимание ни один суд в мире, но я знал, что это оберст.
Я полетел в Даллас. Власти Далласа все еще относились ко всем настороженно из-за критики, которой они подверглись в прессе и во всем мире. Мало кто соглашался разговаривать со мной, еще меньшее число людей было готово обсуждать то, что случилось год назад в подземном гараже. Никто не узнал человека ни на снимке, сделанном с видеозаписи, ни на старом фото из берлинской газеты. Я беседовал со свидетелями, пытался добиться свидания с Джеком Руби, находившимся в «камере смертников», но так и не получил разрешения. След оберста за год остыл – он был так же холоден, как труп Ли Харви Освальда.
Вернувшись в Нью-Йорк, я связался кое с кем из знакомых в израильском посольстве. Они, правда, заявили, что израильские разведывательные службы не имеют права действовать на территории США, но все же согласились навести кое-какие справки. В Далласе я нанял частного детектива. Его услуги обошлись мне в семь тысяч долларов, но результат можно было свести к одному слову: ни-че-го. В посольстве Израиля точно такой же результат мне выдали бесплатно. Вероятно, мои знакомые сочли меня сумасшедшим: только безумец мог искать след нацистского военного преступника в деле убийства президента и всех, кто был причастен к этой трагедии. Ведь бывшие эсэсовцы стремились лишь к одному – к анонимности.
Я сам стал сомневаться, не сошел ли я с ума. Лицо «белокурой бестии», которое уже столько лет не давало мне покоя во сне, явно сделалось главной целью моей жизни. Как психиатр, я мог понять всю двусмысленность этой одержимости: запечатленное в моем мозгу в камере смерти в Собиборе стремление разыскать оберста стало для меня смыслом жизни. Исчезни это стремление – исчезнет смысл. Признать, что оберст мертв, значило для меня признать и свою собственную смерть.
Как психиатр, я все это понимал. Понимал, но не верил. И если бы даже поверил, то не стал бы работать над тем, чтобы «излечиться». Оберст существует на самом деле! Он не тот человек, который умрет где-нибудь в наскоро построенных оборонительных сооружениях под Берлином. Он монстр. А монстры не умирают сами. Их следует убивать.
Летом шестьдесят пятого я наконец добился встречи с Джеком Руби, но из разговора с ним ничего не вышло. К тому времени он превратился в тень с печальным лицом, отсутствующим взглядом и хриплым рассеянным голосом. Я пытался расспросить подробнее о его психическом состоянии в тот ноябрьский день, но он только пожимал плечами и повторял то, что уже много раз говорил на допросах. Нет, он не собирался стрелять в убийцу, это решение возникло у него спонтанно, и он даже не сразу осознал, что совершил. Пустили его тогда в гараж случайно. Что-то нашло на него, когда он увидел Освальда, какой-то порыв, который он не смог сдержать, – ведь этот человек убил его любимого президента.
Я показал ему фотографии оберста, но он устало покачал головой. Он знал нескольких далласских детективов и многих репортеров, которые были там, в гараже, но этого немца он никогда прежде не видел. «Не ощутили ли вы чего-то странного непосредственно перед тем, как выстрелить в Освальда?» Когда я задал этот вопрос, Руби на секунду поднял свое уставшее лицо, похожее на морду таксы, и я увидел в его взгляде смятение, но затем оно погасло, и он отвечал тем же монотонным голосом, что и прежде. Нет, ничего странного, только ярость по поводу того, что Освальд все еще жив, а президент Кеннеди мертв и бедная миссис Кеннеди с детишками осталась совсем одна.
Я не удивился, когда год спустя, в декабре шестьдесят шестого, Руби поместили в больницу с диагнозом рак. Он показался мне смертельно больным человеком уже во время нашей беседы. Умер он в январе следующего года, и горевали о нем немногие. Нация уже пережила свою трагедию, и Джек Руби был всего лишь напоминанием о тех временах, которые лучше забыть.
В конце шестидесятых я все больше погружался в исследовательскую и преподавательскую работу. Я пытался убедить себя, что мои теоретические разработки – всего лишь попытки найти средство изгнания демона, символом которого служило лицо оберста, но в душе я был уверен в обратном.
В те годы, когда процветало насилие, я изучал его. Почему некоторые люди с такой легкостью добиваются господства над другими? В своей экспериментальной работе я сводил вместе небольшие группы незнакомых друг с другом людей для выполнения какой-либо посторонней задачи, и уже минут через тридцать после начала неизменно возникала какая-то иерархия. Порой участники группы даже не осознавали этого, но, когда их спрашивали, они почти всегда могли указать, кто из них был «самым главным» или «самым динамичным». Вместе с аспирантами мы проводили беседы, анализировали их письменные записи и долгими часами просматривали видеопленки. Мы моделировали ситуации конфликтов между испытуемыми и лицами, обладающими властью: деканами университета, полицейскими, преподавателями, чиновниками налоговой службы, тюремными надзирателями и священниками. И во всех случаях проблема иерархии и господства оказывалась более сложной, чем можно было предположить, зная только социальное положение вовлеченных в эксперимент лиц.
В это время я начал сотрудничать с нью-йоркской полицией – составлял личностные характеристики субъектов, склонных к убийству. Фактические данные были невероятно интересны, беседы с убийцами – весьма тягостны, результаты же – неопределенны.
Где находится источник человеческой агрессивности? Какую роль играют насилие и угроза насилия в наших ежедневных взаимоотношениях друг с другом? Получив ответы на эти вопросы, я наивно надеялся когда-нибудь объяснить, как случилось, что очень способный, но маниакальный психопат, вроде Адольфа Гитлера, смог превратить одну из величайших культур мира в тупую и аморальную машину убийства. Я начал с того факта, что половина видов сложных животных на земле обладает каким-то механизмом для установления господства и социальной иерархии. Обычно эта иерархия возникает без нанесения серьезного ущерба. Даже такие свирепые хищники, как волки и тигры, используют вполне определенные сигналы подчинения для того, чтобы прекратить самые яростные схватки, пока дело не дошло до смерти или серьезного увечья. Ну а человек? Неужели правы те – и их довольно много, – кто утверждает, что у нас отсутствует инстинктивный, четко распознаваемый сигнал покорности и потому мы обречены на вечную войну, на некоего рода внутривидовое сумасшествие, предопределенное нашими генами? Я в этом сомневался.
Год за годом я собирал данные и развивал различные положения и все это время втайне выстраивал теорию, которая была настолько странной и ненаучной, что она подорвала бы мою профессиональную репутацию, намекни я хоть шепотом о ней своим коллегам. Что, если человечество в своем развитии установило некий психический тип отношений господства и подчинения – то, что некоторые из моих нереалистично настроенных коллег называют парапсихологическими явлениями? Ведь ясно, что привлекательность некоторых политиков, называемая средствами массовой информации харизмой за неимением лучшего термина, не может быть объяснена с помощью размеров индивида, его способности к размножению или к угрожающему поведению. По моей версии, у определенных людей в некоей доле мозга может существовать зона, ответственная исключительно за проецирование этого чувства личного лидерства. Я был хорошо знаком с нейрологическими исследованиями, указывающими, что мы унаследовали наши инстинкты господства и подчинения от так называемого рептильного мозга – самой примитивной мозговой области. Ну а что, если были прорывы в эволюции, связанные с мутацией, придавшие некоторым человеческим существам способность, родственную эмпатии либо телепатии, но несравненно более мощную и более полезную с точки зрения выживания? И что, если эта способность, подпитываемая собственной жаждой господства, находит свое высшее выражение в насилии? Являются ли человеческие существа, обладающие такой способностью, воистину человеческими?
В конечном счете я мог всего лишь без конца теоретизировать по поводу того, что я чувствовал, когда воля оберста проникла в мой мозг, сознание, тело, полностью завладела мной. Прошли десятилетия, отдельные детали тех ужасных дней стерлись, но боль насилия над моим сознанием и связанные с этим отвращение и ужас все еще заставляли меня просыпаться по ночам в холодном поту. Я продолжал преподавать, занимался исследовательской работой, улаживал мелкие проблемы своего бесцветного быта. Прошлой весной я однажды проснулся и понял, что старею. Минуло почти шестнадцать лет с того дня, когда я увидел лицо оберста в видеозаписи. Если он действительно существовал и все еще живет где-то на этой земле, то сейчас он глубокий старик. Я вспомнил тех беззубых, дрожащих стариков, которых все еще разоблачали как военных преступников. Нет, скорее всего, оберст мертв.
Но я позабыл, что монстры, как и вампиры, не умирают. Что их надо убивать.
И вот четыре с лишним месяца назад я столкнулся с оберстом на нью-йоркской улице. Был душный июльский вечер, я шел куда-то мимо Центрального парка, кажется сочиняя статью о тюремной реформе, когда мой вожделенный объект вдруг вышел из ресторана метрах в двадцати от меня и позвал такси. С ним была дама, немолодая, но все еще очень красивая, в шелковом вечернем платье и с длинными седыми волосами, падавшими на плечи. Сам оберст был в темном костюме. Загорелое лицо, выправка – все говорило о том, что он находится в отличной форме. Правда, он облысел, поседел, но его лицо, отяжелевшее с возрастом, каждой своей чертой по-прежнему выражало властность и жестокость.
На мгновение я задохнулся и застыл как столб, глядя на него во все глаза, потом ринулся догонять такси, которое сразу же влилось в поток автомобилей. Я как одержимый заметался между машинами, но пассажиры на заднем сиденье даже не оглянулись. Такси прибавило скорость, и я, пошатываясь, отошел к тротуару, едва не потеряв сознание.
Метрдотель ресторана ничем не смог мне помочь. Да, действительно в тот вечер у него обедала очень респектабельная пожилая пара, но имен их он не знал. Столик они заранее не заказывали.
Несколько недель я бродил близ Центрального парка, прочесывая весь район, разглядывая все проезжавшие такси в надежде вновь увидеть лицо оберста. Я нанял молодого нью-йоркского детектива и снова заплатил за нулевой результат. Именно в это время я заболел. Как я теперь понимаю, это был тяжелый случай нервного истощения. Я не спал, не мог работать, мои лекции в университете либо отменялись, либо проводились страшно волновавшимися ассистентами. По нескольку дней я не переодевался и возвращался к себе в квартиру, только чтобы перекусить и нервно расхаживать по комнатам. По ночам я тоже бродил по улицам, несколько раз меня останавливали полицейские. Меня не отправили в психиатрическую лечебницу на освидетельствование только благодаря моему положению в Колумбийском университете и магическому титулу «доктор». И вот однажды ночью, лежа на полу своей квартиры, я вдруг сообразил, что все это время не обращал внимания на одну деталь: лицо седовласой женщины было мне знакомо.
Почти всю ночь и весь следующий день я мучительно пытался вспомнить, где я ее видел. Я точно знал, что это было не в жизни, а на каком-то снимке. Ее лицо почему-то вызывало у меня ассоциации со скукой, беспокойством и успокаивающей музыкой.
В пятнадцать минут шестого я поймал такси и ринулся к центру города, к своему зубному врачу. Он только что ушел, кабинет закрывался, но я придумал какую-то историю и попросил его помощницу позволить мне просмотреть кипы старых журналов в приемной. Там были экземпляры «Севентин», «Мадемуазель», «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», «Тайм», «Ньюсуик», «Вог», «Консьюмер рипортс» и «Теннис уорлд». Когда я с маниакальной настойчивостью принялся листать страницы во второй раз, помощница запаниковала. Только моя одержимость и уверенность, что ни один зубной врач не меняет свой запас журналов чаще чем четыре раза в год, давали мне силы продолжать поиск, хотя эта женщина уже пронзительно кричала, что вызовет полицию.
И все же я нашел. Фотография оказалась маленькой черно-белой вырезкой где-то в начале «Вог», этой толстенной кипы глянцевых рекламных фото и восторженных эпитетов. Снимок седовласой дамы помещался над статьей о модных аксессуарах. Автором статьи была Нина Дрейтон.
После этого мне понадобилось всего несколько часов, чтобы найти ее. Мой нью-йоркский частный детектив был очень рад работать с чем-то более доступным, чем этот неуловимый призрак. Через сутки Харрингтон уже принес мне приличных размеров досье на эту женщину. Информация была почерпнута по большей части из общедоступных источников.
Миссис Дрейтон, сообщали эти источники, вдова, богатая и довольно известная в мире так называемой высокой моды, владелица целой сети бутиков. В августе сорокового года она вышла замуж за Паркера Алана Дрейтона, одного из основателей компании «Американские авиалинии». Спустя десять месяцев после свадьбы он скоропостижно скончался, и его вдова продолжила дело, с умом вкладывая капиталы и проникая в такие советы директоров, куда до нее не удавалось попасть ни одной женщине. Позднее миссис Дрейтон перестала заниматься бизнесом так активно, оставив за собой лишь магазины модной одежды и обуви. Она являлась членом попечительских советов нескольких престижных благотворительных организаций, близко знала множество политиков, людей искусства, писателей, содержала большую квартиру на шестнадцатом этаже престижного дома на Парк-авеню, а также имела несколько летних домов и загородных вилл.
Познакомиться с ней оказалось не так уж трудно. Поразмыслив, я просмотрел списки своих пациентов и вскоре нашел имя одной богатой дамы, страдавшей маниакально-депрессивным психозом, которая жила в том же доме, что и миссис Дрейтон, и общалась с людьми примерно того же круга.
Я познакомился с Ниной Дрейтон во второй уик-энд августа на садовом приеме, который устраивала моя бывшая пациентка. Гостей было немного. Большинство людей благоразумно уехали из города в свои коттеджи на мысе Кейп-Код либо в летние шале в Скалистых горах. Но миссис Дрейтон почему-то осталась в городе.
Еще до того, как я пожал ее руку, до того, как посмотрел в ее ясные голубые глаза, я уже знал совершенно твердо, что она – одна из тех. Она была такой же, как оберст. Ее присутствие наполняло собой весь сад, благодаря ей даже японские фонарики горели ярче. Эта моя уверенность в том, что я не ошибся, прямо-таки взяла меня холодной рукой за горло. Возможно, Нина Дрейтон уловила мою реакцию или ей просто доставляло удовольствие издеваться над психиатром, но в тот вечер она как бы играла со мной, проявляя некую смесь самодовольного презрения и злонамеренного вызова, столь же тонкую, как, скажем, опасные когти кошки в их бархатных ножнах.
Я пригласил миссис Дрейтон посетить публичную лекцию, которую я собирался читать на той неделе в университете. К моему удивлению, она приехала в сопровождении злобного вида женщины небольшого роста по имени Баррет Крамер. Темой своей лекции я как раз избрал политику преднамеренного насилия в Третьем рейхе и ее связь с некоторыми режимами в странах третьего мира в наши дни. Я несколько изменил план своей лекции с тем, чтобы сформулировать тезис, противоречащий нынешнему общепринятому мнению, а именно: необъяснимая жестокость миллионов немцев была вызвана, по крайней мере частично, действиями небольшой тайной группы властных личностей. В течение всей лекции я видел, как улыбается миссис Дрейтон, сидя в пятом ряду. Улыбка ее была примерно такой же хищной, какую, вероятно, видит мышь на морде кошки перед тем, как быть съеденной.
После лекции миссис Дрейтон изъявила желание поговорить со мной наедине. Она спросила, по-прежнему ли я принимаю пациентов, и попросила проконсультировать ее в профессиональном плане. Некоторое время я колебался, но мы оба знали, каким будет мой ответ.
Еще дважды я видел ее, оба раза в сентябре. Мы делали вид, что всерьез начинаем курс психоанализа. Нина Дрейтон была уверена, что ее бессонница напрямую связана со смертью отца, случившейся несколько десятков лет назад. Она сообщила мне, что часто видит один и тот же кошмарный сон: будто она толкает своего отца под троллейбус в Бостоне, хотя на самом деле находилась за несколько миль от того места, где он погиб. «Правда ли, доктор Ласки, – спросила она во время нашей второй встречи, – что мы всегда убиваем тех, кого любим?» Я сказал, что, по моему мнению, верно как раз обратное: мы убиваем, по крайней мере в своем воображении, тех, кого любим притворно, а на самом деле презираем. Нина Дрейтон только улыбнулась. Я предложил ей попробовать гипноз в нашу следующую встречу, чтобы попытаться облегчить ее воспоминание о смерти отца. Она согласилась, но я вовсе не удивился, когда в начале октября мне позвонила ее секретарша и отменила все намеченные посещения. К тому времени я уже поручил частному детективу круглосуточно следить за миссис Дрейтон.
Фрэнсиса Ксавье Харрингтона я нанял по совету друзей. Ему было двадцать четыре года, он оставил учебу в Принстонском университете и в свободное время писал стихи. Уже два года он занимался частным сыском. Ему пришлось купить новый костюм, чтобы посещать те рестораны, в которых проводила время миссис Дрейтон. Когда я распорядился следить за ней двадцать четыре часа в сутки, Харрингтону понадобилось нанять еще двух своих университетских друзей для пополнения агентства. Парень был явно не дурак, он работал быстро и толково, каждый понедельник и пятницу у меня на столе лежал письменный отчет. Некоторые его действия были не совсем легальными, включая снятие копий с телефонных счетов Нины Дрейтон. Она звонила очень много и разным людям. По этим счетам Харрингтон составил список телефонных номеров, а затем установил фамилии и адреса тех, кому она звонила. Некоторые из этих имен были довольно известными, другие могли заинтриговать кого угодно, но ни одно из них не указывало на моего оберста.
Шли недели. Я уже потратил бо́льшую часть своих сбережений на то, чтобы иметь представление о ежедневных заботах миссис Дрейтон, о ее привычных блюдах, деловых встречах и телефонных звонках. Юный Харрингтон понимал, что мои ресурсы ограниченны, и любезно предложил перехватывать ее письма и прослушивать телефонные разговоры, но я отказался. Мне не хотелось делать ничего такого, что могло бы выдать нас.
И вот две недели назад миссис Дрейтон сама позвонила мне и пригласила на большой рождественский прием, который она устраивала семнадцатого декабря в своих апартаментах на Парк-авеню. Она сказала, что звонит лично, чтобы у меня не было предлога уклониться от приглашения. Ей хотелось познакомить меня со своим очень дорогим другом из Голливуда, продюсером, который тоже желает этой встречи. Она только что послала ему экземпляр моей книги «Патология насилия», и он от нее просто в восторге. Я поинтересовался, как его зовут. «Это не важно, – ответила она. – Возможно, вы узнаете его при встрече».
Мои руки так дрожали, когда я положил трубку, что мне пришлось прождать целую минуту, прежде чем я смог набрать номер Харрингтона. В тот вечер мы решили собраться, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Снова перебрали телефонные счета и на сей раз обзвонили все номера в Лос-Анджелесе, не включенные в городской телефонный справочник. На шестом звонке голос молодого человека ответил: «Особняк мистера Бордена». – «Это домашний телефон Томаса Бордена?» – спросил Фрэнсис. «Вы не туда звоните, – сообщил голос. – Это особняк мистера Уильяма Бордена».
Я написал имена на доске в своем кабинете. Вильгельм фон Борхерт. Уильям Борден. Человеческая природа, ничего не поделаешь! Мужчина приезжает с любовницей в отель и вписывает в регистрационную книгу имя, похожее на его собственное. Или разыскиваемый преступник скрывается под шестью чужими фамилиями и в пяти случаях из шести использует свое собственное имя. Что-то такое есть в наших именах, из-за чего нам трудно отказаться от них совсем, как бы необходимо это ни было.
В тот понедельник, за четыре дня до событий здесь, в Чарлстоне, Харрингтон вылетел в Лос-Анджелес. Первоначально я планировал лететь сам, но Фрэнсис убедил меня, что лучше будет, если сначала он проверит этого Бордена, сфотографирует его и выяснит, действительно ли это тот человек, которого мы ищем. Я вынужден был согласиться с его доводами – у меня не было плана действий. Даже после стольких лет я все еще не обдумал, как буду действовать, когда найду оберста.
В понедельник вечером Харрингтон позвонил мне и стал рассказывать, что фильм, который показывали во время полета, оказался посредственным, что отель, в котором он остановился, явно уступает «Беверли-Уилширу» и что полицейские в Бел-Эйр имеют манеру останавливать и допрашивать людей, если тем случится дважды появиться в одном районе или если они имеют наглость парковаться где-нибудь на этих извилистых улицах, чтобы поглазеть на дом какой-нибудь кинозвезды. Во вторник он попросил узнать, нет ли чего-либо нового относительно миссис Дрейтон. Я сказал, что двое его друзей, Деннис и Селби, спят немного похуже, чем он, а миссис Дрейтон живет помаленьку и у нее все без изменений. Затем Фрэнсис сообщил мне, что он посетил студию, с которой мистер Борден имел наиболее тесные связи, – экскурсия, кстати, оказалась весьма посредственной, – и хотя у него в студии есть свой кабинет, никто не знает, когда он бывает там. Последний раз его видели за работой в семьдесят девятом году, и Фрэнсис надеялся раздобыть фото продюсера, но это оказалось невозможным. Он уже хотел показать секретарше студии берлинскую фотографию Борхерта, но потом решил, выражаясь его собственными словами, что «это было бы не совсем в тон». На следующий день он собирался взять свой фотоаппарат с длиннофокусным объективом и отправиться к усадьбе Бордена в Бел-Эйр.
В среду Харрингтон не позвонил в назначенное время. Тогда я сам связался с отелем, и мне сказали, что он еще не выписался, хотя и ключ вечером не забирал. В четверг утром я позвонил в полицию Лос-Анджелеса. Они пообещали заняться этим делом, но я дал им не так уж много информации, и они решили, что нет причин подозревать какое-то преступление. «У нас в городе народ занятный, – сказал сержант, с которым я разговаривал. – Молодой парень вполне мог увлечься чем-то и забыть позвонить».
Весь день я пытался связаться с Деннисом или Селби, но не смог. Даже записывающее устройство в агентстве Фрэнсиса было отключено. Тогда я пошел на Парк-авеню, где находились апартаменты Нины Дрейтон. Охранник внизу сообщил, что миссис Дрейтон уехала отдыхать. Выше первого этажа меня не пустили.
Весь день я сидел, запершись в своей квартире, и ждал. В одиннадцать тридцать позвонили из лос-анджелесской полиции. Они открыли номер мистера Харрингтона в отеле «Беверли-Хиллз». Там не было ни его одежды, ни багажа, но не было и никаких намеков на преступление. «Вы не могли бы сказать, кто заплатит за номер в отеле? – спросили меня. – По счету надо уплатить триста двадцать девять долларов сорок восемь центов».
В тот вечер я заставил себя пойти к друзьям, пригласившим меня на обед несколько дней назад. От автобусной остановки до их дома в Гринвич-Виллидж было всего два квартала, но расстояние это показалось мне бесконечным. В субботу, когда вашего отца убили, я участвовал в обсуждении проблемы насилия в городе вместе с группой ученых в университете. Там присутствовало несколько политиков и сотни две народу. На протяжении всей дискуссии я часто посматривал в аудиторию, ожидая увидеть улыбку Нины Дрейтон, так похожую на улыбку хищной кошки, или холодные глаза оберста. Я снова почувствовал себя пешкой – только в чьей игре?
В воскресенье в утренней газете я в первый раз прочитал об убийствах в Чарлстоне. В той же газете была короткая заметка о том, что голливудский продюсер Уильям Д. Борден находился на борту того злосчастного самолета, который потерпел катастрофу рано утром в субботу над Южной Каролиной. И рядом с заметкой – одна из редких фотографий этого неуловимого отшельника-продюсера. Снимок был сделан в шестидесятые годы, на нем улыбался оберст.
* * *
Сол замолчал. На перилах крыльца стояли чашки с остывшим кофе, про который они совсем забыли. Пока он говорил, тень от крыльца постепенно переползла к его ногам. В наступившей тишине стали слышны доносившиеся с улицы звуки.
– Кто же из них убил моего отца? – спросила Натали. Она поплотнее завернулась в плед и обхватила руками плечи, словно ей было холодно.
– Не знаю, – ответил Сол.
– А эта Мелани Фуллер… Она тоже была одной из них?
– Наверняка.
– И это могла сделать она?
– Да.
– А вы уверены, что Нины Дрейтон нет в живых?
– Я был в морге, видел фотографии с места убийства, читал отчет о вскрытии.
– Но она могла убить отца до того, как погибла сама.
Сол с минуту подумал и кивнул:
– Вполне возможно.
– А этот Борден… или оберст… Предполагается, что он погиб в авиакатастрофе в прошлую пятницу.
Сол снова кивнул.
– Вы уверены, что он погиб? – спросила Натали.
– Нет, – твердо ответил он.
Девушка встала и принялась ходить взад-вперед по маленькому крыльцу:
– У вас есть доказательства, что он жив?
– Нет, – вздохнул Сол.
– Но вы полагаете, что он жив и что либо он, либо Фуллер могли убить моего отца?
– Да.
– Боже мой…
Натали прошла в дом и через минуту вернулась с двумя стаканами бренди. Один она протянула Солу, другой выпила сама. Затем она вытащила из кармана пачку сигарет, зажигалку и дрожащими руками прикурила.
– Вам вредно курить, – тихо заметил Сол.
Девушка лишь хмыкнула в ответ.
– Эти люди – вампиры, ведь так? – спросила она.
– Вампиры? – Он тряхнул головой, не совсем понимая, что она имеет в виду.
– Они используют людей, а потом выбрасывают их, словно пластиковую упаковку. Нечто подобное происходит в тех дурацких сериалах, которые показывают по ночному каналу, только эти вампиры существуют на самом деле.
– Вампиры, – повторил Сол почему-то по-польски. – Да, – он снова перешел на английский, – аналогия неплохая.
– Ну, хорошо, – сказала Натали. – И что мы теперь будем делать?
– Мы? – Слово это, казалось, удивило его. Он потер руками колени.
– Мы, – повторила Натали, и голос ее задрожал от гнева. – Вы и я. Мы с вами. Вы ведь рассказали мне все это не просто чтобы провести время. Вам нужен союзник. Итак, что нам делать дальше?
Сол почесал бороду и покачал головой:
– Я не совсем понимаю, зачем рассказал все это, но…
– Но что?
– Это очень опасно. Фрэнсис, да и другие…
Натали подошла к нему и слегка коснулась его руки.
– Моего отца звали Джозеф Леонард Престон, – тихо сказала она. – Ему было сорок восемь… Шестого февраля ему исполнилось бы сорок девять. Он был очень хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим фотографом и не слишком удачливым бизнесменом. Когда он смеялся… – Натали перевела дыхание. – Трудно было не смеяться вместе с ним.
Несколько секунд она стояла так, немного наклонившись, ее пальцы касались его запястья рядом с выцветшими синими цифрами, напоминавшими о трагическом прошлом. Помолчав, она спросила:
– Что вы намерены делать дальше?
Сол вздохнул:
– Пока не знаю. Мне нужно лететь в субботу в Вашингтон, кое-кого повидать, получить информацию… Выяснить, остался ли жив оберст. Возможно, человек, с которым я хочу встретиться, имеет эту информацию.
– А потом? – настаивала Натали.
– А потом буду ждать. Ждать и наблюдать. Читать газеты. Искать.
– Искать что?
– Новости… о других убийствах, – ответил он.
Натали вздрогнула и выпрямилась. Сигарета у нее в руке почти погасла, и она раздавила ее о половицу.
– Вы это серьезно? Ведь Фуллер и ваш оберст постараются уехать из страны, спрятаться где-нибудь. Почему вы полагаете, что они вновь займутся такими вещами? И так скоро?
Сол пожал плечами. Он вдруг ощутил невероятную усталость.
– Потому что такова их природа. Вампирам надо кормиться кровью.
Натали отошла и села в свое кресло.
– А когда вы… когда мы найдем их, что мы будем делать? – спросила она.
– Тогда и решим. Сначала их надо найти.
– Чтобы убить вампира, нужно проткнуть его сердце колом, – прошептала Натали. Она вытащила еще одну сигарету, но прикуривать не стала. – Сол, а что, если они узнают, что вы за ними охотитесь? Что, если они начнут гоняться за вами?
– Тогда все стало бы проще, – вздохнул он.
Натали хотела еще что-то сказать, но тут напротив крыльца остановился коричневый автомобиль с эмблемой округа. Грузный мужчина, в шляпе, с раскрасневшимся лицом, тяжело выбрался с водительского сиденья.
– Шериф Джентри? – удивилась Натали.
Они смотрели на рослого, грузного шерифа, а тот в свою очередь смотрел на них. Потом он медленно, как-то нерешительно начал приближаться к дому. Остановившись у крыльца, Джентри снял шляпу. На его загорелом лице застыло выражение ребенка, который только что видел нечто ужасное.
– Доброе утро, мисс Престон, профессор Ласки, – поздоровался он.
– Доброе утро, шериф, – сказала Натали.
Сол смотрел на Джентри, эту карикатуру на полисмена с юга, за неуклюжей внешностью которого скрывались острый ум и способность тонко чувствовать. Ласки понял это во время их вчерашней встречи. Глаза шерифа выдавали его волнение.
– Мне нужна помощь, – произнес он. В голосе его слышались неуверенность и растерянность.
– Какая? – спросила Натали. Сол различил в этом вопросе нечто большее, чем просто любезность.
Шериф Джентри посмотрел на свою шляпу, провел по тулье мощной загорелой рукой, и это движение показалось Солу почти грациозным. Потом он поднял глаза:
– Убито девять граждан моего округа. Как на это ни посмотри, понять ничего невозможно. Почему они умерли? Пару часов назад я остановил на улице парня, у которого в карманах не оказалось ничего, кроме моей фотографии, но он предпочел перерезать себе горло, вместо того чтобы ответить хоть на один вопрос. – Джентри глянул на Натали, потом на Сола. – Это так же бессмысленно, как и все остальное, происшедшее в городе. Я почему-то чувствую, что вы оба могли бы мне помочь.
Сол и Натали все еще молча смотрели на него.
– Вы можете мне помочь? – повторил Джентри. – Вы согласны?
Натали повернулась к Солу. Тот снял очки, протер их, затем снова надел и слегка кивнул.
– Заходите, шериф, – пригласила девушка, открыв дверь дома. – Я приготовлю чего-нибудь поесть. Разговор может получиться долгим.
32
«Труд освобождает» (нем.).
33
Вокзальная команда (нем.).