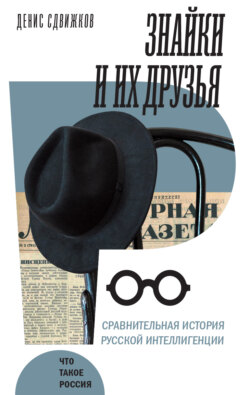Читать книгу Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции - Денис Сдвижков - Страница 1
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
ОглавлениеМы интеллигенция, потому что мы много знаем.
Николай Константинович Михайловский
Finster kam dieser Jäger zurück aus dem Walde der Erkenntnis.
(«Мрачным возвратился этот охотник из леса познания».)
Фридрих Ницше
– Ну и что это? Что за «знайки», милейший? Полагаете, оригинально, читатель клюнет? Все уже давно устали от глумливого тона. Да и какой толк пинать то, что и так осталось в истории?
– Извольте, объяснимся. Писать об интеллигенции так же, как о других исторических феноменах, сложно. Вы или чувствуете себя частью (наследником?) интеллигенции, или находитесь к ней в сознательной оппозиции. Нужна дистанция, «остранение». Осталось в истории, говорите? В этом-то и вопрос. Одно дело, когда традиции интеллигенции действительно в прошлом, как в Германии с ее «образованным бюргерством» (Bildungsbürgertum). Или в самой России с историей дворянства, прочно осевшего среди «бывших». Но интеллигенция? «Интеллигенция все еще остается горячей темой», – начинают свой итоговый труд о ней польские коллеги. Пусть так, как о неостывшем трупе, но и у нас, как в Польше или во Франции, в дебатах о смерти и воскресении интеллигенции копья ломаются и по сию пору. В этих дебатах преобладали, с критическим ли, хвалебным ли оттенком, обертоны патетики и эссеизма, а в сердцевине всегда было некое кредо.
«В сущности все мы пишем для самих себя, то есть для русской интеллигенции, а я еще кроме того собираюсь писать об этой самой интеллигенции», – по-прежнему можно повторить вслед за автором эпиграфа Николаем Михайловским («Письма об русской интеллигенции», 1881). И объект описания, и аудитория, и слова, которыми интеллигенция описывается, – все существует внутри ее собственного поля. Чего уж там, «интеллигентский дискурс есть своего рода метаязык русской культуры, порожденный ею и семантически от нее зависимый» (М. Ю. Лотман). Любая книга об интеллигенции – саморефлексия, в том числе и в этом тексте вашего покорного слуги. Что делать?
Размышлять о размышлениях – порочный круг, вытаскивание себя за волосы из болота. Дистанцию дает ирония, или, если угодно, самоирония. «Жизненная правда, – написал один немецкий интеллигент (Томас Манн) об интеллигенте русском (Чехове), – по природе своей иронична». Лермонтов чувствовал тут показатель зрелости общественного сознания: публика, которая «не угадывает шутки, не чувствует иронии», похожа на провинциальную барышню – «молода, простодушна» и «дурно воспитана».
Серьезность не зря имеет среди эпитетов «убийственная» – убивается критический анализ. Взявшись за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, сложно видеть в своих рукопожатных коллегах объект критического исследования. Тот же убийственный эпитет, правда, приложим и к иронии. Поэтому оговорюсь, что, несмотря на пояснение М. В. Ломоносова для нового тогда слова, «ирониа» вовсе не «есть глумление». Последнего интеллигенция не заслуживает, потому что мы имеем дело с великим, на сей раз без всякой иронии, и общеевропейским проектом.
Если так, нужен широкий контекст, а его может дать только сравнение. Эта книга выросла из другой, для немецкого читателя, написанной как сравнительная история европейской интеллигенции в ее золотой XIX век, включая российскую. Теперь я собираюсь продолжить предприятие, адресуясь к русскому читателю. Сомнительные стороны понятны, извиняющийся тон с проходными терминами вроде «импрессионизм» или «общие контуры» неизбежен. Видом с птичьего полета была уже предыдущая немецкая книга. Здесь, без привычных сносок, в популярной и сокращенной форме, получается вообще вид из космоса.
Ну и ладно. Не самый плохой вид, в конце концов. При близком рассмотрении любые идеальные модели в применении к конкретным случаям оказываются не идеальными. Традиции, интересы и модели национальных исторических школ также накладывают неизбежный отпечаток на общую картину – а в нашем случае это заметно особенно. Тут как в известной притче о слепых мудрецах со слоном: из того, что каждая часть разная, не следует, что слона нет целиком. Но и просто открыть глаза, чтобы его увидеть, тоже не получится. Так что неизбежно придется домысливать, обобщать и представлять. Для такого рода предприятий хорошо подходит французское понятие aventure intellectuelle, «интеллектуальная авантюра», со всем залихватским шлейфом значений последнего слова. В космос так в космос – поехали.