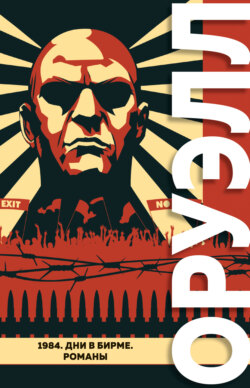Читать книгу 1984. Дни в Бирме - Джордж Оруэлл, George Orwell - Страница 20
1984
Часть третья
I
ОглавлениеОн не знал, где находится. Вероятно, в Министерстве любви, но можно было только гадать. Уинстон сидел в камере без окон, с высоким потолком и белыми стенами из блестящего кафеля. Скрытые лампы заливали камеру холодным светом, и слышалось тихое ровное гудение, которое он отнес на счет вентиляции. Вдоль стен тянулась скамья, точнее сказать, уступ, на который можно было примоститься. Его перемежала дверь и толчок без стульчака у стены напротив. На всех четырех стенах установлены телеэкраны.
Живот ныл тупой болью. Боль не проходила с тех пор, как его закинули в закрытый фургон и повезли. А еще его мучил голод, какой-то грызущий нечестивый голод. Возможно, он не ел уже сутки, а то и больше. Он так и не знал и вряд ли теперь узнает, арестовали его утром или вечером. С тех пор его не кормили.
Он сидел на уступе, скрестив руки на колене и стараясь не шевелиться. Он уже усвоил, как надо сидеть. Если сделать неожиданное движение, на тебя заорет телеэкран. Но ему все сильнее хотелось есть. Больше всего хотелось хлеба. Ему почудилось, что в карманах комбинезона могло заваляться несколько крошек. Или даже приличная корка – просто ему что-то натирало ногу сквозь ткань. В итоге желание выяснить это пересилило страх, и он сунул руку в карман.
– Смит! – рявкнул телеэкран. – 6079 Смит У.! Руки из карманов в камере!
Он снова сел неподвижно, скрестив руки на колене. Прежде чем доставить его сюда, Уинстона держали в другом месте – не то в обычной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Сколько он пробыл там, неизвестно; сколько-то часов; трудно определять время без часов и окон. Шумная и страшно вонявшая камера была почти такой же, только дико грязной и битком набитой людьми. В большинстве своем – уголовниками, но было и несколько политических. Он тихо сидел, привалившись к стене, зажатый грязными телами, и ничего не замечал от страха и боли в животе, но все же ему бросалась в глаза разница в поведении партийцев и остальных. Партийцы были запуганы и молчаливы, а уголовники, похоже, на все и всех плевали. Они громко ругали охрану, лезли в драку, когда у них отбирали пожитки, царапали похабщину на полу, извлекали из таинственных складок в одежде еду и жевали ее, а когда телеэкран пытался навести порядок, орали и на него. С другой стороны, кажется, кое-кто из них был на короткой ноге с охраной, знал их прозвища и клянчил сигареты через глазок. Охрана тоже обходилась с уголовниками по-свойски, даже когда приходилось их прижимать. Было много разговоров о трудовых лагерях, куда рассчитывали попасть большинство сокамерников. В лагере, как понял Уинстон, «все ровно», если имеешь связи и знаешь ходы-выходы. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, гомосячество, проституция и даже нелегальный самогон из картошки. На должностях сплошь уголовники, в основном гангстеры и убийцы, составляющие местную аристократию. Всю грязную работу дают политическим.
Через камеру то и дело проходили всевозможные заключенные: наркоторговцы, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Иногда пьяницы так бузили, что приходилось усмирять их общими усилиями. Четверо охранников втащили растерзанную бабищу, лет под шестьдесят, оравшую и дрыгавшую ногами. Баба была с огромными грудями и густыми седыми космами, растрепавшимися в потасовке. Охранники стащили с нее ботинки, которыми она лягалась, и швырнули ее на Уинстона, чуть не переломав ему ноги. Она села и крикнула им вслед: «Скоты паскудные»! Затем заметила, что сидит на чем-то неровном, и сползла с ног Уинстона на скамью.
– Звиняй, милок, – сказала она. – Я не сама на тебя вскочила, эти мрази бросили. Они разве можут с ледей обращаться? – Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. – Звиняй, я еще сама не своя.
Она нагнулась и обильно проблевалась на пол.
– Так-то лучче, – сказала она, откинувшись к стене с закрытыми глазами. – Не надо в нутре держать, я те грю. Выпускай, пока не закисло в кишках, ага.
Она оживилась, повернулась к Уинстону и, похоже, сразу к нему прониклась. Толстой ручищей она обхватила его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой.
– Тя как звать, милок? – спросила она.
– Смит, – ответил Уинстон.
– Смит? – удивилась она. – Смотри-ка. И я Смит. А шо, – произнесла она с чувством, – может, я твоя мамка!
Она могла бы ей быть, подумал Уинстон. По годам и сложению вполне подходила, а двадцать лет на каторге, надо думать, отражаются на внешности.
Никто больше не заговаривал с ним. Даже странно, до чего уголовники сторонились партийцев, «политу», как они их называли с надменным презрением. А партийцы, похоже, боялись с кем-либо заговаривать, и больше всего между собой. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он расслышал в общем гомоне, как одна быстро прошептала другой что-то про «сто первую комнату», озадачив его.
В одиночной камере он провел уже часа два или три. Ноющая боль в животе не отпускала, периодически то слабея, то усиливаясь, и его мысли растекались и собирались соответственно. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о еде. Когда же боль слабела, его охватывала паника. Случалось, он с такой ясностью представлял себе все ожидаемые пытки, что сердце выпрыгивало из груди и перехватывало дыхание. Он ощущал, как его бьют дубинкой по локтям, а подкованными сапогами – по щиколоткам, видел себя ползающим по полу и молящим о пощаде, выплевывая зубы. Он почти не думал о Джулии. Не мог сосредоточиться на ней. Он любил ее и не собирался предавать, но это было сухим фактом, азбучной истиной. Он не ощущал любви к ней прямо сейчас и почти не думал, каково ей в данную минуту. Чаще возникали мысли об О’Брайене, давая зыбкую надежду. О’Брайен мог узнать о его аресте. Он говорил, что Братство никогда не пытается спасти своих. Но он говорил и о лезвиях; они переправят ему, если смогут. У него будет, наверное, секунд пять, прежде чем охранники ворвутся в камеру. Лезвие вопьется в него с обжигающим холодом, прорезав до кости сжимающие его пальцы. Все недуги вернулись в его измученное тело, и оно отзывалось лихорадочной дрожью на малейшую боль. Он не был уверен, что воспользуется лезвием, даже если представится случай. Природный закон велел растягивать существование секунду за секундой, выгадывая лишние десять минут, даже если ты уверен, что в конце тебя ждут пытки.
Иногда он пытался сосчитать число кафельных плиток в стенах камеры. Казалось бы, ничего сложного, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, где находится и который теперь час. В один момент он был совершенно уверен, что сейчас ясный день, а в другой – что кромешная тьма. Интуиция подсказывала, что здесь никогда не гасят свет. Здесь не бывает темноты – теперь он понял, почему О’Брайен так легко уловил намек в его словах. В Министерстве любви нет окон. И камера, в которой он сидел, могла быть как в самом центре здания, так и у внешней стены; она могла быть в десяти этажах под землей или в тридцати над ее поверхностью. Он мысленно перемещал себя с места на место и пытался определить по физическим ощущениям, висит ли он высоко в небе или погребен в недрах земли.
Снаружи послышался топот сапог. Стальная дверь с лязгом открылась. Проворно вошел молодой офицер в аккуратном черном мундире, блестевшем начищенной кожей, с бледным, правильным лицом, напоминавшим восковую маску. Он дал знак охране снаружи ввести заключенного. В камеру вошел, пошатываясь, поэт Эмплфорт. Дверь с грохотом закрылась.
Эмплфорт неуверенно ткнулся из стороны в сторону, словно выискивая другую дверь, чтобы выйти отсюда, а затем принялся мерить шагами камеру. Уинстона он не замечал. Его беспокойный взгляд ощупывал стену в метре над головой Уинстона. Он был без обуви; из дырявых носков торчали большие грязные пальцы. Кроме того, он несколько дней не брился. Лицо, заросшее до скул щетиной, придавало ему разбойничий вид, который не вязался с его крупной нескладной фигурой и нервными движениями.
Уинстон решил выйти из анабиоза. Он должен заговорить с Эмплфортом, даже если заорет телеэкран. Возможно даже, что Эмплфорт принес ему лезвие.
– Эмплфорт, – позвал он.
Телеэкран не заорал. Эмплфорт остановился, чуть растерявшись. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне.
– А, Смит! – сказал он. – И вы тут!
– За что вас?
– Сказать по правде, – он неуклюже примостился на скамье напротив Уинстона, – преступление всегда одно, разве нет?
– И вы его совершили?
– Видимо, да. – Он поднес руки ко лбу и на миг сжал виски, словно пытаясь что-то вспомнить. – Такое случается, – начал он расплывчато. – Я могу припомнить один случай… возможный случай. Вне всякого сомнения, опрометчивый поступок. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я решился оставить в конце строки слово «молитва». Ничего не мог поделать! – добавил он почти с возмущением и поднял лицо на Уинстона. – Невозможно было изменить строку. Искал рифму для слова «битва». Вам известно, что с «битвой» рифмуются всего три слова? Несколько дней напрягал мозги. Остальные варианты не годились.
Выражение его лица поменялось. Досада ушла, и на секунду он показался почти довольным. Сквозь немытую щетину проступила интеллектуальная радость педанта, раскопавшего какой-то бесполезный факт.
– Вас никогда не посещала мысль, – сказал он, – что вся история нашей поэзии определяется бедностью английского на рифмы?
Нет, такая мысль никогда не посещала Уинстона. Учитывая обстоятельства, он не видел в ней ни смысла, ни интереса.
– Вы не знаете, который час? – спросил он.
Эмплфорт снова растерялся.
– Я как-то об этом не задумывался. Меня арестовали… пожалуй, дня два назад… или три. – Глаза его скользнули по стенам, словно еще надеясь отыскать окно. – Здесь день от ночи не отличишь. Не представляю, как тут можно вычислить время.
Бессвязная беседа затянулась еще на несколько минут, а потом без видимой причины телеэкран велел им замолчать. Уинстон тихо уселся, сложив руки. Эмплфорт не помещался на узкой скамье и ерзал туда-сюда, обхватывая костлявыми руками то одно, то другое колено. Телеэкран рявкнул ему сидеть смирно. Время шло. Двадцать минут, час – трудно было сказать. Потом за дверью снова затопали сапоги. У Уинстона все сжалось. Скоро, очень скоро, может, через пять минут, может, прямо сейчас, эти сапоги придут за ним.
Дверь открылась. В камеру вошел молодой офицер с холодным лицом. Легким движением руки он указал на Эмплфорта.
– В сто первую, – приказал он.
Эмплфорт неуклюже вышел между охранниками со смутной тревогой и недоумением.
Прошло как будто еще много времени. Боль в животе вернулась с новой силой. В уме у Уинстона кружились все те же мысли, словно шар, проходящий через одни и те же пазы. Мыслей было всего шесть: боль в животе, кусок хлеба, кровь и крики, О’Брайен, Джулия, лезвие. Живот вновь скрутило – приближались тяжелые сапоги. Открылась дверь, и волна воздуха внесла запах холодного пота. В камеру вошел Парсонс. В шортах цвета хаки и майке.
На этот раз Уинстон остолбенел.
– Ты здесь! – воскликнул он.
Парсонс смерил Уинстона горестным взглядом, без тени интереса или удивления. Он принялся нервно ходить взад-вперед, видимо, не в силах успокоиться. Всякий раз, как он распрямлял свои пухлые колени, становилось заметно, как сильно они дрожат. Широко раскрытые глаза его уставились куда-то вдаль, словно он отчаянно всматривался во что-то сквозь стену.
– За что тебя взяли? – спросил Уинстон.
– Мыслефелония! – ответил Парсонс, чуть не плача.
В голосе его слышалось полное признание вины и какой-то изумленный ужас, оттого что такое слово могло иметь к нему отношение. Он встал напротив Уинстона и затараторил сбивчиво и жалостливо:
– Как думаешь, меня ведь не расстреляют, а, старик? Они же не расстреливают, если ты ничего такого не сделал – только подумал. Ведь мыслям не прикажешь? Я знаю, будет объективное разбирательство. О, в этом я за них ручаюсь! Они же знают про меня, знают же? Ты-то знаешь, какой я парень. Неплохой по-своему. Ума, конечно, немного, но я старательный. Я, как мог, для Партии трудился, разве нет? Отделаюсь пятью годами, как думаешь? Или пусть десятью? Парень вроде меня и в лагере найдет, чем пользу принести. Меня ж не расстреляют, если я разок слетел с катушек?
– Ты виноват? – спросил Уинстон.
– Конечно, виноват! – вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телеэкран. – Ты же не думаешь, что Партия арестует невиновного, а? – Его лягушачье лицо чуть успокоилось, вплоть до постного самодовольства. – Мыслефелония – кошмарная штука, старина, – сказал он наставительно. – Коварная. Она может овладеть тобой, а ты и знать не будешь. Знаешь, как мной овладела? Во сне! Да, это факт. Вот он я – работал вовсю, вносил свою лепту и думать не думал, что у меня какая-то дрянь в башке. А потом стал во сне разговаривать. Знаешь, что услышали, я говорил? – Он понизил голос, как человек, вынужденный признаться в непристойной болезни. – «Долой Большого Брата»! Да, я так сказал! И, похоже, не раз. Между нами, старик, я рад, что меня взяли, пока я ничего не натворил. Знаешь, что я им скажу, когда предстану перед трибуналом? «Спасибо вам, я им скажу, спасибо, что спасли меня, пока не стало поздно».
– Кто на тебя донес? – спросил Уинстон.
– Дочурка моя, – сказал Парсонс со скорбной гордостью. – Подслушала через замочную скважину. Услышала, что болтаю, и шасть к патрульным на другой день. Умно для семилетней пигалицы, а? Я на нее зла не держу. По правде, горжусь. Это по-любому говорит, что я воспитал ее в правильном духе.
Он снова нервно прошелся по камере несколько раз, бросив томительный взгляд на толчок. А затем вдруг спустил шорты.
– Извини, старина, – сказал он. – Не могу терпеть. Это от волнения.
Он плюхнулся пухлыми ягодицами на толчок. Уинстон закрыл лицо руками.
– Смит! – гаркнул телеэкран. – 6079 Смит У.! Открыть лицо. В камере лицо не закрывать.
Уинстон открыл лицо. Парсонс облегчался громко и обильно. Смыв оказался неисправен, и в камере дико воняло не один час.
Парсонса увели. Новые заключенные продолжали появляться и загадочно исчезать. Одну женщину направили в «сто первую комнату», и Уинстон заметил, как она при этом съежилась и изменилась в лице. Прошло немало времени, так что если его доставили утром, настал вечер; или, если его доставили вечером, настала ночь. В камере остались шесть заключенных обоего пола. Все сидели очень смирно. Напротив Уинстона съежился человек с длинными зубами и совсем без подбородка, напоминавший крупного безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки свисали брылями, как у хомяка, набравшего запасы. Светло-серые глаза пугливо обшаривали лица и тут же отворачивались, встретив чей-нибудь взгляд.
Открылась дверь, и ввели очередного заключенного, при виде которого Уинстон похолодел. Заурядный гаденький человечек, возможно, инженер или какой-нибудь техник. Пугало его изможденное лицо. Это был череп, обтянутый кожей. Из-за худобы рот и глаза выглядели непомерно большими, а в глазах застыла убийственная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то.
Вошедший сел на скамью чуть в стороне от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо-череп так и стояло перед глазами. Внезапно он понял, в чем дело. Этот человек умирал от голода. Казалось, все в камере тоже подумали об этом. По всей скамье обозначилось едва заметное шевеление. Человек-хомяк то и дело бросал взгляд на человека-черепа и тут же виновато отводил глаза, и снова смотрел, влекомый неотвратимой силой. Затем начал ерзать. Наконец, встал, подошел вперевалку к скамье напротив, сунул руку в карман комбинезона и смущенно протянул замызганный кусок хлеба человеку-черепу.
Яростный оглушительный рык вырвался из телеэкрана. Человек-хомяк отскочил назад. Человек-череп быстро убрал руки за спину, как бы показывая всему миру, что не принял дар.
– Бамстед! – взревел голос. – 2713 Бамстед Джей! Брось на пол этот хлеб!
Человек-хомяк бросил хлеб на пол.
– Стой где стоишь, – приказал голос. – Лицом к двери. Не двигаться.
Человек-хомяк подчинился. Мешковатые брыли мелко дрожали. Дверь с лязгом открылась. Вошел молодой офицер и впустил низкорослого коренастого охранника с огромными ручищами и плечами. Он встал напротив человека-хомяка и по знаку офицера размахнулся и врезал тому в челюсть, вложив в удар весь свой вес. Несчастного словно сдуло. Он пролетел через всю камеру и грохнулся у самого толчка. Секунду он лежал оглушенный, а изо рта и носа текла темная кровь. Он издал, казалось, бессознательный и едва слышный полустон-полувсхлип. Затем перевалился на живот и неловко встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью выпали две половинки зубного протеза.
Заключенные сидели неподвижно, скрестив руки на коленях. Человек-хомяк вернулся на свое место. Одна щека у него потемнела. Рот вспучился вишневой массой с черной дырой посередине. Время от времени на комбинезон капала кровь. Серые глаза все так же перескакивали между лицами с выражением еще большей вины, словно человек пытался понять, сильно ли другие презирают его за испытанное унижение.
Открылась дверь. Легким жестом офицер указал на человека-черепа.
– В сто первую, – указал он.
Рядом с Уинстоном раздался шумный вздох и возня. Заключенный упал на колени, умоляюще сложив ладони.
– Товарищ! Офицер! – воскликнул он. – Не надо меня туда! Разве я вам уже не все рассказал? Что еще вы хотите знать? Я во всем готов признаться, во всем! Только скажите в чем, и я сразу признаюсь. Напишите сами, и я подпишу что угодно! Только не в сто первую!
– В сто первую, – повторил офицер.
И без того бледное лицо человека приняло такой оттенок, что Уинстон с трудом поверил своим глазам. Оно отчетливо позеленело.
– Что угодно со мной делайте! – завопил он. – Вы меня неделями голодом морите. Кончайте уже и дайте мне умереть. Застрелите меня. Повесьте. Дайте двадцать пять лет. Хотите, я еще кого выдам? Только укажите кого, и я скажу все, что хотите. Мне все равно, кто это и что вы с ними сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему нет шести. Можете всех забрать и перерезать глотки на моих глазах, и я буду молча смотреть. Только не в сто первую!
– В сто первую, – произнес офицер.
Безумным взглядом человек-череп оглядел других заключенных, словно выискивая жертву вместо себя. Его глаза остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул тощую руку.
– Вот кто вам нужен, не я! – закричал он. – Вы не слышали, что он говорил, когда ему вмазали. Позвольте, я вам все перескажу. Это он против Партии, а не я. – Приблизились охранники, и голос взлетел до визга. – Вы не слышали его! – твердил он. – Телеэкран не сработал. Это он вам нужен. Его берите, не меня!
Два дюжих охранника нагнулись, чтобы взять его под руки. В тот же миг он бросился на пол и вцепился в железные ножки скамьи. Бессловесный вой его уже походил на животный. Охранники пытались оторвать его от скамьи, но он цеплялся с поразительной силой. Секунд двадцать они с ним возились. Другие заключенные сидели смирно, сложив руки на коленях и глядя перед собой. Вой стих; сил у человека оставалось только на то, чтобы держаться. Затем раздался крик другого рода. Ударом сапога охранник сломал ему пальцы. Его подняли на ноги.
– В сто первую, – сказал офицер.
Человека вывели, он поплелся, свесив голову и прижимая к себе изувеченную руку, – боевой дух покинул его.
Прошло много времени. Если человека-черепа увели ночью, теперь было утро; если увели утром, был вечер. Уинстон сидел в одиночестве уже несколько часов. Узкая скамья причиняла боль, так что он периодически вставал и прохаживался по камере. Телеэкран не возражал. Хлеб все так же лежал на месте, где его бросил человек-хомяк. Сначала было трудно не смотреть на него, но потом голод пересилила жажда. Во рту было липко и противно. Гудение вентиляции и ровный белый свет вызывали дурноту, ощущение пустоты в голове. Он вставал, когда боль в костях становилась невыносимой, но всякий раз почти сразу садился, чтобы не упасть от головокружения. Когда же удавалось преодолеть физическую слабость, возвращался ужас. Время от времени он с угасающей надеждой думал об О’Брайене и лезвии. Лезвие, наверно, передадут в еде, если его вообще будут кормить. Более смутно думалось о Джулии. Где-то сейчас она страдает. Возможно, ей еще хуже, чем ему. Быть может, в этот самый миг она кричит от боли. «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные страдания, решился бы я на это? Да, решился бы». Но это было чисто умственным решением, которое он принял просто потому, что считал правильным. Он не мог его прочувствовать. Здесь вообще невозможно чувствовать ничего, кроме боли и страха перед ней. И потом, можно ли желать при ощущении боли ее усиления, ради чего бы то ни было? На этот вопрос он пока не мог ответить.
Снова послышался топот сапог. Открылась дверь. Вошел О’Брайен.
Уинстон вскочил на ноги. От изумления он лишился всякой предосторожности. Впервые за многие годы он забыл о телеэкране.
– И вас они взяли! – воскликнул он.
– Они меня взяли давным-давно, – сказал О’Брайен чуть иронично, словно бы сожалея.
Он посторонился. В камеру вошел охранник с мощным торсом и длинной черной дубинкой.
– Вам это известно, Уинстон, – сказал О’Брайен. – Не обманывайте себя. Давно известно – всегда было известно.
Да, теперь он это осознал. Но думать было некогда. Все, что он видел, это дубинку в руках охранника. Она могла ударить его куда угодно: по макушке, по краю уха, по плечу, по локтю…
По локтю! Он рухнул на колени, почти парализованный, сжимая разбитый локоть другой рукой. Все взорвалось желтым светом. Непостижимо, непостижимо, чтобы один удар принес такую боль! Свет прояснился, и он смог увидеть двоих людей, смотревших на него сверху. Охранник засмеялся, глядя, как он корчится. Так или иначе один вопрос он себе уяснил. Никогда, ни за что на свете ты не можешь желать усиления боли. От боли можно хотеть только одного – чтобы она кончилась. В мире нет ничего ужаснее физической боли. Перед ее лицом нет героев, никаких героев, думал он снова и снова, корчась на полу и бессмысленно сжимая изувеченную левую руку.