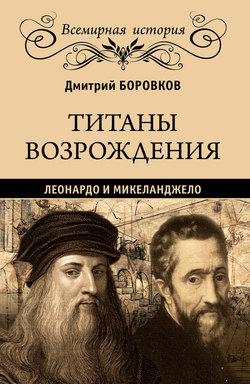Читать книгу Титаны Возрождения. Леонардо и Микеланджело - Дмитрий Александрович Боровков, Дмитрий Боровков - Страница 3
Леонардо да Винчи
ОглавлениеЛеонардо появился на свет в 1452 г. в местечке Анкиано под городом Винчи, входившим во владения Флорентийской республики. Точная дата рождения мастера известна благодаря записи, сделанной его дедом Антонио на одном из нотариальных актов и найденной в 1931 г. немецким исследователем Э. Мёллером, опубликовавшим ее восемь лет спустя, которая гласит: «Родился мой внук, сын сера Пьеро, моего сына, 15 апреля, в субботу, в третьем часу ночи (примерно за три часа до полуночи. – Д.Б.). Он получил имя Лионардо (так в тексте. – Д.Б.). Крестил его священник Пьеро ди Бартоломео из Винчи в присутствии Папинно ди Нанни, Мео ди Тонино, Пьеро ди Мальвольто, Нанни ди Венцо, Арриго ди Джованни Тедеско, донны Лизы ди Доменико ди Бреттоне, донны Антонии ди Джулиано, донны Никколозы дель Барна, донны Марии, дочери Нанни ди Венцо, донны Пиппы ди Превиконе»[2]. Из перечисленных лиц Папинно ди Нанни и Мария, дочь Нанни ди Венцо, были соседями семьи да Винчи, Арриго ди Джованни Тедеско (то есть Генрих, сын Иоганна Тевтонца) – управляющим местных землевладельцев, флорентийских магнатов Ридольфи[3], а Пьеро ди Мальвольто был крестным отцом Пьеро да Винчи.
Леонардо родился вне брака. Отец Пьеро [1426–1504] по семейной традиции был нотариусом. Его семья занималась этим ремеслом с XIV в. (древнейший из свидетельствующих об этом документов, в котором упомянут прадед Пьеро, сер Гвидо ди Микеле да Винчи, относится к 1339 г.)[4]. Семнадцатилетняя мать Леонардо Катерина была сиротой-крестьянкой[5]. Этот факт опровергает утверждение первого биографа Леонардо, называемого «Анонимом Гаддиано» или «Анонимом Мальябекьяно», что он «был по матери хорошей крови»[6], если не предполагать, что под словами buon sangue он подразумевал не благородство происхождения, а отсутствие в числе предков евреев. Новорожденный воспитывался в семье отца, который в том же 1452 г. женился на дочери нотариуса Альбьере Амадори и впоследствии сам стал респектабельным нотариусом, услугами которого пользовалось в том числе правительство Флоренции. Катерина через пару лет вышла замуж за обжигальщика извести Антонио по прозвищу Аккатабрига (Спорщик), сына Пьеро Бути дель Вакки, в браке с которым прожила более трети века.
В выписке из кадастра флорентийских граждан, составленной в 1457 г. его дедом Антонио да Винчи, Леонардо упоминается как «незаконный сын упомянутого сера Пьеро, рожденный им и Катериной, ныне женой Аккатабриги»[7]. Вероятно, упоминание в качестве члена семьи связано не только с бездетностью Альбьеры д’Амадори и его ролью потенциального продолжателя рода, но и с тем, что на ребенка полагался налоговый вычет в размере 200 флоринов[8]. На жительство во Флоренцию Леонардо, по всей вероятности, переехал после смерти мачехи и деда. Точная дата переезда неизвестна: одни исследователи относят его к 1464 г.[9], другие – к 1466 г.[10] Во Флоренции, являвшейся одним из культурных очагов Ренессанса, с 1434 г. контролировавшейся банкирами – меценатами из рода Медичи – Козимо Старшим (1434–1464), его сыном Пьеро (1464–1469) и внуком Лоренцо Великолепным (1469–1492), – перед Леонардо, рано продемонстрировавшим талант к рисованию, открылись новые перспективы.
Пьеро да Винчи устроил сына в художественную мастерскую (bottega) своего друга, художника и скульптора Андреа дель Верроккьо [1435–1488]. В опубликованных в середине XVI в. «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари писал, что Пьеро показал Андреа несколько его рисунков, попросив сказать, достигнет ли он успехов в рисовании, и что «пораженный теми огромнейшими задатками, которые он увидел в рисунках начинающего Леонардо, Андреа поддержал сера Пьеро в его решении посвятить его этому делу и тут же договорился с ним, чтобы Леонардо поступил к нему в мастерскую, что Леонардо сделал более чем охотно и стал упражняться не в одной только области, а во всех тех, куда входит рисунок»[11]. Предполагается, что Леонардо стал учеником Верроккьо в 1467 или 1468 гг.[12], но это могло произойти и раньше, поскольку обучение ремеслу художника занимало от 2 до 6 лет (в зависимости от возраста ученика), а к 20-летнему возрасту Леонардо уже являлся членом корпорации флорентийских художников (Цех святого Луки)[13]. В эти же годы в мастерской Верроккьо учились Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи, более известный как Пьетро Перуджино [1446–1523], и Лоренцо ди Креди [1459–1537]. Влияние Верроккьо испытал и Алессандро Филипепи, снискавший известность под именем Сандро Боттичелли [1445–1510], художественные приемы которого позже стали объектом критики Леонардо. Подобно Боттичелли и Перуджино, Леонардо постигал художественное мастерство не только в боттеге Верроккьо, но и в церкви Санта Мария дель Кармине, одна из капелл которой (капелла Бранкаччи) была украшена фреской на библейские сюжеты одним из основоположников реалистического искусства Кватроченто – Томмазо ди Гвиди или Мазаччо [1401–1428], – которая стала образцом для последующих поколений художников[14].
О ранних работах Леонардо известно со слов Вазари. «Говорят, что однажды, когда сер Пьеро из Винчи находился в своем поместье, один из его крестьян, собственными руками вырезавший круглый щит из фигового дерева, срубленного им на господской земле, запросто попросил его о том, чтобы этот щит для него расписали во Флоренции, на что тот весьма охотно согласился, так как этот крестьянин был очень опытным птицеловом и отлично знал места, где ловится рыба, и сер Пьеро широко пользовался его услугами на охоте и в рыбной ловле. И вот, переправив щит во Флоренцию, но так и не сообщив Леонардо, откуда он взялся, сер Пьеро попросил его что-нибудь на нем написать. Леонардо же, когда в один прекрасный день этот щит попал в руки и когда он увидел, что щит кривой, плохо обработан и неказист, выпрямил его на огне и, отдав его токарю, из покоробленного и неказистого сделал его гладким и ровным, а затем, пролевкасив и по-своему его обработав, стал раздумывать о том, что бы на нем написать такое, что должно было бы напугать каждого, кто на него натолкнется, производя то же впечатление, какое некогда производила голова Медузы. И вот для этой цели Леонардо напустил в одну из комнат, в которую никто, кроме него, не входил, разных ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей и другие странные виды подобных же тварей, из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламеняло воздух. Он изобразил его выползающим из темной расселины скалы и испускающим яд из разверзнутой пасти, пламя из глаз и дым из ноздрей, причем настолько необычно, что оно и на самом деле казалось чем-то чудовищным и устрашающим. И трудился он над ним так долго, что в комнате от дохлых зверей стоял жестокий и невыносимый смрад, которого, однако, Леонардо не замечал из-за великой любви, питаемой им к искусству. Закончив это произведение, о котором ни крестьянин, ни отец уже больше не спрашивали, Леонардо сказал последнему, что тот может, когда захочет, прислать за щитом, так как он со своей стороны свое дело сделал. И вот когда однажды утром сер Пьеро вошел к нему в комнату за щитом и постучался в дверь, Леонардо ее отворил, но попросил его обождать и, вернувшись в комнату, поставил щит на аналой и на свету, но приспособил окно так, чтобы оно давало приглушенное освещение. Сер Пьеро, который об этом и не думал, при первом взгляде от неожиданности содрогнулся, не веря, что это тот самый щит и тем более что увиденное им изображение – живопись, а когда он попятился, Леонардо, поддержав его, сказал: “Это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведений искусства”. Вещь эта показалась серу Пьеро более чем чудесной, а смелые слова Леонардо он удостоил величайшей похвалы. А затем, потихоньку купив у лавочника другой щит, на котором было написано сердце, пронзенное стрелой, он отдал его крестьянину, который остался ему за это благодарным на всю жизнь. Позднее же сер Пьеро во Флоренции тайком продал щит, расписанный Леонардо, каким-то купцам за сто дукатов, и вскоре щит этот попал в руки к миланскому герцогу, которому те же купцы перепродали его за триста дукатов»[15]. Если верить Вазари, нечто подобное Леонардо позднее попытался воплотить в живописи: «Ему пришла фантазия написать маслом на холсте голову Медузы с клубком змей вместо прически – самая странная и дерзкая выдумка, какую только можно себе вообразить. Однако, поскольку это была работа, для которой требовалось много времени, она так и осталась им незаконченной, как это, впрочем, и случалось с большинством его произведений»[16]. О том, что Леонардо изобразил «голову мегеры с удивительными, редкостными сплетениями змей», которая позднее украшала гардеробную герцога Флоренции Козимо I Медичи (1537–1574), свидетельствует «Аноним Гаддиано»[17].
Хрестоматийным является рассказ Вазари о том, что, работая над картиной «Крещение Христа Иоанном Крестителем» (ок. 1472–1473, Флоренция, галерея Уффици), Андреа дель Верроккьо поручил Леонардо написать фигуру ангела, а так как фигура, написанная учеником, превзошла фигуры, написанные учителем, «это послужило причиной тому, что Верроккьо никогда больше уже не захотел прикасаться к краскам, обидевшись на то, что какой-то мальчик превзошел его в умении»[18]. Этот же рассказ Вазари повторил в жизнеописании Верроккьо: «…Андреа никогда не оставался праздным и всегда занимался какой-нибудь живописной или скульптурной работой, иногда же одну работу перемежал с другой, дабы одно и то же не так ему надоедало, как это случается со многими, то, хотя он и не осуществил вышеназванные картоны, все же написал кое-что и между прочими алтарный образ для монахинь св. Доминика во Флоренции, который, как ему показалось, вышел у него очень удачно, почему вскоре после этого он написал в церкви Санти Сальви другой для братьев Валломброзы, на котором изобразил крещение Христа Иоанном; в этой работе ему помогал Леонардо да Винчи, который тогда был юношей и его учеником, написав там собственноручно ангела, оказавшегося гораздо лучше всего остального. И это стало причиной того, что Андреа решил никогда больше не притрагиваться к кистям, поскольку Леонардо, столь юный, в этом искусстве проявил себя гораздо лучше, чем он»[19].
Вероятно, эти сюжеты представляют собой лишь топосы историко-биографического жанра[20], своеобразную дань традиции, призванной подчеркнуть исключительность дарования Леонардо. Аналогичные рассказы Вазари приводит в биографиях Джотто ди Бондоне [1267–1337] и Рафаэля Санти [1483–1520], – но даже если он и допустил преувеличение, нельзя не заметить, что облик крайнего слева ангела, написанного Леонардо в «Крещении Христа»[21], отличается от ангела справа, написанного Верроккьо. Дж. К. Арган полагал, что «кисть Леонардо чувствуется не только в фигуре ангела, но и в пейзаже на заднем плане, особенно в долине с рекой, по которой свет, падающий с неба, перетекает на передний план в направлении ангела»[22].
Исследователи пытались найти следы причастности Леонардо к другим работам учителя и его школы – например, к изображению животных на картине «Товий и ангел» (ок. 1470–1472, Лондон, Национальная галерея)[23] или к так называемой «Мадонне с гранатом», по имени одного из владельцев называемой «Мадонной Дрейфуса» (ок. 1470–1472, Вашингтон, Национальная художественная галерея), которая атрибутируется Лоренцо ди Креди[24]. Благодаря рисунку рукава архангела Гавриила, найденному в набросках Леонардо, удалось атрибутировать его кисти картину «Благовещение» (ок. 1473–1475, Флоренция, галерея Уффици)[25], которая до XIX в. считалась работой Доменико Гирландайо [1449–1494].
Со слов Вазари известно, что в мастерской Верроккьо Леонардо трудился над фоном эскиза, изображавшего Адама и Еву в земном раю, по которому планировалось выткать во Фландрии шёлковую портьеру для короля Португалии. «Кистью и светотенью, высветленной белильными бликами, написал луг с бесчисленными травами и несколькими животными, и поистине можно сказать, что по тщательности и правдоподобию изображения божественного мира ни один талант не мог бы сделать ничего подобного. Есть там фиговое дерево, которое, не говоря о перспективном сокращении листьев и общем виде расположения ветвей, выполнено с такой любовью, что теряешься при одной мысли о том, что у человека может быть столько терпения. Есть там и пальмовое дерево, в котором округлость его плодов проработана с таким великим и поразительным искусством, что только терпение и гений Леонардо могли это сделать»[26]. О некоей акварели, изображавшей Адама и Еву и позже находившейся в доме Оттавиано Медичи, упоминает и «Аноним Гаддиано»[27].
Говоря о ранних работах Леонардо, следует помнить, что Вазари, по сути дела, записывал предания об их создании, производя литературную модификацию. Однако нельзя не обратить внимание на отмеченную им особенность художественного творчества Леонардо, проявившуюся уже на стадии его профессионального становления: стремление к реалистичной передаче изображения и скрупулезной проработке деталей, сочетавшимся с творческим непостоянством. Это подчеркивали и другие биографы Леонардо. Историк-гуманист Паоло Джовио [1483–1552], епископ итальянского города Ночеры, более известный под латинизированным именем Павел Йовий, писал, что Леонардо «придал живописи великое значение, отрицая право заниматься ею для тех, кто не подготовился к ней путем науки и изящных искусств, которые служат для живописи необходимою опорою. Он требовал, чтобы живописи предшествовали занятия пластикою, потому что она дает прообраз для воспроизведения фигур в плоскости. Ничто его так не занимало, как труды над оптикою, посредством которых он до тонкости постиг законы теней и света в их мельчайших подробностях». Однако этот же автор отмечал, что, «отыскивая разнообразные вспомогательные средства, он весьма неисправно трудился над одним определенным искусством и довел до конца очень мало работ», так как, «увлеченный легкостью своего гения и подвижностью натуры, он постоянно изменял первоначальным замыслам»[28].
В начале 1478 г. Леонардо, к тому времени владевший собственной мастерской, получил заказ на роспись алтаря капеллы Святого Бернарда в часовне дворца Синьории (теперь палаццо Веккьо)[29] – резиденции флорентийского правительства: заказ так и не был выполнен, несмотря на выплату аванса 25 флоринов. Незаконченными остались эскизы картины «Святой Иероним со львом в пустыне» (ок. 1480–1482, Рим, Пинакотека Ватикана)[30] и «Поклонение волхвов» (1481–1482, Флоренция, галерея Уффици)[31], написанное для центрального алтаря монастыря Сан-Донато в Скопето, делопроизводителем которого был Пьеро да Винчи. Условия контракта оказались обременительными для Леонардо: он должен был закончить работу за 2–2,5 года, получив в качестве оплаты треть собственности в Валле-д’Эльзе, пожертвованной отцом одного из монахов, которую мог продать монастырю за 300 флоринов. До 50 % этой суммы художнику предстояло отдать на благотворительность, оплатив приданое дочери некоего Сильвестро ди Джованни, а расходы на работу покрыть за свой счет. Так как Леонардо был вынужден регулярно прибегать к кредиту монастыря, размер его гонорара сокращался[32]. Не завершив эскиз, он покинул Флоренцию до истечения установленного в договоре срока, и монастырь Сан-Донато поручил работу над украшением алтаря художнику Филиппино Липпи [1457–1504].
Набросок «Поклонения волхвов», сделанный Леонардо, в XVI в. хранился в семье Америго Бенчи, племянника Джиневры Бенчи – дочери флорентийского банкира, выданной замуж за торговца Бернардо Никколини. В конце 1470-х гг. Леонардо написал портрет Джиневры (ок. 1478–1480, Вашингтон, Национальная художественная галерея)[33] по заказу ее поклонника Бернардо Бембо, венецианского посла во Флоренции в 1475–1476 и 1478–1480 гг., чей девиз Virtutem forma decorat («Красота украшает добродетель») и геральдические атрибуты (лавровая и пальмовая ветви) помещены на обороте картины. «Аноним Гаддиано» отмечал, что Леонардо «закончил портрет с таким совершенством, что, казалось, это был не портрет, а сама Джиневра»[34]. Эффект был достигнут за счет того, что лицо помещено не на заднем, а на переднем плане, на фоне кустов можжевельника, который являлся символом добродетели (то есть своеобразной отсылкой к девизу Бернардо Бембо), к тому же его название в итальянском языке (ginebra) созвучно имени Джиневра.
Портрет Джиневры Бенчи стал первым светским произведением Леонардо и единственным светским произведением первого флорентийского периода его творчества, в котором преобладали картины на религиозные темы. Так, из записи Леонардо известно, что осенью 1478 г. он приступил к работе над двумя картинами с изображением Мадонны: «…бря 1478 я начал две Девы Марии»[35]. Идентификация этих картин представляет затруднение: это могли быть «Мадонна с цветком» (ок. 1478–1480)[36], также называемая «Мадонной Бенуа» (по фамилии семьи коллекционеров, владевших картиной в XIX в., у одного из которых в 1910 г. ее приобрел Эрмитаж), и «Мадонна с младенцем» (ок. 1478–1490)[37], также называемая «Мадонной Литта» (по фамилии владельцев картины в XIX в., которые в 1865 г. также продали ее Эрмитажу).
Эти атрибуции небесспорны: предметом дискуссии остается степень причастности Леонардо к созданию картин и датировка, смещающаяся к концу XV в. Не исключено, что в записи имеется в виду эскиз, известный под названием «Мадонна с кошкой», и также относимая к 1470-м гг. «Мадонна с гвоздикой» (Мюнхен, Старая Пинакотека)[38], которую иногда отождествляют с картиной молодого Леонардо, по утверждению Вазари принадлежавшей римскому папе Клименту VII (1523–1534), где «в числе прочих изображенных на ней вещей он воспроизвел наполненный водой графин, в котором стоят несколько цветов и в котором, не говоря об изумительной живости, с какой он его написал, он так передал выпотевшую на нем воду, что роса эта казалась живей живого»[39]. Поскольку подобный графин с цветами изображен в правом нижнем углу «Мадонны с гвоздикой», она имеет второе название – «Мадонна с вазой».
Можно заметить, что в «Мадонне Бенуа» и в «Мадонне с гвоздикой» фигуры Богоматери и младенца Иисуса имеют определенное сходство как друг с другом, так и с некоторыми картинами школы Верроккьо (например, с «Мадонной Дрейфуса»), в то время как фигуры матери и младенца в «Мадонне Литта», на которой Дева Мария, кормящая грудью младенца Христа, изображена в профиль, не имеют такого сходства, что может служить доказательством более позднего ее происхождения. Некоторые исследователи (например, Э. Мёллер и Д. Браун) предполагали, что «Мадонна с гвоздикой» могла быть написана по заказу Медичи, на что якобы указывают капители колонн на заднем фоне, имеющие сходство с капителями дворца Микелоццо (флорентийской резиденции Медичи), а также изображение четырех шаров, свешивающихся с подушки, на которой сидит младенец Иисус и которые отождествляются с шарами, помещенными в гербе Медичи[40].
Связать меценатов Медичи с творчеством Леонардо еще в XVI в. пытались его биографы. «Аноним Гаддиано» сообщает, что Леонардо «с юных лет был близок к Лоренцо Медичи Великолепному, который, давая ему средства к жизни, пользовался его трудами в саду на площади Святого Марка во Флоренции», а когда Леонардо было 30 лет, «названный Лоренцо Великолепный послал его вместе с Аталантом Милиоротти к герцогу Миланскому, чтобы поднести ему лиру, на которой он играл, как никто»[41].
Примерно так же о появлении Леонардо в Милане повествует Вазари, ошибочно называя более позднюю дату приезда: «Когда умер миланский герцог Галеаццо и в 1494 году в тот же сан был возведен Лодовико Сфорца, Леонардо был с большим почетом отправлен к герцогу для игры на лире, звук которой очень нравился этому герцогу, и Леонардо взял с собой этот инструмент, собственноручно им изготовленный большей частью из серебра в форме лошадиного черепа, – вещь странную и невиданную, – чтобы придать ей полногласие большой трубы и более мощную звучность, почему он и победил всех музыкантов, съехавшихся туда для игры на лире. К тому же он был лучшим импровизатором стихов своего времени. Внимая же столь удивительным рассуждениям Леонардо, герцог настолько влюбился в его таланты, что даже трудно было этому поверить»[42].
«Аноним Гаддиано» и Вазари представляют дело так, будто Леонардо уехал из Флоренции в Милан по поручению Лоренцо Медичи, отправившего его с культурно-дипломатической миссией к Лодовико Сфорце по прозвищу Моро, который носил титул герцога Бари, а также был регентом миланского герцогства при малолетнем племяннике Джана Галеаццо Сфорцы. Возможно, Леонардо входил в состав флорентийского посольства Бернардо Ручеллаи и Пьера Франческо да Сан Миниато, направленного в Милан в начале 1482 г., а оказавшись в Милане, проявил инициативу в поисках покровителя. В так называемом Атлантическом кодексе (fol. 391r) сохранился черновик письма, написанного, по обыкновению Леонардо, справа налево, в котором он предложил свои услуги Лодовико Моро.
«Светлейший Государь, рассмотрев и вполне обдумав опыты всех тех, которые считаются мастерами и изобретателями военных орудий, и найдя, что по устройству и действию эти орудия ничем не отличаются от общеупотребительных, я постараюсь, не нанося никому ущерба, открыть перед Вашей Светлостью некоторые мои секреты. Теперь же я предложу осуществить, по вашему благоусмотрению и в надлежащее время, надеясь притом на успех, все вещи, которые я здесь вкратце перечислю:
1. Я знаю способ делать мосты, в высшей степени легкие и удобные для переноски, посредством которых можно преследовать и даже обращать в бегство врагов, и другие надежные мосты, невредимые в огне и битве, легкие и удобные для подъема и перекидывания. Я знаю способы предавать огню и разрушать мосты врагов.
2. На случай осады какой-нибудь местности я знаю способ осушать рвы, делать различные мостки со ступенями и другие орудия, пригодные для осады.
3. Если вследствие высоты вала или недоступности места нельзя прибегнуть к бомбардированию его, то я знаю способ разрушить всю крепость, обыкновенную или горную, если только она построена не на скале.
4. Я знаю способы делать пушки, очень удобные и легкие для передвижения, которыми можно метать, подобно буре, мелкие камни и дым которых нагоняет страх на врагов, причиняя им урон и вызывая смятение.
5. Я знаю способы прокладывать, не производя ни малейшего шума, подземные ходы, узкие и извилистые, чтобы достигнуть известного пункта, на случай, если бы понадобилось идти под рвами или под какой-нибудь рекой.
6. Я делаю закрытые повозки, надежные и неповредимые. Врезавшись в среду врагов, повозки эти, со своей артиллерией, могут разомкнуть какое угодно количество вооруженных людей, а позади этих повозок может следовать пехота – без опасности и без малейшего затруднения.
7. В случае надобности я могу делать пушки, мортиры и огнеметательные снаряды красивейшей и наиболее целесообразной формы, отличающиеся от тех, какие находятся в общем употреблении.
8. Там, где нет возможности прибегнуть к пушкам, я могу делать камнемётные и другие метательные машины, действующие с необыкновенным успехом, – вне общего употребления. Вообще, согласно обстоятельствам, я могу создавать самые разнообразные орудия для причинения вреда.
9. В случае, если дело происходит на море, я знаю множество орудий, в высшей степени пригодных для нападения и обороны, и судна, выдерживающие самую жестокую пальбу, и взрывчатые вещества, и вещи, производящие дым.
10. В мирное время надеюсь быть в высшей степени полезным – по сравнению с кем угодно – в архитектуре, в сооружении и публичных и частных зданий и в проведении воды из одного места в другое.
Могу работать, в качестве скульптора, над мрамором, бронзою и глиною, а также в живописи могу делать все, что только можно сделать, – по сравнению с кем угодно.
Также можно будет соорудить бронзового коня, который составит бессмертную славу и вечную честь блаженной памяти вашего отца и знаменитого дома Сфорцы. Если же кто-нибудь найдет что-либо из вышесказанного невозможным и неисполнимым, я совершенно готов произвести опыт или в вашем парке, или в любом другом месте, угодном вашей светлости, которой я доверяю себя с нижайшим почтением»[43].
Еще в XIX в. публикатор манускриптов художника Ш. Равессон-Молльен предположил, что это письмо написано не самим Леонардо. Г. Сеайль считал, что оно было продиктовано им[44]. Л. Бельтрами, опубликовавший подборку документов о Леонардо, охарактеризовал его как «сомнительный автограф»[45]. Письмо ориентировано на военно-инженерные потребности миланского регента, который в 1482 г. вел войну с Венецией. Лишь в конце письма Леонардо упоминает об имевшихся у него навыках скульптора, позволявших изваять конный монумент Франческо I (1450–1466), который благодаря браку с незаконнорожденной дочерью миланского герцога Филиппо Марии Висконти (1412–1447) положил начало династии Сфорца. Этот монумент в 1473 г. задумал возвести его старший сын Галеаццо Мария, однако не успел этого сделать, так как в 1476 г. был убит, а затем на протяжении почти трех лет продолжалась борьба за власть между вдовой Галеаццо Боной Савойской и его братом Лодовико.
В связи с этим возникает вопрос: где Леонардо мог получить военно-технические навыки, о которых он говорил в письме к Лодовико, если в боттеге Верроккьо он обучался лишь живописи и скульптуре?
Ответ дает одна из записей Леонардо в Атлантическом кодексе (fol. 12v), на первый взгляд кажущаяся непонятной: «Квадрант Карло Мармокки; мессер Франческо, герольд; сер Бенедетто ди Чиеперелло; Бенедетто дель Абако; маэстро Паголо, врач; Доменико ди Микелино; Лысый Альберти; мессер Джованни Аргиропул». В этой записи речь идет о членах научного кружка, куда входили географ и астроном Карло Мармокки, который, видимо, принес коллегам по кружку квадрант или объяснял его действие, Франческо Филарете, герольд Синьории в 1478 г., нотариус Бенедетто ди Чиеперелло, математик Бенедетто дель Абако, медик, математик, географ и астроном Паоло Тосканелли, живописец Доменико ди Микелино, Карло Альберти, родственник художника и архитектора Леона Баттисты Альберти, и византийский гуманист Иоанн Аргиропул[46].
Вазари свидетельствует о том, что Леонардо не только испытывал интерес к механике, но и был первым, «кто, будучи еще юношей, обсудил вопрос о том, как отвести реку Арно по каналу, соединяющему Пизу с Флоренцией». Также «он делал рисунки мельниц, сукновальных станков и прочих машин, которые можно привести в движение силой воды», и «постоянно делал модели и рисунки, чтобы показать, как возможно с легкостью сносить горы и прорывать через них переходы из одной долины в другую и как возможно поднимать и передвигать большие тяжести при помощи рычагов, воротов и винтов, как осушать гавани и как через трубы выводить воду из низин, ибо этот мозг никогда в своих измышлениях не находил себе покоя». Среди этих рисунков был один, «при помощи которого он не раз доказывал многим предприимчивым гражданам, управлявшим в то время Флоренцией, что он может поднять храм Сан Джованни и подвести под него лестницы, не разрушая его, и он их уговаривал столь убедительными доводами, что это казалось возможным, хотя каждый после его ухода в глубине души и сознавал всю невозможность такой затеи»[47].
Если боттега Верроккьо сформировала Леонардо-художника, то научно-технический кружок, главой которого, по-видимому, был Паоло Тосканелли, скончавшийся в мае 1482 г. в возрасте 85 лет, способствовал становлению Леонардо-инженера, который решил применить полученные навыки на службе в мМланском герцогстве, куда отправился в том же году[48]. Уезжая в Милан, Леонардо, видимо, взял с собой некоторые работы, перечень которых, помещенный в Атлантическом кодексе (fol. 340r), не менее впечатляющий, чем «резюме», направленное миланскому регенту.
«Многочисленные цветы, нарисованные с натуры; голова в кудрях; некоторые [наброски?] святого Джироламо; размеры фигуры; рисунки печей; голова герцога; многочисленные групповые рисунки; 4 рисунка доски святого ангела; этюд о Джироламо да Фелине; голова Христа, написанная пером; 8 [набросков?] святого Себастьяна; многочисленные рисунки ангелов; халцедон; голова в профиль с красивыми волосами; некоторые тела в перспективе; некоторые судовые аппараты; некоторые водные аппараты; голова Аталанта (Милиоротти. – Д.Б.), нарисованная с поднятым лицом; голова Джеронимо да Фелине; голова Джан Франческо Борсо; многочисленные изображения горла, многочисленные изображения старых голов; многочисленные изображения целых обнаженных; многочисленные изображения рук, ног и поз; одна законченная Богородица (Nostra Donna); другая почти что в профиль; голова Богородицы, которая уходит на небо; голова старца с длинным лицом; голова цыгана, голова с волосами; изображение страстей, сделанное в модели; голова девушки с заплетенными косами; голова с украшением»[49].
Очевидно, большинство упомянутых вещей представляли собой эскизы или наброски к картинам и портретам. Возможно, что под «законченной Богородицей» Леонардо подразумевал «Мадонну Бенуа» или «Мадонну с гвоздикой», тогда как к описанию второй Богородицы («почти что в профиль») подходит «Мадонна Литта»[50], однако этой атрибуции препятствует то, что эта картина относится к первому миланскому периоду его творчества и, по всей видимости, не принадлежит ему полностью.
Первые работы Леонардо в Милане были не инженерно-технического, а художественного характера. 25 апреля 1483 г. вместе с братьями Амброджо [между 1455 и 1508] и Эванджелистой де Предисами [? – 1491] он получил от монахов-францисканцев из братства Непорочного Зачатия заказ на картину с изображением Мадонны для алтаря церкви Сан Франческо Гранде в Милане, стоимость которой была оценена в 800 лир гонорара и 100 «премиальных» лир сверху. После завершения картины, известной сегодня под названием «Мадонна в скалах» (1483–1484, Париж, Лувр)[51], Леонардо и Амброджио потребовали увеличения премии в четыре раза, мотивируя это требование превышением расходов на изготовление картины, что привело к многолетней судебной тяжбе, арбитром в которой стал Лодовико Моро. Несколько лет спустя тандем Леонардо и Амброджио изготовил еще один вариант «Мадонны в скалах» (ок. 1495–1499 и 1506–1508, Лондон, Национальная галерея)[52], который, однако, нельзя назвать точной копией первой картины.
По сравнению с лондонской «Мадонной» луврская «Мадонна» выполнена в темных тонах, так что ее можно назвать «Мадонной в сумерках». «…Поразительно то, что этот гений, стремившийся придавать как можно больше рельефности всему тому, что он изображал, настолько старался углубить темноту фона при помощи темных теней, что выискивал такие черные краски, которые по силе своей затененности были бы темнее всех других оттенков черного цвета, с тем, чтобы благодаря этой черноте светлые места казались более светящимися; однако в конце концов способ этот приводил к такой темноте, что вещи его, в которых уже не оставалось ничего светлого, имели вид произведений, предназначенных для передачи скорее ночи, чем всех тонкостей дневного освещения, а все это – только для того, чтобы добиться возможно большей рельефности, дабы достигнуть пределов совершенства в искусстве» – так описывал Вазари использовавшуюся Леонардо технику sfumato[53]. «…Хотя в области световых решений другие художники значительно опередили Леонардо, – писал Б. Бернсон, – никому не удавалось передать светотень с тем проникновенным и таинственным чувством, каким овеяна «Мадонна в скалах»[54]. Э. Нойманн считал, что эта мадонна уникальна тем, что «ни в одном другом произведении искусства с такой красноречивостью не было сказано, что свет рождается из тьмы и что Дух-Мать младенца-Спасителя един с оберегающей бесконечностью земной природы», а «треугольник, основание которого покоится на земле, определяющий структуру картины, является старым женским символом, пифагорейским знаком мудрости и пространства»[55].
На заднем плане луврской «Мадонны», за скалами, изображен солнечный закат, большая часть неба покрыта тучами. На переднем плане, под сводами пещеры, помещены четыре фигуры: младенца Иоанна Крестителя (в левом нижнем углу), Девы Марии (в центре), младенца Христа, поднимающего в благословении правую руку, и архангела (справа), который указательным пальцем правой руки указывает на Иоанна. Лондонская «Мадонна» выполнена в более светлых тонах: на заднем плане видно голубое небо, указывающее на более светлое время суток; доминирующие цвета в одежде Девы Марии – голубой и коричневый, гармонирующие с цветом неба, ручья и скал (в луврской «Мадонне» – темно-синий и ярко-красный); четко прорисованы крылья архангела, но отсутствует указующий жест; над головами обнимающего большой крест Иоанна, Марии и Иисуса, который также дает благословение правой рукой, нарисованы нимбы. Эти модификации могли быть связаны с тем, что большая часть лондонской «Мадонны» написана не Леонардо, а Амброджио де Предисом, привнесшим в картину новые элементы.
Ситуацию с взаимной связью луврской и лондонской «Мадонны» осложняет свидетельство «Анонима Гаддиано», который утверждал, что Леонардо «сделал картину для алтаря синьору Лодовико Миланскому, которую видевшие ее знатоки считают одним из самых прекрасных и редких произведений живописи», которую «вышеназванный синьор послал императору германскому»[56]. О том же произведении писал Вазари, назвавший его написанным на дереве «алтарным образом Рождества»[57]. Если под «германским императором» подразумевать главу Священной Римской империи германской нации Максимилиана I Габсбурга (1493–1519), это событие могло иметь место в промежутке между женитьбой Максимилиана на племяннице Лодовико Бьянке Марии Сфорца (1493) и пленением Лодовико (1500).
Интересно, что в инструкции от 13 апреля 1485 г. Маффео да Тревильо, миланскому послу при дворе короля Венгрии Матвея Корвина (1458–1490), говорится: «…Ныне здесь находится отличный живописец, которому мы не знаем равных, после того как увидели опыты его ума, отдав приказ этому живописцу, чтобы он сделал фигуру Нашей Госпожи, насколько восхитительной красотой и благочестием он сумеет ее сделать, не считая каких-либо трат, и когда он подготовит нынешнюю работу, то не приступит к другой работе до тех пор, пока не закончит ту, которую потом мы отправим в дар Его Величеству»[58]. По всей видимости, речь в этом письме шла о Леонардо да Винчи, но трудно сказать, было ли воплощено в жизнь намерение Лодовико Моро подарить картину Леонардо венгерскому королю, как и о том, отправил ли он в подарок императору первый вариант «Мадонны в скалах», который, как полагают исследователи, мог попасть в коллекцию французских королей после того, как внучка Максимилиана I Элеонора в 1530 г. вышла замуж за короля Франции Франциска I (1515–1547).
Как следует из документов судебного процесса между художниками и монахами, лондонская «Мадонна», по-видимому, была закончена в 1506–1508 гг., так что речь могла идти или о луврской «Мадонне» (если она не была передана братству из-за финансовых разногласий), или о какой-нибудь иной картине, поскольку сюжет луврской и лондонской «Мадонны» повествует о встрече Иисуса и Иоанна в младенческом возрасте, тогда как Вазари говорит, что императору был подарен алтарный образ Рождества Христова (Nativitá). Если изображения детских фигур на луврской «Мадонне» близки к ранним работам Леонардо (например, к «Мадонне Бенуа»), то фигуры в лондонской «Мадонне» ближе к изображению Христа в «Мадонне Литта», авторство которой, наряду с Леонардо, нарисовавшим несколько эскизов к картине, приписывается одному из его учеников – Джованни Антонио Больтраффио [1467–1516], возможно, бывшему ассистентом Леонардо в работе над портретом молодого человека в красной шапочке, известном как «Портрет музыканта» (ок. 1485, Милан, Амброзианская пинакотека)[59], позировать для которого мог другой ученик Леонардо, Аталанте Милиоротти [ок. 1466 – ок. 1535][60].
Кроме картин на религиозные темы, Леонардо работал в Милане над светскими картинами, к числу которых также относятся «Дама с горностаем» (ок. 1489–1490, Краков, Национальный музей)[61] и «Прекрасная ферроньера» (ок. 1490–1495, Париж, Лувр)[62]. В начале XIX в. биограф Леонардо К. Аморетти, хранитель Амброзианской библиотеки в Милане, предположил, что на обоих портретах изображены фаворитки Лодовико Моро: дамой с горностаем является Чечилия Галлерани, которая была любовницей Лодовико с 1489 по 1491 г. и родила от него сына Чезаре, а дамой с ферроньерой (головной повязкой с драгоценностью) – Лукреция Кривелли[63]. «То, что великие художники, например Леонардо, писали портреты любовниц своих повелителей, было само собой разумеющимся», – отмечал Я. Буркхардт[64].
Отказавшись от статичного изображения Чечилии Галлерани, Леонардо при написании портрета отдал предпочтение динамике, так что ее голова была повернута влево, а верхняя часть туловища – вправо. Повторив творческий прием, примененный на портрете Джиневры Бенчи, художник изобразил на руках Чечилии горностая, присутствие которого было аллюзией не только на фамилию Галлерани, напоминающую греческое слово «galée» (горностай), но и на Лодовико Моро, который в 1488 г. был принят королем Неаполя Фердинандом I (1458–1494) в рыцарский орден Горностая и использовал его изображение как одну из своих эмблем[65]. В одном из сонетов, восхвалявших «благоразумие синьора Лодовико», придворный поэт Бернардо Беллинчиони [1452–1492], так же как и Леонардо променявший флорентийский двор Лоренцо Великолепного на миланский двор Лодовико Моро, назвал его «итальянским мавром» и «белым горностаем» (L’italico Morel bianco Ermellino)[66]. Наконец, изображение горностая считалось аллегорическим символом чистоты и умеренности, о чем свидетельствует запись самого Леонардо в Парижском кодексе H: «Горностай по своей умеренности ест не более одного раза в день и скорее позволит схватить себя охотникам, чем пожелает сбежать в грязную нору, чтобы замарать свою красивую шкуру»[67]. Однако толкование насчет горностая как символа чистоты в данном контексте представляется натянутым, учитывая двусмысленный характер взаимоотношений Лодовико с Чечилией, из-за которых пришлось отложить брак миланского регента с Беатриче, дочерью герцога Феррары, Модены и Реджо Эрколе I д’Эсте (1471–1505).
Менее символичным и новаторским, больше отвечавшим канонам ломбардской живописи, ориентировавшейся на изображение модели в профиль, является меланхоличный облик «Прекрасной ферроньеры». «На луврском портрете она представлена в trois quarts (три четверти. – Д.Б.), с глазами, обращенными влево. Черные волосы прикрывают уши плоскими начесами, на лбу – бриллиантовая ферроньерка. На открытой шее несколько раз обмотанный пестрый шнурок, черное бархатное платье, с четырехугольным вырезом на груди, с черной вышивкой, с желтыми прорезами и бантами на рукавах. ‹…› Лицо поражает своей здоровой красотой. Большие черные глаза под правильно очерченными дугами бровей смотрят упорно и несколько сурово. Лоб не особенно большой, гладкий. Нос прямой и твердый. Губы сложены серьезно, без всякой улыбки. Подбородок и щеки, шея и грудь – свежие и упругие» – так описывает это произведение А.Л. Волынский в книге «Жизнь Леонардо да Винчи»[68]. Оба портрета сделались предметом восхвалений придворных поэтов, прославлявших соперничество Леонардо с Природой и меценатство Моро, именовавшегося в их опусах Мавром (по-латыни – Maurus).
Бернардо Беллинчиони посвятил портрету Чечилии Галлерани один из своих сонетов:
Природа, о чем ты печалишься, завидуешь кому-то!
Да Винчи, что изобразил одну твою звезду!
Да, сегодня красивее всех Чечилия,
Та, что затмила тенью своих прекрасных глаз солнечное светило.
И честь – тебе, хоть на своем портрете
Она лишь слушает, не говоря,
И думает, сколь будет жива и прекрасна,
Снискав тебе славу в грядущие века!
За это ты возблагодари Лодовико
Или, коль сможешь, талант и руку Лионардо,
Что пожелали, чтоб она к потомству причастна была.
Так, тот, кто взглянет на нее, хотя бы станет поздно,
Узрит ее живой и скажет: хватит нам
Постичь, что есть природа и искусство.
(Здесь и далее перевод автора)[69].
Неизвестный поэт (возможно, Антонио Тебальдео) написал на латыни стихотворения в честь портрета Лукреции Кривелли, сохранившиеся в Атлантическом кодексе (fol. 164v) и послужившие основанием к атрибуции Аморетти:
Как хорошо сошлось бы искусство с Природой,
Если бы Винчи ему душу привил, так же как всем остальным наделил.
Подобного этому он более создавать не пожелал; и свершилось иное:
Над душою той влюбленный Мавр возобладал.
Имя той, кого вы видите, – Лукреция, которой
Боги придали все щедрою рукою, и редкая дана ей красота;
Леонардо ее изобразил, Мавр – полюбил,
Этот – первый из художников, тот – первый из вождей.
Природе, а также верховным богиням изображением этим
Бросил вызов художник, что рукой человека покорить ее смог.
Так долгое время этой великой красоте он подарит,
Прежде чем вскоре пройдет ее срок[70].
В Милане Леонардо занимался не только живописью, но и архитектурными проектами. Так, в 1487 г. он изготовил модель купола Миланского собора (Il Duomo), за которую получил гонорар в размере 93 лир 14 сольди, но три года спустя потребовал вернуть ее назад, так как она не была пущена в дело. В 1490 г. провел несколько месяцев в Павии, куда был приглашен для консультаций в качестве эксперта по строительству местного собора вместе с известным специалистом из Сиены Франческо ди Джорджо Мартини. В конце того же года он был вызван в Милан для подготовки торжеств по случаю свадьбы Лодовико Моро с Беатриче д’Эсте.
Как и его старший коллега Донато Браманте [1444–1514], Леонардо числился при миланском дворе «инженером и живописцем»: он разработал проекты павильона для герцога Милана и купальни для герцогини Бари, а также исполнял функции декоратора придворных празднеств. Сохранилось описание одного из представлений по мотивам произведения Беллинчиони, поставленного при участии Леонардо 13 января 1490 г., в честь бракосочетания герцога Джан Галеаццо Сфорца с неаполитанской принцессой Изабеллой, внучкой Фердинанда I. Праздник «под названием Рай, который приказал устроить сеньор Лодовико Моро в честь герцогини Миланской, назывался Раем, потому что с большим умением и искусством Леонардо да Винчи, флорентинца, там был устроен Рай, со всеми семью планетами, которые вращались, и эти планеты были представлены людьми, имевшими вид и одеяние, которые описывают поэты: все эти планеты возносили хвалу во славу упомянутой герцогини Изабеллы»[71]. В январе 1491 г. Леонардо участвовал в организации праздничного турнира в доме миланского аристократа Галеаццо да Сансеверино (мужа внебрачной дочери Лодовико Моро), о чем имеется запись в Парижском кодексе C (fol. 15v).
На одном из листов Атлантического кодекса есть орнаментальный рисунок с надписью в центре: «Academia Leonardi Vi[n]ci», о которой упоминает и Вазари[72]. Долгое время он служил основой представлений о том, что при дворе Лодовико Моро вокруг Леонардо сложился научный кружок, подобный тому, какой существовал при дворе Лоренцо Великолепного в виде так называемой Платоновской академии под руководством гуманиста Марсилио Фичино, однако к концу XIX в. эта гипотеза была оставлена. В настоящее время считается, что под академией Леонардо можно подразумевать учеников художника и некоторых его друзей – например, архитекторов Донато Браманте и Джакомо Андреа ди Феррару, медиков Джулиано и Альвизе Марлиано, судя по записям Леонардо снабжавших его книгами, алхимика Томмазо Мазини по прозвищу Зороастро, а также монаха-математика Луку Пачиоли, появившегося при дворе Лодовико Моро в 1496 г.[73]
Вазари утверждал, что «в математике за те немногие месяцы, что он ею занимался, он сделал такие успехи, что, постоянно выдвигая всякие сомнения и трудности перед тем учителем, у которого он обучался, он не раз ставил его в тупик»[74]. К сожалению, он не сообщил, кем был этот учитель. С одной стороны, это мог быть его коллега по кружку Тосканелли Бенедетто д’Абако, поскольку одна из записей Леонардо гласит: «Пусть маэстро д’Абако покажет тебе квадратуру круга». С другой стороны, это мог быть и Лука Пачиоли, так как другая запись Леонардо гласит: «Выучись у маэстро Луки умножению корней». Известно, что Пачиоли попросил Леонардо нарисовать несколько иллюстраций к написанному им трактату «О божественной пропорции». В записи, вошедшей в одну из Виндзорских тетрадей по анатомии, Леонардо наставлял: «Пусть не читает меня согласно моим принципам тот, кто не является математиком» (W. An IV, fol. 14v), а в Парижском кодексе G утверждал, что «никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой» (fol. 36v)[75]. Однако многосторонние интересы Леонардо не ограничивались математикой. В его записных книжках тех лет сохранились наброски военных машин, подводных и летательных аппаратов, впрочем, так и оставшихся на стадии проектирования.
Главным художественным достижением Леонардо в первый миланский период его творчества стала роспись «Тайная вечеря» на задней стене трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие (Santa Maria delle Grazie), над которой он работал с 1495 по 1498 гг., видимо, по заказу Лодовико Моро[76]. На ней представлена последняя трапеза Иисуса Христа накануне его ареста, в момент, когда, согласно Евангелиям, он говорит своим ученикам: «Один из вас предаст меня!» Акцентировавший внимание на незавершенности творческих замыслов Леонардо, Вазари, вопреки истине, утверждает, что голову Иисуса Леонардо специально оставил незаконченной, «полагая, что ему не удастся выразить в ней ту небесную божественность, которой требует образ Христа», и далее рассказывает, что «настоятель этой обители упорно приставал к Леонардо с тем, чтобы тот закончил эту роспись, так как ему казалось странным видеть, что Леонардо иной раз целых полдня проводил в размышлениях, отвлекаясь от работы, а настоятелю хотелось, чтобы он никогда не выпускал кисти из рук, как он это требовал от тех, кто полол у него в саду. Не довольствуясь этим, он пожаловался герцогу и так его накалил, что тот был вынужден послать за Леонардо и вежливо его поторопить, дав ему ясно понять, что все это он делает только потому, что к нему пристает настоятель. Леонардо, поняв, что этот государь человек проницательный и сдержанный, решил обстоятельно с ним обо всем побеседовать (чего он с настоятелем никогда не делал). Он много с ним рассуждал об искусстве и убедил его в том, что возвышенные таланты иной раз меньше работают, но зато большего достигают, когда они обдумывают свои замыслы и создают те совершенные идеи, которые лишь после этого выражаются руками, воспроизводящими то, что однажды уже было рождено в уме. И добавил, что ему остается написать еще две головы, а именно – голову Христа, образец для которой он и не собирался искать на земле, что мысль его, как ему кажется, недостаточно мощна, чтобы он мог в своем воображении создать ту красоту и небесную благость, которые должны быть присущи воплотившемуся божеству, а также что ему не хватает и головы Иуды, которая тоже его смущает, поскольку он не верит, что способен вообразить форму, могущую выразить лицо того, кто после всех полученных им благодеяний оказался человеком в душе своей настолько жестоким, что решился предать своего владыку и создателя мира, и хотя для второй головы он будет искать образец, но что в конце концов, за неимением лучшего, он всегда может воспользоваться головой этого настоятеля, столь назойливого и нескромного. Это дело на редкость рассмешило герцога, который сказал, что Леонардо тысячу раз прав, а посрамленный бедный настоятель стал усиленно торопить полольщиков своего сада и оставил в покое Леонардо, который спокойно закончил голову Иуды, кажущуюся истинным воплощением предательства и бесчеловечности»[77].
Гуманист Маттео Банделло [1485–1561], который в те годы жил в монастыре Санта Мария делле Грацие, подтверждает, что упреки настоятеля по адресу Леонардо были отнюдь не беспочвенны. «Он очень любил, чтобы каждый смотрящий на его произведение свободно выражал о нем свое мнение. Он имел обыкновение, и я сам не раз видел и наблюдал это, в ранний час утра подниматься на мостки, потому что “Вечеря” несколько приподнята над полом; он имел обыкновение, говорю я, от восхода солнца до темного вечера не выпускать из рук кисти и, забыв о еде и питье, писать непрерывно. Бывало также, что два, три, четыре дня он не притрагивался к кисти. Однако и в таких случаях он оставался в трапезной по часу или по два в день, предаваясь созерцанию и размышлению, причем, рассматривая свои фигуры, он подвергал их критике. Я видел также, как, увлекаемый какою-то прихотью или фантазией, он выходил в полдень, когда солнце было в зените, из старого двора, где он лепил своего изумительного коня, отправлялся прямо к монастырю Grazie и, взобравшись на мостки, хватал кисть, но, сделав один-два мазка по какой-нибудь фигуре, быстро уходил в другое место…»[78]
«Эта картина так понравилась королю Людовику, – писал о “Тайной вечере” Паоло Джовио, – что, восторженно, созерцая ее, он спросил окружающих, нельзя ли перевезти ее во Францию, вырезав стену»[79]. Вазари добавлял, что король «всяческими путями старался выяснить, не найдутся ли такие архитекторы, которые при помощи деревянных брусьев и железных связей сумели бы создать для нее арматуру, обеспечивающую ее сохранность при перевозке, и готов был потратить на это любые средства, так ему этого хотелось», однако «то обстоятельство, что она была написана на стене, отбило у его величества всякую охоту, и она осталась достоянием миланцев»[80].
Значение этой работы для развития искусства трудно переоценить. Как отмечал М. Дворжак, «Леонардо последовал здесь древней иконографической схеме, согласно которой участники вечери размещались у задней длинной и у обеих коротких сторон стола, в то время как передняя длинная сторона оставалась пустой. Конечно, мы обнаруживаем значительные расхождения в разработке традиционной композиции. Роскошный зал, куда мастера эпохи кватроченто перенесли место действия Тайной вечери, превратился в скромное, строгое помещение (словно бы саму трапезную), единственное назначение которого – создать посредством исполненных покоя линий гармоническое обрамление для бурной динамики события. Кроме того, фигуры полностью господствуют в композиции: ничто не отвлекает от них внимание зрителя, ничто не соперничает с ними. Стены расчленены коврами, благодаря чему не возникает больших плоскостей, которые могли бы подавить фигуры, а расходящиеся линии выделяются еще эффектнее. ‹…›
Христос сидит точно в середине, к его фигуре ведут перспективные глубинные линии. Справа и слева от него апостолы объединены в группы по три человека в каждой. Здесь властвуют сильное волнение, оживленная жестикуляция и мимика, вызванные словами Христа: волна возбуждения, нарастающая от группы к группе и замирающая в тихом, отрешенном покое фигуры Христа. Это доминантное положение фигуры Спасителя подчеркивается еще и зияниями между нею и группами апостолов; изображенное позади Христа окно с видом на ландшафт обрамляет его фигуру подобием светового ореола и увенчивает ее полукруглым фронтоном над окном»[81].
А вот что писал Г. Вёльфлин, осуществивший сравнение «Тайной вечери» Леонардо с одной из предшествующих вариаций на эту тему – фреской «Тайная вечеря» в монастыре Всех Святых во Флоренции, написанной около 1480 г. Доменико Гирландайо, который позволил ему выявить новации Леонардо в художественной трактовке библейского сюжета:
«Эта фреска, являющаяся одной из наиболее крепко слаженных работ мастера (Гирландайо. – Д.Б.), содержит все старинные типичные элементы композиции, схему в том виде, как дожила она до Леонардо: П-образный стол, в одиночестве сидящий впереди Иуда, ряд из двенадцати остальных позади стола, причем Иоанн заснул у Господа на груди, сложив руки на столе. Христос говорит с поднятой правой рукой. Должно быть, однако, сообщение о предательстве уже прозвучало, поскольку ученики выглядят огорченными, некоторые из них заявляют о своей невиновности, а Петр призывает Иуду к ответу.
Леонардо порвал с традицией прежде всего в двух моментах. Он извлекает Иуду из его изоляции и усаживает его в ряд с другими, а далее – полностью отказывается от мотива Иоанна, возлежащего (и заснувшего, как было принято дополнять) на груди Господа, что было абсолютно неприемлемо при современном способе сидеть за столом. Тем самым Леонардо добился большей уравновешенности сцены, появилась возможность симметрично разместить учеников по обе стороны от Господа. Художник уступил здесь потребностям композиционной тектоники. Однако он тут же пошел еще дальше и выстроил группы – по две из трех человек с каждой стороны. Так Христос стал господствующей фигурой, рядом с которой невозможно поставить никакую другую.
У Гирландайо то было лишенное центра собрание, сопребывание более или менее самостоятельных полуфигур, зажатых меж двух мощных горизонталей – стола и задней стены, чей карниз резкой линией проведен поверх голов. Как на грех, даже пята сводчатого потолка приходится как раз посредине стены. И что же делает Гирландайо? Преспокойно отодвигает фигуру Христа в сторону: никакой неловкости он в этом не усматривает. Леонардо, самым существенным для которого было выделение центральной фигуры, никогда бы не примирился с такой пятой. Напротив, изображая фон, он старается отыскать для своей цели новые вспомогательные средства: вовсе не случайно Христос сидит у него на свету дверного проема. Тем самым Леонардо разрушает гладкое течение двух горизонталей; линия стола, разумеется, сохранена, однако сверху силуэты групп должны оставаться свободными. В игру вступают совершенно новые способы воздействия. Пространственная перспектива, вид и украшение стен ставятся на службу воздействию, производимому фигурами. Все усилия обращены на то, чтобы тела выглядели пластичными и крупными. Этому служит глубина комнаты, а также разбиение стен несколькими коврами. Взаимное перекрытие тел способствует созданию пластической иллюзии, а повторяющиеся вертикали подчеркивают разнонаправленные движения. Замечаешь, что все эти поверхности и линии весьма малы и по существу нигде не противостоят фигурам, а вот Гирландайо, мастер старшего поколения, своими большими арками на заднем плане изначально задает такой масштаб, при котором фигуры неизбежно выглядят маленькими.
Как сказано, Леонардо сохранил лишь одну-единственную мощную линию – неизбежную линию стола. Однако и здесь появляется нечто новое. Я имею в виду не отказ от загнутых концов стола, да Леонардо и не был тут первым. Новизна – в смелости, с которой Леонардо производит мощное впечатление, несмотря на очевидную несообразность: стол у него слишком мал! Ведь при пересчете приборов оказывается, что эти люди не смогли бы здесь усесться. Леонардо желает избежать того, чтобы ученики терялись за длинным столом, а общее воздействие фигур так мощно, что никто не замечает нехватки места. Только так и можно было сплотить фигуры учеников в замкнутые группы и в то же время сохранить их контакт с фигурой Христа.
А что это за группы! И что за движения! Слова Господа грянули подобно грому. Вокруг разражается буря чувств. В поведении апостолов нет ничего недостойного – они ведут себя как люди, у которых вдруг отняли самое для них святое. Искусство обогащается здесь колоссальным сгустком совершенно новой выразительности, и если Леонардо в чем-то соприкасается со своими предшественниками, все равно неслыханная прежде интенсивность выражения делает его фигуры не имеющими себе равных. И само собой разумеется – там, где в дело вовлечены такие силы, рассчитанная на развлекательность мишура традиционного искусства становится излишней. Гирландайо ориентирован на публику, которая будет созерцательно прохаживаться взглядом по всем уголкам картины, которую необходимо ублажить редкостными садовыми растениями, птицами и иной живностью; он проявляет немалую заботу о столовых приборах и отсчитывает каждому из сотрапезников по стольку-то вишенок. Леонардо ограничивается необходимым. Он вправе ожидать, что драматическое напряжение картины не позволит зрителю желать таких побочных развлечений»[82].
М. Дворжак дал характеристики психологическому состоянию изображенных Леонардо апостолов: «Варфоломей, находящийся у левого конца стола, вскочил с места; он опирается обеими руками на край стола, склонившись вперед, и буквально впивается взглядом в Иисуса, словно бы не верит чудовищности его слов, словно бы хочет спросить, не ослышался ли он. Старый Андрей простирает обе ладони с судорожно растопыренными пальцами, с выражением величайшего ужаса, как бы желая показать, как сильно он напуган. Глубокая, безмолвная скорбь наполняет кроткого, чувствительного Иоанна; он предается скорби и молитвенно складывает руки: “Так и должно было случиться”, казалось, думает он. Мучительно искажено лицо Иакова-старшего, острый взгляд которого выражает прямо-таки омерзение. Рядом с ним юный Филипп склоняется в поклоне и касается груди кончиками пальцев, словно бы заверяя: “Это не я, Господи, тебе это ведомо”. Последние три апостола в правой стороне стола говорят об ужасном предвещании. Матфей, указывая на Христа, словно бы просит повторить сказанное. Фаддей возбужденно участвует в беседе, сопровождая ее тем удивительным движением руки, которое, по словам Гёте, выражает приблизительно следующее: “Не говорил ли я всегда об этом?” У Симона словно бы уязвлено чувство собственного достоинства; он протягивает перед собою руки, как бы желая поклясться в своей невиновности: “Руки мои чисты от предательства!” Теперь – о Петре и об Иуде. Петр – вспыльчив, в первом порыве он схватил свой нож; но ему неизвестно, что предатель – его сосед, и за спиной Иуды он обращается к Иоанну, шепча ему, что он мог бы спросить учителя об имени предателя. Шедевром психологической живописи является фигура Иуды. Внешне он самый спокойный из апостолов – ведь он вынужден демонстрировать свою непричастность к предательству! – и все же буря, разыгравшаяся в его душе, отражается в напряженных чертах его лица. Неподвижный, пристальный взгляд Иуды направлен на того, кто внезапно возвестил о тщательно скрываемой тайне; неуверенно и дрожа, он протягивает Христу левую руку, он словно бы спрашивает: “Ты говоришь обо мне?”, правая же судорожно вцепилась в кошелек: “Если мне придется покинуть собрание, я уйду с общим достоянием и с платой за предательство”»[83].
Новация Леонардо заключалась не только в доминировании Христа над группами учеников, но и в динамичной репрезентации евангельского сюжета в целом, органичным элементом которого является в том числе и Иуда Искариот. Правда, к такому «сценарию» Леонардо пришел не сразу. Наброски свидетельствуют, что изначально он, как и Гирландайо, хотел обособить предателя от других участников «Тайной вечери», но ограничился тем, что «изобразил его неприметным, словно бы сохраняя до поры до времени инкогнито Иуды», ибо «какой смысл могли иметь слова Христа, если предатель сам оповещает – благодаря своему обособлению – о своем деянии?» – так интерпретировал Дворжак решение Леонардо порвать со сложившимся художественным стереотипом[84].
Леонардо написал «Тайную вечерю» на меловом грунте масляными красками и темперой на основе яичного желтка, которая должна была служить в качестве связующего вещества, однако эксперимент оказался неудачным: краски стали сворачиваться. В декабре 1517 г. Антонио де Беатис, секретарь кардинала Лодовико Арагонского, внука неаполитанского короля Фердинанда I, описывал «Тайную вечерю» как «самое совершенное творение из всех, хотя оно уже начинает разрушаться – не знаю, сырая ли стена тому виной или какой-либо другой просчет». Беатис упомянул и о том, что «персонажи “Тайной вечери” – это портреты дворян и простых горожан Милана в натуральную величину»[85]. Вазари отмечал плачевное состояние творения Леонардо к середине XVI в., а в середине XVII в., после того как монахи пробили в стене дверь из трапезной в кухню, была уничтожена часть ног Христа. Тем не менее, несмотря на все злоключения, монументальная работа Леонардо сохранилась до наших дней, пережив несколько реставраций, последняя из которых продолжалась более 20 лет и была завершена в 1999 г.
Куда меньше повезло фрескам с изображением семьи Лодовико Моро. «Во время работы над “Тайной вечерей” Леонардо на торцовой стене той же трапезной под Распятием, исполненным в старой манере, изобразил названного Лодовико вместе с его первенцем Массимилиано, а напротив – герцогиню Беатриче с другим сыном, Франческо, – оба они впоследствии стали миланскими герцогами, и портреты эти божественно написаны»[86], – отмечал Вазари. А вот что писал более поздний автор Джованни Паоло Ломаццо [1538–1592], рассказывая о значении прозвища миланского герцога: «…Лодовико был смуглого цвета и потому имел прозвище Мавра (di Moro), носил волосы в виде длинной гривы (la zazzera lunga), спереди почти до бровей. Это доказывается его портретом, сделанным рукою Леонардо да Винчи в трапезной миланского монастыря delle Grazie. На той же картине можно видеть портрет Беатриче, оба на коленях, с детьми впереди»[87].
Портрет, как и вся фреска, не сохранился, но в справедливости слов Ломаццо относительно прозвища миланского герцога можно убедиться, обратившись к другим его портретам. Тем не менее существует альтернативная версия, которую предложил А.Л. Волынский, основываясь на символической интерпретации одного из сонетов Беллинчиони, написанного по случаю рождения Чезаре, сына Моро от Чечилии Галлерани, где говорится о потомстве «дерева Физбы», или шелковичного дерева. «Поэт этою метафорою напоминает переданную у Овидия легенду о шелковичном дереве, в тени которого разыгралась кровавая история Физбы и ее возлюбленного Пирама: найдя под шелковичным деревом разорванное покрывало Физбы и предположив, что она погибла, Пирам тут же закололся, а Физба, вернувшись и увидев это, тоже покончила с собою. С тех пор, говорит легенда, шелковичное дерево дает кроваво-красные плоды. Вследствие этого шелковичное дерево часто именуется деревом Физбы. Беллинчиони постоянно называет Лодовико Сфорцу либо просто Шелковичным деревом, либо, как мы видели, деревом Физбы, может быть намекая не только на общепринятое его прозвание, но и на свойства его натуры, которая, подобно шелковичному дереву, медленно собиралась с силами и внезапно давала кровавые плоды»[88].
Аллегория с Шелковичным деревом была воплощена в разработанной Леонардо художественной концепции Зала веток (Sala delle Asse) в герцогской резиденции Кастелло Сфорцеско (Castello Sforzesco), расписанного его учениками в 1498 г. Вероятно, подготовку к этому проекту имел в виду Вазари, когда писал, что Леонардо «не щадил своего времени вплоть до того, что рисовал вязи из веток с таким расчетом, чтобы можно было проследить от одного конца до другого все их переплетения, заполнявшие в завершение всего целый круг»[89]. «Благодаря продуманной великим флорентийцем декоративной системе украшения Зала делле Ассе его интерьер превращен в подобие внутреннего пространства обвитой стволами и ветвями деревьев пространной беседки или своеобразной, учитывая значительные размеры зала (camera grande), перголы. Более того, в Зале делле Ассе возникает эмоционально сильное ощущение, что его пространство преобразовано не просто в обычную садовую беседку, но даже в лес, стволы деревьев которого занимают стены, а ветви и листва покрывают свод»[90]. В центре потолка был помещен герб Лодовико Моро, а текст панелей на четырех стенах Зала делле Ассе, написанный на латинском языке, рассказывал о заключении брака Бланки Марии Сфорцы с Максимилианом I, получении Лодовико титула миланского герцога, посещении Лодовико двора Максимилиана в Инсбруке. После свержения Лодовико надписи заменили: лишь в начале XX в. восстановить три из них удалось Л. Бельтрами[91].
Ключевой задачей, стоявшей перед Леонардо при миланском дворе, было изготовление конного памятника Франческо I. Эскизы к монументу Леонардо, по-видимому, делал еще во Флоренции (вспомним о «голове герцога» в описи 1482 г.), однако дело застопорилось. Первоначально Леонардо планировал представить коня вставшим на дыбы. Если бы эта идея была воплощена в жизнь, Милан сумел бы поспорить «не только с Венецией, где Верроккьо воздвиг конную статую Коллеони, но и с Римом, где красовалось уже великое произведение древнего мира – конь, несущий на себе любимого народом императора Марка Аврелия», – отмечал А.Л. Волынский[92]. Сходного мнения придерживался К. Кларк, писавший, что «на тот момент не существовало ни единой статуи, где конь был бы представлен вздыбленным, и, осуществив свой замысел, Леонардо превзошел бы в техническом мастерстве не только недавние достижения – памятники Гаттамелате и Коллеони, но и шедевры античности». Впрочем, Кларк оговаривался, что «его практические навыки явно не поспевали за полетом воображения»[93].
Сомнения в способности Леонардо реализовать этот проект возникали и у современников. Так, флорентийский представитель при миланском дворе Пьетро Аламанни писал Лоренцо Медичи из Павии 22 июля 1489 г., что Лодовико «имеет в душе намерение соорудить достойный монумент отцу и уже распорядился, чтобы Леонардо да Винчи сделал его модель, то есть очень большого коня с вооруженным герцогом Франческо. И так как Его Светлость хотел бы сделать вещь превосходной степени, он сказал мне со своей стороны, чтобы вы пожелали послать ему одного или двух мастеров, сведущих в таком деле. И хотя он возложил это дело на Леонардо да Винчи, мне не кажется, что тот сумеет его вести»[94]. Впрочем, Лоренцо не смог удовлетворить просьбу Лодовико, и Леонардо продолжил работу один.
В Парижском кодексе C написано: «23 апреля 1490 г. я начал эту книгу и возобновил работу над конем» (fol. 15v)[95]. Впервые макет «Коня» в натуральную величину, которому в отличие от первоначального проекта Леонардо решил придать спокойную позу, был продемонстрирован три года спустя, в конце 1493 г., по случаю свадьбы Бьянки Марии Сфорцы с Максимилианом I. Как и портреты Леонардо, «Конь» был тут же увековечен в стихах Лаццарони, Ламинио и Такконе. По словам Вазари, «те, кто видел огромную глиняную модель, которую сделал Леонардо, утверждают, что никогда не видели произведения более прекрасного и величественного»[96]. «Аноним Гаддиано» писал: «В Милане же он сделал коня, неизмеримого по объему, а на нем герцога Франческо Сфорцу, прекраснейшую статую которого хотел вылить из бронзы», но «повсюду утверждали, что это невозможно, особенно потому, как говорили, что он хотел вылить ее из одного куска». И завершал описание констатацией факта: «Эта работа не была доведена до конца»[97].
В творческий процесс вмешалась большая политика. 158 000 фунтов бронзы, заготовленной для отливки статуи, в конце 1494 г. пошли на отливку пушек[98]. Случившаяся в том же году смерть Джана Галеаццо Сфорцы и получение Лодовико миланского герцогства в ленное владение от Максимилиана I совпали с началом французской экспансии на Апеннинском полуострове. Ее инициатором стал король Франции Карл VIII (1483–1498), предъявивший претензии на Неаполитанское королевство как родственник ранее правившей в Неаполе Анжуйской династии. Карл VIII являлся союзником Лодовико, но затем отношения между ними испортились: дело дошло до вооруженного противостояния в Ломбардии между миланскими войсками и французской армией под командованием герцога Людовика Орлеанского. Несмотря на то что в 1495 г. французы и миланцы заключили мирный договор в Верчелли, после чего Моро теснее сблизился с Максимилианом I, он ненадолго отсрочил новое столкновение. Это стало очевидным после того, как в 1498 г. герцог Орлеанский, наследовавший французский трон под именем Людовика XII (1498–1515), предъявил претензии на Милан как правнук первого миланского герцога Джана Галеаццо Висконти (1395–1402). В промежутке между этими событиями, в начале 1497 г., Лодовико Моро пережил личную трагедию, после того как в результате неудачных родов скончалась его жена Беатриче д’Эсте[99].
Неурядицы при миланском дворе негативно отразились на положении Леонардо. В Атлантическом кодексе сохранились черновики его писем к Лодовико, относящиеся ко второй половине 1490-х гг., в одном из которых он писал: «Я весьма сожалею, что для заработка на пропитание я прервал продолжение труда, который Ваша Светлость уже мне поручила; но надеюсь вскоре заработать столько, что смогу удовлетворить успокоенную душу Вашего Превосходительства, который мне это доверил. И если Ваша Светлость подумала, что я имел деньги, то вы бы ошиблись, потому что на протяжении 36 месяцев я содержал шесть ртов и имел 50 дукатов! Разве Ваше Превосходительство не поручило иного мессеру Гуальтиери, думая, что я имел деньги». В другом письме, которое сохранилось не полностью, говорилось: «Синьор, я, зная, что ум Вашего Превосходительства занят, должен напомнить Вашей Милости мои маленькие дела и труд, остающийся в безмолвии… Причиной моего молчания было то, что я заставил гневаться Вашу Милость… Моя жизнь на вашей службе – это постоянная готовность к повиновению… О коне я не скажу ничего, потому что знаю времена… У Вашей Милости мне осталось получить плату за два года за… С двумя мастерами, которые постоянно находятся у меня на жалованье…»[100]
Маттео Банделло, ссылаясь на слова Леонардо, сказанные кардиналу Раймону Перо, епископу Гурка, свидетельствовал, что он получил от герцога 2000 дукатов, не считая наград и подарков[101], однако эта цифра преувеличена. По расчетам Ф. Цёльнера, годовой доход художника на службе у Сфорцы в начале 1490-х гг. колебался от 50 до 100 дукатов, но эта сумма не выплачивалась регулярно[102]. Так, из записей Леонардо следует, что 1 апреля 1499 г. он имел 218 лир[103]. 26 апреля того же года Лодовико Моро подарил «Леонардо да Винчи, знаменитейшему флорентийскому художнику, умение которого никому из древних и самых опытных художников, по нашему мнению и тех, кто являлись тому свидетелями, действительно совершенно не уступает, что по нашему приказанию во многих местах труды предпринимает, которые, если он завершит их, долго будут свидетельством удивительной способности мастера», 16 пертиков земли виноградника (perticis sexdecim terre) у монастыря Сан Витторио за Верчелийскими воротами (чуть более 80 м)[104]. Однако она была конфискована после бегства Моро в Тироль и оккупации Милана французами, произошедшей четыре с половиной месяца спустя.
Когда войска Людовика XII под командованием кондотьера Джана Джакомо Тривульцио, бывшего полководца Моро, захватили Милан в сентябре 1499 г., глиняная модель «Коня», по утверждению гуманиста Сабба да Кастильоне, послужила мишенью для гасконских стрелков. Трудно судить, насколько она пострадала от их действий, но известно, что в 1501 г. Эрколе I вел переговоры с первым министром Людовика XII архиепископом Руана кардиналом Жоржем д’Амбуазом относительно ее транспортировки в свои владения для отливки в бронзе.
Одна из зашифрованных «зеркальным» почерком записей Леонардо в Атлантическом кодексе позволяет предполагать, что он собирался встретиться с французским генералом графом де Линьи, дождаться его в Риме и сопровождать в Неаполь[105], однако это намерение не было приведено в исполнение. В конце декабря 1499 г., разместив капитал, к тому времени насчитывавший 600 флоринов, у настоятеля флорентийского монастыря Санта Мария Нуова[106], Леонардо вместе с Пачиоли покинул Милан, не дождавшись реставрации Моро, который вернулся к власти в феврале 1500 г. в результате антифранцузского восстания, но через два месяца был предан швейцарскими наемниками и вывезен во Францию, где умер в 1508 г. «Герцог потерял государство, одежду и свободу», – говорилось в одной из записей Леонардо[107]. От задуманного им «Коня», получившего у современников название Gran Colosso, сохранилось несколько статуэток и эскизов, на основе которых в Милане в 2002 г. была восстановлена бронзовая копия модели конца XV в.
После отъезда Леонардо из Милана его творчеством заинтересовалась старшая сестра Беатриче д’Эсте Изабелла, жена мантуанского маркграфа Франческо II Гонзаги (1484–1519), ценительница изящных искусств, которая в апреле 1498 г. обратилась к Чечилии Галлерани с просьбой прислать портрет «Дамы с горностаем», чтобы сравнить работу Леонардо с работами венецианского художника Джованни Беллини [1427–1516][108]. Удовлетворенная увиденным, Изабелла пожелала заказать Леонардо свой портрет. Во время кратковременного пребывания при мантуанском дворе он начал работу над двумя эскизами, написанными углем и карандашом, один из которых остался в Мантуе и вскоре был кому-то подарен Франческо Гонзагой, а другой, с изображением профиля маркграфини (1500, Париж, Лувр)[109], сохранился в его бумагах. В Мантуе Леонардо не задержался, так же как и в Венеции, где предлагал правительству проект плотины на реке Изонцо, которую можно было бы использовать при организации обороны от турецких войск (черновик проекта сохранился в Атлантическом кодексе; (fol. 234v). В апреле 1500 г. Леонардо вернулся во Флоренцию, где у власти уже не было Медичи, которые были изгнаны через два года после смерти Лоренцо Великолепного (1494).
После возвращения Леонардо на родину Изабелла д’Эсте пыталась побудить его приняться за работу через вице-генерала монашеского ордена кармелитов Пьеро ди Новеллара, который 3 апреля 1501 г. сообщал, что «Леонардо ведет жизнь неупорядоченную и в высшей степени непредсказуемую, не загадывая вперед ни на день. С момента прибытия во Флоренцию он выполнил рисунок для картона. На нем изображен Младенец Христос в возрасте приблизительно одного года, который почти выскользнул из рук матери его Марии к ягненку, которого он, кажется, собирается обнять. Мадонна, привставая с колен св. Анны, придерживает его и пытается не пустить к ягненку (жертвенному животному), символизирующему Страсти Христовы. Св. Анна, слегка приподнявшись из сидячего положения, как будто не дает дочери разделить Христа и ягненка. Она, очевидно, символизирует церковь, предвещающую Страсти Христовы. Фигуры выполнены в натуральную величину, тем не менее они не вписываются в пространство небольшого картона, каждая из них чуть впереди предыдущей, направлена к левому краю. Рисунок все еще не завершен. Больше Леонардо ничего не пишет. Двое его учеников делают копии, и к этим копиям он время от времени прикладывает руку. Он поглощен геометрией, так что на живопись времени не остается»[110].
Вазари подробно описал сделанный Леонардо эскиз картины на аналогичный сюжет, изначально заказанной монахами-сервитами из церкви Аннунциаты Филиппино Липпи. «Вернувшись во Флоренцию, он узнал, что братья сервиты заказали Филиппино работу над образом главного алтаря церкви Нунциаты, на что Леонардо заявил, что охотно выполнит подобную работу. Тогда Филиппино, услыхав об этом и будучи человеком благородным, от этого дела отстранился, братья же, для того чтобы Леонардо это действительно написал, взяли его к себе в обитель, обеспечив содержанием и его, и всех его домашних, и вот он тянул долгое время, так ни к чему и не приступая. В конце концов он сделал картон с изображением Богоматери, св. Анны и Христа, который не только привел в изумление всех художников, но когда он был окончен и стоял в его комнате, то в течение двух дней напролет мужчины и женщины, молодежь и старики приходили, как ходят на торжественные праздники, посмотреть на чудеса, сотворенные Леонардо и ошеломлявшие весь этот народ. Ведь в лице Мадонны было явлено все то простое и прекрасное, что своей простотой и своей красотой и может придать ту прелесть, которой должно обладать изображение Богоматери, ибо Леонардо хотел показать скромность и смирение Девы, преисполненной величайшего радостного удовлетворения от созерцания красоты своего сына, которого она с нежностью держит на коленях, а также и то, как она пречистым своим взором замечает совсем еще маленького св. Иоанна, резвящегося у ее ног с ягненком, не забыв при этом и легкую улыбку св. Анны, которая едва сдерживает свое ликование при виде своего земного потомства, ставшего небесным, – находки поистине достойные ума и гения Леонардо»[111].
Получив заказ при содействии своего отца, который был нотариусом монастыря, Леонардо, по обыкновению, не написал картину в срок. Монахи вновь поручили ее Филиппино Липпи, а после того как он скончался в 1504 г., заказ получил Пьетро Перуджино. И Вазари, и другие авторы утверждают, что рисунок или картина, изображающая св. Анну и св. Марию с младенцем, была вывезена во Францию и куплена преемником Людовика XII на французском троне Франциском I[112]. Описание Новеллара соответствует картине «Мадонна с младенцем, св. Анной и ягненком» (ок. 1501–1517, Париж, Лувр)[113]. Описанию Вазари мог бы соответствовать эскиз с изображением св. Анны, св. Марии, Иисуса и Иоанна Крестителя, известный как картон Бурлингтонского дома (Лондон, Национальная галерея)[114], однако на нем отсутствует изображение ягненка: это дает основания предполагать, что он является одной из копий картона, описанного Вазари.
По свидетельству Новеллара в письме к Изабелле д’Эсте от 4 апреля 1501 г., к этому же времени относится работа над «Мадонной с младенцем и веретеном» (ок. 1501–1507), заказчиком которой был секретарь Людовика XII Флоримон Роберте. Новеллара писал: «В настоящее время он работает над небольшой картиной с изображением Мадонны, сидящей рядом с прядильным колесом. Младенец Христос ножкой упирается в корзину с пряжей, в руках у него прялка, четыре спицы которой образуют крест. Увлеченный созерцанием креста, он держит его прямо и не хочет отдавать матери, которая как будто пытается его забрать»[115]. Оригинал не сохранился. Наиболее известны два его варианта, один из которых (со светлыми волосами Марии и Иисуса и горным пейзажем на синем фоне) находится в частной коллекции в Нью-Йорке[116], а другой (с темными волосами Марии и Иисуса и равнинным пейзажем на зеленом фоне), принадлежащий герцогам Бакклехским, – в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге[117]. Так как и там и там отсутствуют прядильное колесо и корзина с пряжей, упоминаемые Новелларом, это позволяет считать их не столько картинами Леонардо, сколько копиями его учеников.
Изабелла д’Эсте долго пыталась повлиять на Леонардо не только через Новеллара, но и через священника Алессандро Амадори (брата первой жены Пьеро да Винчи), однако не смогла заставить его написать свой портрет: лишь на склоне лет ее красота была увековечена кистью другого гения Ренессанса – ученика Джованни Беллини Тициана Вечеллио [1488–1576], написавшего идеализированный портрет Изабеллы, которой в то время было уже за 60 лет, на основе более раннего портрета кисти Франческо Франчиа [1447–1517].
Как мы могли убедиться из писем Новеллара, его утверждение о том, что «больше Леонардо ничего не пишет», не вполне соответствовало действительности: он не столько утратил интерес к работе художника, сколько не был заинтересован в сотрудничестве с Изабеллой д’Эсте, несмотря на то что после возвращения во Флоренцию был вынужден жить за счет сбережений, сделанных в Милане. Быть может, он не стремился иметь в качестве покровительницы жену второстепенного итальянского князя, предпочитая иметь более влиятельных и обеспеченных покровителей, благодаря сотрудничеству с которыми мог реализовать не только художественные, но и научно-технические навыки. Например, в июле 1502 г. он предлагал турецкому султану Баязиду II (1481–1512) выполнить заказ на возведение моста через бухту Золотой Рог, от Галаты до Стамбула, длиной 600, шириной 40 и высотой 70 локтей (то есть 350,16 м, 23,75 м и 40,852 м соответственно)[118], утверждая: «Я построю мост выше радуги, такой высокий, что по нему будет страшно пройти…»[119] Однако и этот проект остался на бумаге.
Летом 1502 г. Леонардо связал свою судьбу с Цезарем (Чезаре) Борджиа – сыном римского папы Александра VI (1492–1503), который не пренебрегал никакими средствами, стремясь создать собственное государство в Романье[120]. Правительство Флорентийской республики, во главе которого с 1502 по 1512 г. стоял Пьеро Содерини, занимавший высший административный пост гонфалоньера Справедливости, пытаясь обеспечить безопасность города, начало с Борджиа переговоры, по завершении которых Леонардо поступил к нему на службу в качестве генерального инженера и архитектора (а возможно, и неофициального агента Синьории). 18 августа 1502 г. Цезарь подписал распоряжение, в соответствии с которым его администраторам, солдатам и подданным вменялось в обязанность содействовать Леонардо в осмотре и модернизации укреплений романского герцогства, а прочим инженерам предписывалось сообразовываться с его мнением[121]. За счет своего нового работодателя Леонардо совершил ряд инспекционных поездок по Средней Италии, в ходе которых занимался составлением карт, планов оборонительных и технических сооружений, посетив Урбино, Чезену, Пезаро, Имолу, Сиену и другие населенные пункты. Впрочем, за несколько месяцев до смерти Александра VI, повлекшей распад государства Цезаря Борджиа, его сотрудничество с Леонардо прекратилось. Разочаровался ли Леонардо в новом покровителе, был ли шокирован жестокостью, с которой в начале 1503 г. Цезарь расправился с несколькими полководцами, поднявшими против него мятеж и вероломно захваченными на встрече в Сенигаллии (этот инцидент подробно описал Никколо Макиавелли, бывший при Борджиа официальным представителем Синьории и позднее увековечивший его политику в трактате «Государь»)[122], либо выполнил миссию, возложенную на него флорентийским правительством, если таковая имела место в действительности, сказать трудно.
Вернувшись во Флоренцию в конце февраля или начале марта 1503 г., Леонардо разработал проект изменения русла реки Арно, чтобы отвести его от восставшей против флорентийского господства Пизы и установить блокаду города. Кроме того, Леонардо хотел углубить часть русла Арно, чтобы поставить речное судоходство под контроль Флоренции. Летом того же года было принято решение о строительстве канала для изменения русла Арно. Однако в составленный Леонардо план без его ведома были внесены коррективы, приведшие к обвалу стен канала из-за бури, повлекшей гибель 80 рабочих, вследствие чего казне был нанесен ущерб более чем на 7000 дукатов[123].
Несмотря на неудачу этого предприятия, Леонардо получил не менее важный правительственный заказ: в октябре 1503 г. ему поручили расписать стену зала Совета пятисот во дворце Синьории. По словам Вазари, решившись взяться за это дело, Леонардо начал делать картон в Папском зале при церкви Санта Мария Новелла, «изобразив на этом картоне историю про Никколо Пиччинини, военачальника герцога Филиппо Миланского и нарисовав группу всадников, сражающихся за знамя, вещь, которая была признана выдающейся и выполненной с большим мастерством из-за удивительнейших наблюдений, примененных им в изображении этой свалки, ибо в этом изображении люди проявляют такую же ярость, ненависть и мстительность, как и лошади, из которых две переплелись передними ногами и сражаются зубами с не меньшим ожесточением, чем их всадники, борющиеся за знамя; при этом один из солдат, вцепившись в него руками и всем туловищем на него налегая, пускает свою лошадь вскачь и, обернувшись лицом назад, хватается за древко знамени, стараясь силой вырвать его из рук остальных четырех. Двое из них защищают его каждый одной рукой и, высоко замахнувшись другой, держащей меч, пытаются перерубить древко, между тем как старый солдат в красной шапке с воплем держит одной рукой древко, а другой – с высоко поднятой кривой саблей готовит бешеный удар, чтобы сразу отрубить обе руки тех двух, которые, скрежеща зубами, со свирепейшим видом пытаются отстоять свое знамя. Помимо всего этого, на земле между ног лошадей есть две изображенные в ракурсе и дерущиеся фигуры, на одну из которых, лежащую, вскочил солдат, который поднял руку как можно выше, чтобы с тем большей силой поразить соперника в горло кинжалом и его прикончить, другой же, придавленный руками и ногами первого, делает все возможное, чтобы избежать смерти. И не выразить словами, как у Леонардо нарисованы одежды солдат, которые он изобразил самым разным образом. Таковы же и гребни на их шлемах, и прочие украшения, не говоря о невероятном мастерстве, проявленном им в формах и очертаниях лошадей, игру мышц и упругую красоту которых Леонардо передавал лучше любого другого мастера. Говорят, что для рисования этого картона он смастерил хитроумнейшее сооружение, которое, зажав его, поднималось, а опустившись, отпускало»[124].
Подготовка проекта, включавшая создание картона, который, по условиям договора, должен был быть закончен к февралю 1505 г., и возведение лесов, продолжалась более полутора лет. Но первый же день работы над фреской оказался предвестником краха творческого замысла. Леонардо писал: «В шестой день июня 1505 года, в пятницу, ровно в тринадцать часов я начал наносить краску во Дворце. В тот момент, когда я взялся за кисть, разразилась буря и ударил городской колокол, созывая народ. Картон треснул, хлынула вода, и разбился подставленный сосуд. И сразу же разразилась буря, и до вечера хлестал проливной дождь, и было темно, как ночью»[125]. Как и в случае с «Тайной вечерей», проект был погублен художественными инновациями художника. Если верить Вазари, задумав писать маслом по стене, Леонардо для подготовки стены составил такую грубую смесь, что она по мере того, как он продолжал роспись этого зала, стала стекать, и он бросил работу, видя, как она портится[126]. Паоло Джовио отнес неудачу Леонардо на счет недостатков штукатурки, которая осыпалась под красками, разведенными на масле, несмотря на все старания наложить их как можно лучше[127]. Более полно раскрывает причины «Аноним Гаддиано», сообщая, что «из Плиния он почерпнул сведения о гипсе, по которому он стал писать красками. Но он нехорошо обдумал это дело. В первый раз он употребил этот гипс для картины, которую писал в Зале папы. Перед тем как исполнить картину на стене, он раздул в углях большой огонь, который должен был вытянуть влагу из названного материала и высушить его. Потом он принялся за свою картину в зале, причем внизу, куда достигал огонь, стена была суха, но вверху, куда, вследствие большого расстояния, жар не достигал, стена была сыра»[128]. Работа над фреской продолжалась почти год, до мая 1506 г., но не была завершена.
Сохранились сделанные Леонардо эскизы фрагментов и копии этого произведения, известного как «Битва при Ангьяри» (произошла между флорентийцами и миланцами в июне 1440 г.). Наиболее известны так называемая Тавола Дориа (Tavola Doria), написанная в начале XVI в. (находится в частной коллекции), и рисунок начала XVII в., атрибутируемый голландскому художнику Питеру Паулю Рубенсу (Париж, Лувр)[129], которые представляют схватку двух вооруженных всадников. Что касается оригинальной работы Леонардо, то считается, что поверх нее в ходе очередной реконструкции зала Совета в 1565 г. Вазари написал фреску «Битва при Марчиано».
Зал Совета пятисот Леонардо должен был расписывать вместе с Микеланджело Буонарроти. Вазари пишет, что Содерини, «видя великий талант Микеланджело, поручил ему расписать другую часть зала, что и стало причиной его соревнования с Леонардо, в которое он вступил, взявшись за создание фрески на сюжет войны флорентийцев с пизанцами»[130].
Хотя Микеланджело был почти на четверть века моложе Леонардо, он не упускал случая критически оценить его произведения, а проще говоря, позлословить на его счет. «Аноним Гаддиано» рассказывает: «Однажды Леонардо проходил вместе с Дж. да Гавиной мимо церкви Santa Trinita, где на скамьях Спини собралось несколько мирных граждан, рассуждавших об одном эпизоде из Данте. Они позвали Леонардо, прося, чтобы он объяснил им этот эпизод. Как раз в то время тем же местом проходил Микеланджело, и так как кто-то позвал и его, Леонардо сказал, чтобы за объяснением обратились к Микеланджело. Это показалось Микеланджело насмешкою, и потому он гневно ответил: “Объясни-ка ты, ты, который сделал проект бронзового коня, но не смог вылить его и, к стыду своему, оставил его недоделанным”. Сказав это, он повернулся к нему спиною и пошел. Леонардо остался на месте, покраснев от сказанных ему слов. Но Микеланджело, желая уязвить его еще раз, сказал: “И эти тупоголовые миланцы могли поверить тебе”»[131]. В начале 1504 г. Леонардо вместе с другими художниками входил в комиссию, которой было поручено определить место установки созданной Микеланджело статуи Давида: члены комиссии рекомендовали установить монумент рядом с дворцом Синьории, хотя Леонардо предлагал поставить его под лоджией Ланци. Так что отношения между ними могли испортиться до того, как им была поручена работа над росписью зала Совета пятисот.
За несколько месяцев до заключения контракта на написание «Битвы при Ангьяри» относится начало работы над «Моной Лизой», или «Джокондой» (1503–1506, Париж, Лувр)[132], о чем известно из датированной октябрем 1503 г. записи секретаря флорентийской канцелярии Агостино Веспуччи на полях издания писем Цицерона (1477), которое хранится в библиотеке Гейдельбергского университета[133]. По поводу этой работы Вазари писал, что «Леонардо взялся написать для Франческо дель Джокондо портрет его жены, Моны Лизы, и, потрудившись над ним четыре года, так и оставил его незавершенным. ‹…› Изображение это давало возможность всякому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подражать природе, легко в этом убедиться, ибо в нем были переданы все мельчайшие подробности, какие только доступны тонкостям живописи. Действительно, в этом лице глаза обладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке, а вокруг них была сизая красноватость и те волоски, передать которые невозможно без владения величайшими тонкостями живописи. Ресницы же благодаря тому, что было показано, как волоски их вырастают на теле, где гуще, а где реже, и как они располагаются вокруг глаза в соответствии с порами кожи, не могли быть изображены более натурально. Нос, со всей красотой своих розоватых и нежных отверстий, имел вид живого. Рот, с его особым разрезом и своими концами, соединенными алостью губ, в сочетании с инкарнатом лица, поистине казался не красками, а живой плотью. А всякий, кто внимательнейшим образом вглядывался в дужку шеи, видел в ней биение пульса, и действительно, можно сказать, что она была написана так, чтобы заставить содрогнуться и испугать всякого самонадеянного художника, кто бы он ни был. Прибег он также и к следующей уловке: так как мадонна Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал при ней певцов, музыкантов и постоянно шутов, поддерживавших в ней веселость, чтобы избежать той унылости, которую живопись обычно придает портретам, тогда как в этом портрете Леонардо была улыбка настолько приятная, что он казался чем-то скорее божественным, чем человеческим, и почитался произведением чудесным, ибо сама жизнь не могла быть иной»[134].
А.Л. Волынский, комментируя строки Вазари, писал: «…Я считаю это описание, в смысле передачи внешних особенностей, в высшей степени характерным и притом чуть ли не единственным описанием, дошедшим до нас от современников Леонардо да Винчи. Лиловатые жилки, нежно-розовые ноздри, удивительный артистический эффект, дающий иллюзию пульсации в шее, – но за этими словами я не вижу все-таки души Джоконды, как не видел ее и Вазари. Заметьте при этом следующие странности – он даже не упоминает о высоком выпуклом лбе Джоконды, почти преувеличенно высоком лбе, неженственной подробности, в которой сказалось нечто очень важное и серьезное. Затем, дальше, описывая ресницы, Вазари не упоминает, что Джоконда без бровей, – необычайно характерная деталь, которая долго не обращала на себя внимания и была впервые отмечена Стендалем. Вазари ничего не говорит о волосах Джоконды, не оттеняет гениального мастерства Леонардо в создании ее бесподобных, притягательных рук. Не отмечен и костюм Джоконды в мелких сборках и складках, представляющих изящное, утонченное подражание классическим складкам. Наконец, что всего важнее, Вазари не объясняет характера ее лица, ее неподвижной, смущающей улыбки. При этом все рассуждение Вазари основано на крупной ошибке, будто Леонардо да Винчи, созидая Джоконду, точно следовал природе. Талантливый биограф представителей итальянского искусства не сознает, что, при всей научности приемов, Леонардо да Винчи именно в этом произведении является таинственным кудесником, каким-то холодным мечтателем, превратившим живую человеческую натуру в демоническую химеру»[135].
Судьба «Моны Лизы» после смерти Леонардо неясна. С одной стороны, аналогичный портрет фигурировал в описи имущества одного из его учеников – Джана Джакомо Капротти, по прозвищу Салаи [1480–1524], датированной 1525 г., с другой стороны, известно, что «Мону Лизу» за 4000 золотых крон приобрел Франциск I[136], после чего она находилась в Фонтенбло и Версале, а с конца XVIII столетия – в Лувре. Высказывались и предположения, что на этом портрете была изображена не жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо, неаполитанка Лиза Герардини, а одна из любовниц Джулиано Медичи, младшего сына Лоренцо Великолепного, основывающиеся на словах Антонио де Беатиса, что по его настоянию Леонардо написал портрет некоей флорентийской дамы. В качестве предполагаемых кандидаток назывались Костанца д’Авалос, Пачифика Брендано, Изабелла Гуаланда, однако ни одна из этих кандидатур не выдерживает критики, так как ни одна из упомянутых дам не жила во Флоренции[137].
К 1505 г. относятся наблюдения Леонардо над механикой полетов. «Большая птица первый начнет полет со спины исполинского лебедя, наполняя вселенную изумлением, наполняя молвой о себе все писания – вечной славой гнезду, где она родилась», – говорится в Туринском кодексе (T. fol. 18r)[138]. Здесь также имеется запись о «хищной птице» (il cortone uccello di rapina), которую он видел на пути во Фьезоле, возле местечка Барбига, в пятом году, 14 марта (T. fol. 28r)[139]. Возле Фьезоле расположена гора Монте-Чечери, а так как на старофлорентийском диалекте «чечеро» означало «лебедь», благодаря этой игре слов можно сделать вывод, что Леонардо планировал осуществить с ее вершины («спины исполинского лебедя») полет летательного аппарата («большая птица»), записи о котором сохранились в его кодексах, но, по всей вероятности, закончились неудачей[140].
Летом 1506 г. из-за возобновления тяжбы с монахами братства Непорочного Зачатия вокруг «Мадонны в скалах», инициированного за три года до этого Амброджио де Предисом, Леонардо отправился в Милан. Флорентийское правительство согласилось предоставить ему отпуск на три месяца, угрожая в противном случае взыскать штраф в размере 150 флоринов, так как он уже получил аванс за «Битву при Ангьяри». 140 лир ему было выплачено 28 февраля 1504 г.; 35 флоринов – 4 мая 1504 г. (согласно контракту, предусматривавшему, что он должен получать по 15 флоринов за каждый месяц работы над картоном); 30 июня 1504 г. – 45 флоринов; 210 лир – 31 октября 1504 г. (не считая оплаты подготовительных работ)[141]. К тому же отношения Леонардо с гонфалоньером складывались не лучшим образом. Вазари пишет, что когда Леонардо пришел в банк за ежемесячно получаемым от Содерини содержанием, кассир хотел выдать ему несколько кульков с грошами, от которых он отказался со словами: «Я не грошовый живописец». В другой раз Содерини обвинил художника в недобросовестности, после чего Леонардо занял денег у друзей и пошел возвращать выплаченную ему сумму, но гонфалоньер ее не принял[142].
Так как миланский суд обязал Леонардо завершить работу над вторым (лондонским) вариантом «Мадонны в скалах», он не смог вовремя вернуться из Милана во Флоренцию. Французский наместник маршал Шарль д’Амбуаз (племянник кардинала д’Амбуаза) 18 августа 1506 г. написал членам Синьории: «Так как мы еще нуждаемся в маэстро Леонардо, чтобы завершить некоторую работу, которая уже была начата, он сделает ее, к большому удовольствию Ваших Превосходительств, и мы просим сделать так, чтобы продлить время, которое дано упомянутому маэстро Леонардо, несмотря на данное им обещание, с целью того, чтобы он мог задержаться в Милане и в указанное время выполнить некоторую нашу работу»[143]. 28 августа Синьория направила маршалу д’Амбуазу и вице-канцлеру Милана Джаффредо Карольи письмо, в котором Леонардо разрешалось остаться в Милане до конца сентября. После того как Леонардо не прибыл к назначенному сроку, нависла угроза наложения секвестра на его банковский счет, а гонфалоньер 9 октября отправил французскому наместнику письмо, в котором просил не предоставлять ни одного лишнего дня Леонардо, который «ведет себя не так, как подобает, с этим государством: потому что он взял большую сумму денег и едва положил начало большому труду, который должен был сделать, и по благосклонности Вашей Светлости уже стал должником», а также потребовал более не ходатайствовать о нем, так как это нанесет ущерб всеобщему благу[144]. Затем более чем на два месяца наступило затишье, пока 16 декабря д’Амбуаз вновь не обратился с письмом к Синьории, в котором дал лестную оценку работам Леонардо и обещал не препятствовать его возвращению в родной город.
В конце концов в конфликт пришлось вмешаться Людовику XII. 12 января 1507 г. флорентийский посол во Франции Франческо Пандольфини сообщал Синьории: «…Этим утром, когда находился в присутствии христианнейшего короля, Его Величество подозвал меня, сказав: “Ваша Синьория должна оказать мне услугу. Я желаю нанять их художника, мастера Леонардо, который находится в Милане, чтобы он сделал для меня некоторые вещи. Пусть Синьория побеспокоится и прикажет ему тотчас поступить ко мне на службу и не покидать Милан до моего приезда. Он хороший мастер, и я желаю иметь несколько картин его руки. Так что напишите во Флоренцию, чтобы добиться этого результата, и сделайте это быстро, чтобы мне прислали письмо, которое будет отправлено в Милан». Пандольфини посоветовал королю лично распорядиться насчет Леонардо, если он пребывает в Милане, а если находится во Флоренции, пообещал отправить его в Милан. «Во время беседы, – продолжает Пандольфини, – я спросил у короля, какие работы он хотел бы поручить Леонардо, и он ответил: “Несколько небольших мадонн и еще что-нибудь, что придет мне в голову. И возможно, я также предложу ему написать мой портрет”». 14 января Людовик XII направил послание членам Синьории, в котором вежливо, но твердо заявил: «Из-за того что мы нуждаемся в работах маэстро Леонардо да Винчи, живописца из вашего города Флоренции, и имеем намерение поручить ему сделать своей рукой некоторые произведения, немедленно после того, как мы прибудем в Милан, что, с Божьей помощью, вскоре произойдет, мы просим вас так сердечно, как только можем сделать, чтобы вы пожелали удовольствоваться тем, что упомянутый маэстро Леонардо поработает на нас некоторое время, чтобы завершить произведение, которое мы намереваемся ему поручить. И тотчас после того, как вы получите все письма, напишите ему, чтобы до нашего прибытия в Милан он не уезжал оттуда; и пока он нас там ожидает, мы будем с ним общаться и обсуждать произведение, которое собираемся ему поручить; однако напишите ему, чтобы он не уезжал из упомянутого города до нашего прибытия, как я уже говорил вашему послу, для того чтобы он написал вам; и, сделав это, вы доставите нам очень большое удовольствие»[145].
Под давлением своего союзника Синьория смягчила тон, согласившись 22 января в письме к Леонардо удовлетворить просьбу французского короля. Через три месяца маршал д’Амбуаз распорядился вернуть Леонардо виноградник у монастыря Сан Витторио, а Людовик, встретившийся с Леонардо в Милане, предоставил ему право получения дохода с 12 унций воды в канале Святого Христофора, однако из-за засухи воспользоваться королевским даром оказалось не так просто, о чем свидетельствует набросок письма Леонардо к председателю совета по делам каналов, сохранившийся в Атлантическом кодексе (fol. 372v).
Тогда же были сделаны шаги к разрешению конфликта вокруг «Мадонны в скалах»: монахи братства Непорочного Зачатия по завершении работы над картиной в 1507–1508 гг. должны были выплатить Леонардо и Амброджио де Предису обещанную в 1483 г. премию в двукратном размере (200 лир)[146]. В последний момент разногласия по поводу ее размера возникли уже между художниками, но после того как они были урегулированы, Амброджио де Предис получил разрешение написать для продажи третью копию картины, однако неизвестно, воспользовался ли он этим разрешением. Вторая копия картины с 1508 по 1781 г. находилась в церкви Сан Франческо Гранде, а вскоре после ликвидации братства была куплена шотландским живописцем Г. Гамильтоном и привезена в Великобританию, где находилась сначала в частных коллекциях, а с 1880 г. – в Лондонской национальной галерее[147].
Осенью 1507 г. Леонардо на некоторое время вернулся во Флоренцию, чтобы возбудить дело о наследстве, оставленном ему скончавшимся дядей Франческо – земельном наделе под названием il botro, которое, видимо, было куплено дядей на деньги Леонардо. Права на него оспаривали сыновья Пьеро да Винчи от третьего и четвертого браков, которые после смерти отца в 1504 г. поделили отцовское наследство без участия Леонардо, отстраненного от наследования из-за внебрачного происхождения. Согласно семейному соглашению между братьями да Винчи, заключенному в 1492 г., они стали претендовать на наследство Франческо, хотя тот после смерти старшего брата Пьеро пересмотрел свое завещание в пользу Леонардо.
Уезжая из Милана, Леонардо заручился рекомендательными письмами французского короля, назначившего его придворным живописцем и инженером, и маршала д’Амбуаза, но они не помогли ускорить судебный процесс, так же как и письмо Леонардо к кардиналу Ипполито I д’Эсте, брату мантуанской маркграфини, направленное 18 сентября или октября 1507 г. с жалобой на одного из братьев, Джулиано да Винчи, не желавшего соблюдать завещание дяди, а также с просьбой повлиять на Рафаэля Иеронимо, которого гонфалоньер Содерини уполномочил довести этот судебный процесс до завершения к празднику Всех Святых (1 ноября). Из черновика письма Леонардо, также сохранившегося в Атлантическом кодексе (fol. 317r), которое, по всей видимости, предназначалось маршалу д’Амбуазу и было отправлено весной 1508 г. с Салаи, выясняется, что он надеялся завершить судебную тяжбу с братьями и вернуться в Милан к Пасхе, а также обещал привезти с собой две картины разного размера с изображением Богородицы, которые начал писать для Людовика XII[148]. Какие именно произведения имел в виду Леонардо, точно неизвестно, как и то, сумел ли он на этот раз довести начатые работы до конца.
В это время его внимание поглощали исследования по анатомии, зафиксированные в большом количестве рисунков, которой он занимался в Милане и Павии вместе с молодым профессором Марко Антонио делла Торре, после того как вернулся из Флоренции, так и не дождавшись завершения тяжбы с братьями. Среди других интересов Леонардо в те годы были геология, водные ресурсы, оптика. В качестве художника-декоратора он получал от Амбуаза 400 скудо в год. Кроме того, Леонардо был сделан заказ на изготовление монументального надгробия Джану Джакомо Тривульцио, маршалу Франции и бывшему французскому наместнику в Милане, предварительная смета на который, сохранившаяся в Атлантическом кодексе, составила 2924 дуката, но так и осталась на бумаге[149].
Возможно, к третьему пребыванию Леонардо в Милане относится работа над картиной «Леда и лебедь», сюжет которой основан на древнегреческом мифе о дочери этолийского царя Леде, соблазненной верховным богом Зевсом в образе лебедя. Картина известна по копиям, сделанным в начале XVI в., которые даны в двух вариантах: обнаженная стоящая Леда, обнимающая лебедя, и обнаженная коленопреклоненная Леда в окружении детей[150]. Эскизы Леды сохранились в бумагах Леонардо, но оригинал картины утерян.
Среди поздних работ Леонардо следует отметить портрет Иоанна Крестителя (ок. 1509–1517, Париж, Лувр)[151], написанный в технике sfumato, на котором улыбающийся святой, с женственными чертами лица, представлен по пояс, наполовину обнаженным; правая рука, устремленная вверх от локтя, с вытянутым большим и указательным пальцами, придерживает длинный посох, увенчанный крестом. Как отмечал А.Л. Волынский, «этот образ, выступающий ослепительным видением на темном фоне, как бы воплощает всю душу Леонардо да Винчи, с ее яркою игрою научного света и бездн густого мрака. Это ее бесподобный символ. Проницательный ум, тонкая, болезненно-изысканная чувственность, улыбка, полная непобедимого скептицизма, высота одинокого полета к холодному фантастическому небу – это именно душа Леонардо да Винчи, перевоплощенная в образ юного Иоанна Крестителя…»[152]. К аналогичной интерпретации склонялся К. Кларк, считавший, что «святой Иоанн для Леонардо – вечный знак вопроса, носитель величайшей тайны мироздания. Тем самым он превращается в двойника Леонардо, в дух, который стоит у него за спиной и подбрасывает ему неразрешимые загадки»[153].
Еще одну вариацию на эту тему представляет картина «Святой Иоанн в пустыне» (ок. 1513–1519, Париж, Лувр)[154], в левой части которой изображена долина с горой и частью реки; в правой части помещена в полный рост фигура сидящего под деревом Иоанна Крестителя, одетого в набедренную повязку и левой рукой придерживающего посох, а указательным пальцем приподнятой правой руки указывающего направо, предвосхищая грядущего Христа. Прическа Иоанна на этой картине соответствует прическе Иоанна на поясном портрете, но выражение лица более серьезно. В XVII в. «Святой Иоанн в пустыне» был подвергнут переделке, в результате ему были приданы атрибуты античного бога Вакха. Под этим названием картина известна в настоящее время.
После смерти маршала д’Амбуаза в 1511 г. положение французов в Северной Италии осложнилось. Римский папа Юлий II (1503–1513), на протяжении нескольких лет бывший союзником Людовика XII, изменил вектор политики, организовав против короля Франции Священную лигу, в которую вошли Венеция, Испания, Швейцария, Англия и Священная Римская империя. Вскоре после гибели нового французского наместника Гастона де Фуа в битве под Равенной (1512) французам пришлось оставить Милан, где союзники в конце того же года водворили Массимилиано Сфорцу (1512–1515), старшего сына Лодовико Моро. Леонардо, скомпрометированный сотрудничеством с французами, не задержался при его дворе, тем более что вскоре ему представился случай сменить покровителя.
В феврале 1513 г. Юлий II скончался, и на его место был избран кардинал Джованни Медичи – второй сын Лоренцо Великолепного, принявший имя Лев X (1513–1521). По приглашению брата нового понтифика Джулиано Медичи Леонардо 24 сентября того же года в сопровождении своих учеников Франческо Мельци [1493–1570], Салаи, Лоренцо и Фанфойи отправился в Рим, о чем имеется запись в Парижском кодексе E (fol. 1r). Хотя художнику была выделена студия в папской вилле Бельведер, отношение к нему, по всей видимости, было прохладным. Вазари рассказывает, что, «получив как-то заказ от папы, он тотчас же начал перегонять масла и травы для получения лака, на что папа Лев заметил: “Увы! Этот не сделает ничего, раз он начинает думать о конце, прежде чем начать работу”»[155]. Достоверность рассказа Вазари может подтвердить одна из записей Леонардо в Парижском кодексе H, которая гласит: «Озаботься итогом. Прежде всего подумай о том, чем дело кончится» (fol. 139v)[156]. Впрочем, папа, видно, поторопился в своих суждениях, так как со слов Вазари известно, что за время пребывания в Риме Леонардо успел написать две картины, изображавшие Мадонну и младенца, для папского датария Бальдассаре Турини. Как бы то ни было, отношения Леонардо с Львом X не сложились: позже в его записях, вошедших в Атлантический кодекс, появится пессимистическая фраза: «Медичи меня создали и разрушили»[157].
По всей видимости, проблема заключалась в том, что в Риме Леонардо занялся конструированием параболических зеркал для отражения солнечной энергии, но вступил в конфликт с немецкими ассистентами Георгом и Иоганном. Камнем преткновения между Леонардо и одним из мастеров, Георгом, стал вопрос о заработной плате: он получил 7 дукатов, но утверждал, что ему было обещано 8 дукатов, а кроме того, хотел забрать в Германию некоторые металлические модели, чего Леонардо не разрешил ему сделать. Тогда Георг, пренебрегая служебными обязанностями, устроил в своей комнате мастерскую и стал выполнять другие заказы. Инициатор этого конфликта, мастер Иоганн, рассматривавший Леонардо как конкурента в борьбе за благосклонность Джулиано Медичи, также организовал собственную мастерскую, куда переманил Георга и стал производить зеркала для продажи на ярмарках. В довершение всего Иоганн попытался дискредитировать анатомические изыскания Леонардо, после чего папа запретил проводить их. Художник был вынужден обратиться с письмом к Джулиано Медичи, в котором дал свою интерпретацию произошедшего конфликта: черновик этого письма сохранился в Атлантическом кодексе (fol. 247v)[158]
2
Leonardo da Vinci. Scritti. Rusconi, 2009. P. XIII–XIV.
3
Николл Ч. Леонардо да Винчи. Полет разума. М., 2006. C. 35.
4
Uzielli G. Ricerche intorno a Leonardo da Vinci. Serie 1. Vol. 1. Torino, 1896. P. 33, 34.
5
Айзексон У. Леонардо да Винчи. М., 2018. C. 14, 15.
6
Аноним. Краткая биография Леонардо да Винчи // Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. М., 1997. C. 482.
7
Beltrami L. Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci. Milano, 1919. P. 2.
8
Николл Ч. Леонардо да Винчи… С. 45.
9
Айзексон У. Леонардо да Винчи. C. 25; Зубов В. П. Леонардо да Винчи. 1452–1519. 2-е изд. М., 2008. C. 20.
10
Николл Ч. Леонардо да Винчи… С. 81, 85; Дживелегов А. Леонардо да Винчи // Он же. Данте Алигиери, Леонардо да Винчи, Микельанджело, Никколо Макиавелли. М., 2018. C. 387, 406.
11
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи, флорентинского живописца и скульптора // Он же. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Под ред. Габричевского А. Г. В 5 томах. Т. 3. М., 2001. C. 14.
12
Ср.: Кларк К. Леонардо да Винчи. Творческая биография. СПб., 2009. C. 16; Мюнц Э. Леонардо да Винчи. Художник, мыслитель, ученый: В 2 томах. Т. 1. М., 2011. C. 29.
13
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 4.
14
Вазари Дж. Жизнеописание Мазаччо из Сан-Джованни-ди-Вальдарно, живописца // Он же. Жизнеописания… Т. 2. М., 2001. С. 109.
15
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… С. 17–18.
16
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… С. 19.
17
Аноним. Краткая биография Леонардо да Винчи. С. 484.
18
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 16.
19
Вазари Дж. Жизнеописание Андреа дель Верроккьо, флорентинского живописца, скульптора и архитектора // Он же. Жизнеописания… Т. 2. М., 2001. C. 439.
20
О специфике литературной работы Вазари см. в кн.: Роланд И., Чарни Н. Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства. М., 2019.
21
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи 1452–1519: В 2 томах. Т. 1. Полное собрание живописи. М., 2011. C. 19, 215.
22
Арган Дж. К. История итальянского искусства: В 2 томах. Т. 1. Античность, Средние века, Раннее Возрождение. М., 1990. C. 276.
23
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 212.
24
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 213.
25
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 22–23, 216.
26
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… С. 16–17.
27
Аноним. Краткая биография Леонардо да Винчи. С. 484.
28
Паоло Джиовио. Жизнь Леонардо да Винчи // Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 486–487.
29
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 5–6.
30
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 48, 221.
31
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 51, 222.
32
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 7–8; Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. С. 50. В дополнение к алтарной картине Леонардо должен был расписать циферблат монастырских часов (См.: Айзексон У. Леонардо да Винчи. C. 72–73).
33
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 39, 218.
34
Аноним. Краткая биография Леонардо да Винчи. С. 484.
35
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 6.
36
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 36, 217.
37
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 84, 227.
38
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С 14, 15, 214.
39
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… С. 18.
40
Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 214.
41
Аноним. Краткая биография… С. 483.
42
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 20.
43
Цит. по: Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 25–27.
44
Сеайль Г. Леонардо да Винчи как художник и ученый (1452–1519). Опыт психологической биографии. М., 2010. C. 28.
45
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 10–11.
46
Solmi E. Leonardo (1452–1519). 2 ed. Firenze, 1907. P. 12–14; Дживелегов А. Леонардо да Винчи. С. 409.
47
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 14, 15.
48
Amoretti C. Memorie storiche su la vita, gli studi e le opere di Leonardo da Vinci. Milano, 1804. P. 27–28.
49
Цит. по: Vecce C. Leonardo. Roma, 1998. P. 74–75.
50
Гуковский М. А. Леонардо да Винчи. Творческая биография. Л.-М., 1958. С. 60; Зубов В. П. Леонардо да Винчи. C. 32.
51
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 64, 65, 223–224.
52
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 66, 67, 229.
53
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 19.
54
Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 2006. C. 227.
55
Нойманн Э. Леонардо да Винчи и архетип матери // Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М., Киев, 1996. C. 116.
56
Аноним. Краткая биография… С. 484.
57
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 20.
58
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 12.
59
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 100, 225.
60
Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 309.
61
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 95, 226.
62
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 81, 228.
63
Amoretti C. Memorie storiche… P. 38.
64
Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996. C. 42.
65
Айзексон У. Леонардо да Винчи. С. 226–227; Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 300.
66
Le rime di Bernardo Bellincioni / Ed. P. Fanfani. Bologna, 1876. P. 178.
67
Leonardo da Vinci. Scritti. P. 441.
68
Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 193–194.
69
Amoretti C. Memorie storiche… P. 38.
70
Amoretti C. Memorie storiche… P. 39.
71
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 28.
72
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 15.
73
Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 395, 396.
74
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… С. 14.
75
Избранные произведения Леонардо да Винчи: В 2 томах / Под ред. А. К. Дживелегова, А. М. Эфроса. Т. 1. М., 2010. C. 129, 130.
76
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 124–125, 230–231.
77
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 20, 21. Аналогичный рассказ есть у итальянского писателя-гуманиста XVI в. Джамбатисты Джиральди Чинцио (См.: Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 234–236).
78
Банделло [М.] Знаменитейшей и добродетельнейшей героине г-же Джиневре Рангоне и Гонзаге // Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 489.
79
Паоло Джиовио. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 487.
80
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 21–22.
81
Дворжак М. История итальянского искусства… Т. 1. С. 151–152.
82
Вёльфлин Г. Классическое искусство. М., 2004. C. 39–41.
83
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Курс лекций: В 2 томах. Т. 1. XIV и XV столетия. М., 1978. С. 154–155.
84
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Курс лекций: В 2 томах. Т. 1. XIV и XV столетия. М., 1978. С. 153.
85
Цит. по: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 122. О прототипах персонажей см. в кн.: Кинг Р. Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря». СПб., 2016.
86
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 22.
87
Цит. по: Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 507.
88
Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 508. Критику этой гипотезы см.: Зубов В. П. Леонардо да Винчи. С. 28–29 (Примеч. 25).
89
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 15.
90
Тучков И. И. Роспись Зала делле Ассе в Кастелло Сфорцеско в Милане // Леонардо да Винчи и культура Возрождения / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2004. C. 72.
91
Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 233.
92
Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 29–30.
93
Кларк К. Леонардо да Винчи. Творческая биография. СПб., 2009. C. 115.
94
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 25.
95
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 29.
96
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 22.
97
Аноним. Краткая биография… С. 484.
98
Хоэнштатт П. Леонардо да Винчи (1452–1519) // Великие художники итальянского Возрождения: В 2 томах / Под ред. Э. Кёнига. Т. 2. Триумф цвета. М., 2008. С. 176; Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 230.
99
Коллисон Морлей Л. История династии Сфорца. СПб., 2005. C. 240–270.
100
Leonardo da Vinci. Scritti. P. 503, 504.
101
Банделло [М.] Знаменитейшей и добродетельнейшей героине г-же Джиневре Рангоне и Гонзаге // Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 489.
102
Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 118.
103
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 57.
104
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 58.
105
Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 414.
106
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 60, 62–63.
107
Leonardo da Vinci. Scritti. P. XL.
108
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 51.
109
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 142, 236.
110
Цит. по: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 145.
111
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 24.
112
Аноним. Краткая биография… С. 484; Паоло Джиовио. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 487; Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 24.
113
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 181, 244–245.
114
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 144, 234.
115
Цит. по: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 149.
116
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 148, 238.
117
См. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 153, 239.
118
Зубов В. П. Леонардо да Винчи. С. 48.
119
Цит. по: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 152.
120
Клула И. Борджиа. Ростов-на-Дону, 1997.
121
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 72.
122
О возможных контактах Макиавелли с Леонардо в период его службы у Цезаря Борджиа см. в кн.: Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. 2-е изд. СПб., 1991. C. 108–109; Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 442–443, 448–453; Айзексон У. Леонардо да Винчи. С. 316–324.
123
Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 461.
124
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 26–27.
125
Цит. по: Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990. C. 312.
126
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 27.
127
Паоло Джиовио. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 487.
128
Аноним. Краткая биография… С. 485.
129
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 166–167, 242–243.
130
Вазари Дж. Жизнеописание Микеланджело Буонарроти, флорентинца, живописца, скульптора и архитектора // Он же. Жизнеописания… Т. 5. М., 2001. C. 216.
131
Аноним. Краткая биография… С. 485.
132
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 155, 240–241.
133
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 251.
134
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 25.
135
Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 156–157.
136
Мюнц Э. Леонардо да Винчи. Художник, мыслитель, ученый: В 2 томах. Т. 2. М., 2011. C. 170.
137
Зубов В. П. Леонардо да Винчи. С. 60–61; Николл Ч. Леонардо да Винчи… С. 469.
138
Избранные произведения Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 262.
139
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 98.
140
Николл Ч. Леонардо да Винчи… С. 506.
141
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 84, 87–88, 91–92, 95.
142
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 27.
143
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 110–111.
144
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 112.
145
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 114–116.
146
Beltrami L. Documenti e memorie… P. 121–123, 125–127.
147
Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 541–542.
148
Leonardo da Vinci. Scritti. P. 506, 508.
149
Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 550, 551.
150
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 184, 247.
151
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 198, 248.
152
Волынский А. Жизнь Леонардо да Винчи. С. 320.
153
Кларк К. Леонардо да Винчи… С. 228.
154
См.: Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи. Т. 1. С. 203, 249.
155
Вазари Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи… C. 28.
156
Цит. по: История литературы Италии. Т. 2. Возрождение. Кн. 1. Век гуманизма. М., 2007. C. 639.
157
Цит. по: Зубов В. П. Леонардо да Винчи. С. 61. Альтернативную интерпретацию этой фразы, предполагающую, что речь может идти о медиках, лечивших Леонардо в Риме? см.: Николл Ч. Леонардо да Винчи. С. 610.
158
Leonardo da Vinci. Scritti. P. 512.