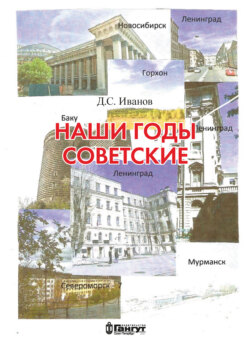Читать книгу Наши годы советские - Дмитрий Иванов - Страница 4
Часть 1. Детство
Глава 2. Новосибирск. Детство продолжается
ОглавлениеВ один прекрасный день мама с Андреем и мной отправилась в долгое путешествие по железной дороге.
Сели на поезд и поехали. Сначала от Горхона, до Транссибирской магистрали и дальше мимо Улан-Уде, озера Байкала, сквозь сплошные леса, иногда по равнине, но чаще между сопок и даже сквозь них – по темным тоннелям.
И сразу задачка – сколько же можно было ограничивать мое жизненное пространство? Я не привык сидеть и почти не двигаться. А тут – вагон, да и только. Пришлось приспосабливаться.
В нашем плацкартном вагоне много народа, но это меня мало интересовало, и я с нетерпением ждал утра, чтобы, наконец, убрали нижнюю постель на боковом месте, где образовывался столик, и можно было сесть, упереться локтями в него и, положив голову на ладони, смотреть и смотреть в окно. А что оставалось делать?
Дальше мне почти ничего не мешало – ни вечно ходившие взад и вперед люди, ни постоянный стук колес, ни даже нависающие над головой не первой свежести носки пассажиров, лежащих на второй полке через проход и сбоку от меня.
За окном мимо проплывали новые невиданные и интересные картинки природы и жизни: совсем близко, в стороне от железнодорожной насыпи – тайга и бесконечные сопки, редкие домики обходчиков или полустанки, и еще реже большие станции. И так несколько дней.
Мое место было слева по ходу поезда, и если здесь, за окном, оказывались сплошь скалы, а справа открытое пространство, то приходилось менять место и искать его с другой стороны вагона. И жизнь продолжалась.
Мама иногда разрешала мне забраться на третью полку, на которой было немного свободного от вещей места. А мне его хватало. На полке лежать было неудобно – чтобы смотреть в окно нужно свесить голову вниз, потому что оно было значительно ниже полки. И еще был риск свалиться вниз – приходилось одной рукой за что-то держаться. Зато никто не мешал смотреть на то, что проплывало мимо за окном поезда.
Ну, а там…
В один из дней, проснувшись, я увидел, что поезд идет по самому берегу Байкала. И мне казалось, что так было целый день.
Вот это было зрелище: берег с участками песка, с огромными валунами на нем, с кустами и еще более огромными деревьями, и тут же кромка воды.
В воде озера далеко-далеко видны на дне большие камни, небольшие камешки и песок.
А ведь взрослые говорили, что здесь очень глубоко даже у самого берега – но вода очень прозрачная, и потому через нее так хорошо все видно.
По сторонам и за гладью озера видна полоска берега, а дальше – сопки и тайга, превращающиеся вдали в темную неровную границу горизонта на фоне светлого голубого неба.
Когда путь, следуя за изгибами берега менял направление, то сбоку можно было увидеть передние вагоны и наш паровоз, выпускающий клубы густого и черного дыма. Дым тянулся над крышами вагонов почти по всей длине поезда.
А еще здесь было несколько тоннелей, и поезд нырял в них – в кромешную тьму, наполненную грохотом колес; а когда выскакивал из этого «страха» на свет, можно было вздохнуть свободно – снова солнце, снова Байкал, чистый воздух и красота вокруг.
И это живое, завораживающее зрелище.
Потом, после Байкала, дорога была более монотонна и начинала надоедать.
Так, наконец, поезд довез нас до Новосибирска.
Здесь, в городе, мама довольно быстро нашла жилье – поселились недалеко от вокзала в одноэтажном бревенчатом доме на длинной улице из таких же деревянных домов.
У нас была комната с печкой, с сенями и отдельным входом. На трех окнах висели массивные деревянные ставни, которые на ночь закрывались и запирались поперечным затвором из полосы железа, с помощью длинного металлического штыря, фиксирующегося внутри дома.
Так было во всех ближайших домах – жители боялись бандитов и воров, ведь слухи о них циркулировали в городе постоянно. А может, так оно и было – где-то же были эти «Черные кошки», способные, как говорили люди, прыгать через заборы и грабить людей. Но нас это не коснулось – «Черных кошек» я не видел.
Снаружи дома была завалинка у стенки со скамьей, палисадник, отделенный от улицы небольшим заборчиком.
За палисадником – улица с рядом лип по обеим сторонам, и уходящая куда-то в центр города.
После приезда, на следующее утро, без задержки, началось знакомство и освоение ближайших окрестностей и города вообще.
Хорошо вокруг оказалось достаточно сверстников – мальчишек, с ними было проще, да и маме было спокойней.
Тем более, что у Андрея своя, взрослая, компания, у меня – своя.
За домами на противоположной стороне улицы начиналась самая настоящая окраина в виде пологого овражка с мелким ручейком, но почему-то нас совсем не привлекавшем.
Первое интересное для меня место в городе оказалось недалеко от дома.
Надо было пройти по нашей улице в центр, и в нескольких кварталах за забором – охраняемая территория, военного городка, а на ней самое интересное – клуб, в котором показывали кино. Ну, а об этом потом.
Дальше, где-то в центре города, располагалась огромная центральная площадь с большим зданием театра Оперы и Балета. Красивое здание с куполом и колоннами.
В этом театре, гораздо позже, я впервые увидел красочный спектакль и услышал музыку в исполнении оркестра. Это был первый балет, который я смотрел в своей жизни – балет «Спящая красавица». С тех пор поход в театр был для меня праздником, красивым представлением, всегда сказкой. Ведь здорово – огромные красивые декорации, яркие костюмы, сказка на сцене и завораживающая музыка! Это был новый и прекрасный мир, и он приносил столько радости и, наверное, то, что называется счастьем.
От ребят еще было известно, что в городе есть большая река – Обь. Но от дома до нее надо было идти далеко и долго.
Изредка летом ватага соседских мальчишек отправлялась туда покупаться. Когда мы выходили на берег, река казалась бесконечной в обе стороны, а другой берег – узкой полоской на горизонте, и едва видимой с моего роста. Остальное – водная гладь и легкие барашки волн на ней.
Горячий песок на берегу обжигал голые пятки, но зато приятно было войти в воду и охладить их, а потом погоняться по кромке, разбрызгивая воду и пиная редкие, выброшенные на берег, водоросли.
Тут же, рядом, на песке лежали огромные, опрокинутые днищами вверх, рыбацкие лодки. Они были черные, просмоленные, с торчащими из бортов, из-под отдельных рядов досок, пучками пакли. И от них исходил фантастический запах смолы.
Все было интересно и весело.
Но, еще был в городе дом, который я обходил стороной. Дом находился совсем недалеко – на соседней параллельной нашей улице.
Все началось с моего расшатавшегося и, наконец, сломавшегося молочного зуба, который мне страшно мешал – острая кромка «терзала» десну и рот. И тогда мама повела меня в детскую поликлинику.
Большая тетенька в белом халате зуб своими полными пальцами окончательно расшатала и вытащила.
С тех пор я старался на эту улицу не ходить, а если попадал, то переходил на другую от поликлиники сторону. Боялся я этого дома, за стеной которого была та самая необычно острая, как мне казалось, зубная боль – боль где-то рядом с тем местом, которое что-то соображает, а значит больнее и страшнее, чем все остальные возможные боли.
К другим ее видам я привык, этого у меня уже было немерено – то руку, то ногу поранишь, то в глаз в драке получишь, то осы искусают. Да, чего только не бывало. Подумаешь!
И все-таки, самым интересным местом в городе был вокзал и станция. Здесь всегда было много народа, но, главное, паровозы и составы, пассажирские и грузовые. Все это суетилось и двигалось.
В марках паровозов я уже понемногу разбирался. Были мощные паровозы ФД (Феликс Дзержинский) и ИС (Иосиф Сталин) – огромные, мощные, черные, стальные. Они пыхтели, выпускали острые струи пара и клубы дыма, таскали бесконечные грузовые составы. А еще, сравнительно небольшие пассажирские поезда. Здесь же паровозы ОВ («Овечки») и маленькие маневровые паровозики.
Поезда приходили и уходили, толпы пассажиров, то прибывали, то исчезали, то слонялись по платформам. Иногда из громкоговорителей раздавались женские голоса, как будто специально неразборчиво что-то долго говорили – это делались объявления для пассажиров.
Тогда толпы отъезжающих или встречающих останавливались как вкопанные и чего-то ждали, открыв рты и пытаясь понять, о чем идет речь. Потом все вместе срывались со своих мест и куда-то мчались, сгибаясь под тяжестями своих чемоданов и мешков. Смешные были картинки.
А еще здесь, на платформах, тетеньки торговали семечками: большой граненый стакан за одну цену, маленький – вдвое дешевле. Если были денежки, отдавал их тетке, оттопыривал боковой карман штанов, в который засыпались эти семечки, и ходил пару часов, наслаждаясь их масляным вкусом. Правда, это было достаточно редко – мама денежку давала не часто.
Дешевле стоили леденцовые «петушки» на палочках. Как их изготовляли, в основном цыгане, тайна покрытая мраком. Да, это было и неважно. Они были двух цветов – красного и желтого. Какое это удовольствие – сосать и вылизывать «петушка» до самой деревянной палочки с риском занозить язык от этой палочки.
Кстати, о лакомствах. Вспоминая кедровую жвачку Горхона, я несколько раз пытался жевать вар – черную смолу, которую можно было отыскать здесь же на станции. Ею просмаливали шпалы железнодорожного пути. Но из этого ничего путного не получалось – вар прилипал к зубам, и не жевался. При этом зубы оказывались, залеплены черной смолой, и не было никакой возможности отодрать эту гадость. Оставалось тереть замазанные места пальцами до бесконечности, в надежде, что это как-то поможет вернуть зубам естественный цвет. В конце концов, через день или два все приходило в норму, и я мог не скрывать свой рот от мамы и взрослых.
Иногда в руки ребят попадал, непонятно откуда, жмых. Он был двух видов: один очень хороший, с масленым вкусом и ароматом – соевый; другой, так себе – из подсолнечной шелухи, наверное. Обычно это были круги диаметром 20–30 сантиметров и толщиной 4–5: плотные как камень прессованные отходы сои и подсолнечника.
Если отломить или отгрызть кусочек и пожевать, получалась масса, которую можно было либо долго сосать, получая несказанное блаженство, либо тут же проглотить, в надежде добраться до нового кусочка удовольствия.
Одного такого круга надолго хватало, но чаще ребята делились, и все заканчивалось быстро, правда, если попадался соевый жмых.
Подсолнечный не пользовался такой популярностью – он был слишком жесткий и совсем не вкусный. А что могла представлять собой прессованная шелуха семечек?! Его употребляли, только когда уж очень хотелось есть.
А есть хотелось почти всегда – время было такое. Маме приходилось что-то выращивать у дома, делать какие-то заготовки, чтобы накормить нас с Андрюшкой.
В конце осени, с первыми морозами, (в Новосибирске они были всегда не маленькие) мама делала запасы молока на всю зиму до весны. Молоко заливалось в глубокие тарелки и замораживалось в холодных сенях. Когда оно затвердевало, его вынимали из тарелок в виде замороженных слитков и укладывали тут же в сенях на полках в виде пирамид. Этого молока хватало почти до весны.
Весной же наступала в городе очередная эпопея заготовки еды – овощей.
Недалеко от города жителям выделялись небольшие участки под огороды. У нас такой участок был рядом с насыпью железной дороги в часе езды на поезде. Рядом, чуть ли не до горизонта, было их, участков, множество.
По воскресеньям с утра поезд с несколькими пассажирскими вагонами двигался от города, изредка останавливаясь и высаживая жителей на насыпь около их огородных участков.
Границами участков были хилые колышки, но зато, с каким старанием жители обихаживали эти огородики, зная, что это почти единственные их запасы еды на весь оставшийся год. Сажали картошку, капусту, морковку, свеклу и, конечно, мои любимые – репу и турнепс. Репа особенно была большим лакомством.
Когда мама, Андрей и я выезжали на наш участок, то меня, по молодости лет, освобождали от работы; чем я с удовольствием пользовался, носясь вдоль насыпи и по всему возможному свободному пространству между огородами.
При этом у меня в руках была «вертушка» – палка с закрепленным на ней кругом в виде тонкой дуги-круга с несколькими бумажными пропеллерами на ней. Если держать все сооружение высоко над головой и быстро бежать, то пропеллеры начинали крутиться от встречного ветра – чем быстрее, тем бешенней они вращались, создавая легкий шум. Здорово!
Бездонное, без единого облачка небо, солнышко, до ближайшего леса или строений далеко, далеко – раздолье! И полная свобода!
Наконец, вечером приходил поезд, чтобы отвезти жителей в город. Усталые люди возвращались домой. Мне – малолетке, доверялось разве что тащить лопату или грабли, и это даже доставляло удовольствие.
Осенью выезды на огороды были реже, но уже за урожаем. Для меня это конечно и репа, и морковка, и, в крайнем случае, турнепс – все вкусно.
Картошка и капуста собирались в мешки, чтобы потом каким-то образом доставить домой, а ботва собирались в кучи и сжигалась. И какой же божественный запах был у этих небольших тлеющих куч – очень необычный. Приятный и вкусный.
Наступала зима, и тут мне хватало забот и забав.
Первое, конечно, было катание на коньках по насту или случайно образовавшемуся льду на улице. При этом сначала нужно прикрутить «Снегурки» к валенкам с помощью веревок, что иногда было большой проблемой, поскольку деревянные палочки, фиксирующие веревки при закрутке, никак «не хотели» как положено, устанавливаться на место, или же веревка закручивалась так, что валенок сжимался в носке, терял свою форму и больно сдавливал ногу. Когда же с этими проблемами я справлялся, начиналось самое главное – катание. Это было мучение и удовольствие одновременно – ноги разъезжались, я спотыкался и падал, вставал. Иногда «Снегурки» сваливались с валенок – процесс начинался сначала. И снова вперед – с сомнительным «ветерком».
Катание продолжалось до тех пор, пока не подмораживались щеки или нос, которые потом долго приходилось оттирать ладошкой или промерзшей, в снегу, иногда с льдинками, варежкой. Процесс долгий и малоэффективный, но заканчивался вполне благополучно – болезненно, но благополучно, без обморожений.
Еще одна забава – катание с ледяной горки. Снега в городе было много, и соорудить горку среди сугробов было несложно. К тому же ребята ее поливали водой, и катание при этом становилось еще интересней. Забравшись на карачках на эту невысокую горку, с криком: «Врагу не сдается наш гордый Варяг!», я бросался вниз на «всем» – на листе картона, на листе железа или просто на спине. Скатывание проходило на «ура». Одно было нехорошо – снег и крошки льда моментально набивались под одежду, на голую спину, живот и даже, непонятно каким образом, в штаны. Что было очень неприятно – просто пронзительно холодно и сыро. Я пытался с этим бороться, меняя позу прыжка и «вхождения в процесс» – я стал бросаться вперед грудью и животом. В конце концов, у меня же был опыт скатывания с горок в таком положении еще с Горхона, еще со спуска на «самокате». Но, и это мало помогало борьбе со снегом, хотя и не останавливало до того, пока я не уставал почти до бесчувствия.
Вот тут, через пару часов моего гуляния на улице, я приходил домой совершенно обессиленный, мокрый и холодный телом и одеждой. Но довольный.
Здесь меня ждала легкая выволочка от мамы. И как же трудно с меня снималась-сползала вся эта одежка, вся эта мокрота. И только теплое одеяло, и горячее тепло от печки снимали все эти последние неприятные мелочи.
А «Варяг» был в голове и на языке после фильма «Малахов курган», который я с ребятами посмотрел в клубе на закрытой военной территории, куда мы частенько проникали вопреки всем заборам и службам. В фильме об обороне Севастополя матрос бросается с гранатами под танк с песней о Варяге. События пронзительные! Да, и по радио часто можно было услышать:
«Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый Варяг,
Пощады никто не желает.
Прощайте, товарищи! С Богом! Ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами…»
Ну, а кино занимало в мальчишеской жизни особое место. С ровесниками и старшими ребятами я проникал в клуб, естественно без билетов, через какие-то «дырки» и подпольные ходы, где-то даже за огромными полотнищами экранов. Когда начинался сеанс, мы потихонечку проскальзывали в зал и усаживались на пол перед первым рядом. Экран был близко, и, казалось, прямо над головой – огромные вытянутые фигуры и лица, искаженные картины событий, оглушающий звук из больших черных ящиков громкоговорителей с обеих сторон экрана. Это было не очень здорово, но приходилось терпеть, ведь зрелище было завораживающим и страшно интересным. А еще, были страхи, что «контролеры» заметят кого-то из «зайцев» и выведут из зала.
Бывали другие случаи: где-то посреди сеанса рвалась лента, на экране мелькал разрыв, из громкоговорителей неслось короткое завывание, в зале загорался свет, раздавались свистки недовольных зрителей, и тишина – на пару минут. Если пауза затягивалась, раздавались свистки, чем дольше, тем больше, потом топот ног, крики: «Сапожник!», и нечто похожее. В конце концов, гас свет, и сеанс продолжался. При этом никакие неудобства не могли помешать следить за событиями на экране, симпатичными героями, слушать красивую музыку и песни.
А какие мы смотрели фильмы!
«Александр Пархоменко», «Новые похождения Швейка», «Иван Никулин – русский матрос», «Георгий Саакадзе» и уже упомянутый «Малахов курган». А как можно забыть фильм «Семеро смелых», с песней:
«Лейся песня, на просторе,
Не скучай, не плач жена,
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна,
Буря, ветер, ураганы,
Ты не страшен, океан,
Молодые капитаны
Поведут наш караван…»
Интересно, что после песни и самого фильма я решил поменять свою будущую профессию шофера (Горхоновские мечты) на профессию летчика или моряка. Но, поскольку будущим летчиком объявлял себя брат Андрей, пришлось мне «определиться» и заявить, что я обязательно стану моряком. Если б знать насколько мы оба в будущем были близки к своим детским желаниям – обещаниями.
Ну, а кино: еще запомнилась песня из фильма «Александр Пархоменко»:
«Ты ждешь Лизавета от друга привета,
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Одержим победу, к тебе я приеду
На горячем боевом коне…»
Вот из «Швейка» помнится только: «Сосиски с капустой я очень люблю…»
Под самый Новый год в Новосибирске устраивалось особенное зрелище: центральная площадь города перед театром Оперы и балета становилась огромной сценой. На ней устанавливали высоченную елку, украшенную яркими флажками и невообразимыми игрушками. А вокруг, устраивались огромные ледяные фигуры – большие и прозрачные, переливающиеся различными оттенками цвета, сказочные герои. На них приходилось смотреть снизу-вверх, задирая голову, и стараясь держать рот закрытым.
Такова была моя жизнь, и мне уже почти 5 лет.
Могу представить себе того «мужичка-здоровячка» в плотно натянутой на голову шапке с завязанными под подбородком «ушами», с поднятым воротником пальто, снаружи которого опять-таки туго, завязан шарф (все это не позволяло голову повернуть), да еще на руках варежки, на ногах валенки. Так мама снаряжала меня на улицу.
А приходил я домой с раскрасневшейся физиономией и в совершенно расхристанном виде. Шапка-ушанка сидела на самой макушке, ее подмерзшие шнурки-завязки развязанные висели ледышками и при движении больно стегали по лицу; пальто было распахнуто и без пуговиц; на голой шее болтался мокрый шарф; штаны наполовину спущены; одна мокрая варежка на руке, другая, заледеневшая, болтается на резинке из рукава; и даже валенки промерзли насквозь. Мне было мокро и холодно.
Хорошо, если я был без синяков на физиономии после вполне возможных уличных стычек-драк: сцена – «Пойдем, стыкнемся!» была обыденным явлением в моей мальчишеской жизни, а ввиду своей «упертости», я не мог отказать своим нередким «визави».
Мама к моему виду относилась с пониманием, без долгих слов раздевала, заворачивала в одеяло и прислоняла к горячей печке. Мне было хорошо и покойно.
Зима с трескучими морозами заканчивалась, и начиналась весна с бурным таянием снега и бесконечными ручьями и ручейками среди сугробов и по пробитым ими дорожкам в подтаявшей, и местами заснеженной земле.
В них интересно было пускать бумажные кораблики, которые как самолетики и птички ребята и я научились разными способами складывать из бумаги.
Если самолетики можно было запускать дома или на улице, а птички подвешивать на нитках под абажуром или расставлять на комоде или этажерке, то кораблики пускались в свободное плавание по ручейкам на улице.
И они плыли, подгоняемые струями воды, иногда застревая под отдельными прозрачными ледяными корками, нависающими над свободной водой, ныряющей под них для того, чтобы через пару метров появиться вновь ниже по улице.
Кораблики вытаскивались из-под льдинок и пускались в плавание вновь и вновь, пока не намокали, выходили из строя и становились неинтересными.
Чуть позже, по весне, город на несколько дней заполнял густой и приятный запах лип. Улица, на которой мы жили, имела два ряда лип по обеим сторонам, ближе к одноэтажным домам-избам.
Эти деревья весной привлекали еще и тем, что в их листве водилось множество майских жуков. Они очень красивые – коричневые с бронзовым отливом, и ловить их было занятно. А потом, если жука, а лучше пару, запихнуть в пустой спичечный коробок и поднести к уху, то можно услышать легкий шорох. Охота на жуков продолжалась несколько дней, потом они либо исчезали, либо надоедали.
Наступало лето, и на улицах стояла порой нестерпимая жара; при этом босиком ходить по булыжным мостовым было почти невозможно – пятки горели. У меня были сандалии, но они быстро изнашивались – то рвались застежки, то отваливались подошвы, одна или другая. Вот тогда приходилось терпеть и закалять свои пятки, бегая (не шагая) босиком.
В городе местами сооружались огромные клумбы с цветами. Мне страшно нравились «бархатцы» самых разных расцветок – красивее темно-красные и темно-коричневые, впрочем, и желтые с красным были тоже хороши.
А однажды Андрей с приятелем, Веней Вечерским, устроили развлечение для себя и местной детворы, запустив большого воздушного змея. Змей этот был в виде коробки из тонких деревянных реек, оклеенных папиросной бумагой. Он поднялся высоко – высоко на длинном тонком шнуре, и следить за ним в бездонном небе из-за солнца непросто, но зато радости было немерено.
Настало лето 1945 года. Самым интересным и посещаемым местом для ребят и для меня продолжал оставаться вокзал.
Через Новосибирск с запада на восток сплошным потоком двигались воинские эшелоны. Некоторые из них ненадолго останавливались, и солдаты могли отдохнуть от тряских теплушек и размяться, что они и делали. В разных местах можно было увидеть их большие и маленькие группы; в одних о чем-то увлеченно беседовали, в других играли на гармошках или трофейных аккордеонах, пели песни и слушали.
Запомнился один, очевидно, казак, в кубанке, который демонстрировал свою шашку, сгибая ее дугой чуть ли не в круг.
Мальчишки шныряли повсюду, добывая марки и иностранные бумажные деньги в свои коллекции, которые были тогда почти в каждом доме.
Кипела привокзальная жизнь. Людей было множество и в нем выделялись очереди с чайниками, котелками или бидонами за кипятком: краны с холодной и горячей водой торчали из стенки бойлерной здесь же на перроне.
Из вокзальных громкоговорителей постоянно звучала музыка. Чаще всего, я помню, звучала одна из моих любимых:
«С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои…»
От дома до станции было всего два квартала, так что я мог туда бегать за новыми впечатлениями постоянно. Конечно, втайне от мамы, которая могла и наказать, но как-то все до определенного момента мне сходило с рук.
Казалось, ничто не может изменить этого мира детства с его большими радостями и мелкими неприятностями и болячками.
Счастливая пора – здоровое тело и безмятежность духа.
И все-таки, фортуна взбрыкнула по отношению ко мне и, через меня, к моим родным. Случай привел меня в больницу всерьез и надолго.
А началось все во время очередного моего вояжа на вокзал.
И что сподобило поднять с земли, просыпанные мной из кармана семечки.
Очень жаль, что мне в этот момент никто не врезал по шее, когда я засовывал их в рот. Но, …дело было сделано, и это был тот случай, когда уже гораздо позже хотелось кусать локти. А я уже заболел, и «болячка» была серьезная – брюшной тиф.
Дальше было так, как положено при таких болячках: больница, койка, бесконечные уколы сначала в одну ягодицу, когда на ней не было «живого места» и было больно, в другую и обратно.
Помогло мое здоровье, полученное от папы и мамы – через пару недель я уже гулял по огромной, с десятком коек, палате, в которой было много ребят, но больных и неинтересных.
И я чаще бегал к окну, за которым была жизнь интересная: этажом ниже, в небольшом садике больницы росли кусты, и появилась первая зеленая трава, серый кот гонялся за птицами, за металлическим забором улица с взрослыми пешеходами и вечно, что-то орущими ватагами ребят. Разве это неинтересно, особенно кот?! Жизнь кипит, а я тут, привязан к койке.
И все-таки дело шло на поправку, если бы не эти мои пробежки-прогулки по холоднющему полу, да еще босиком. Начались осложнения после тифа, и меня хватили другие «болячки», и тоже серьезные.