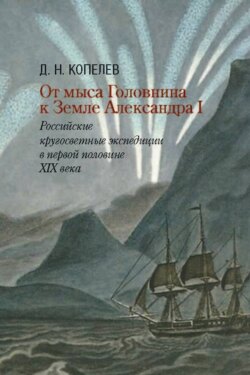Читать книгу От мыса Головнина к Земле Александра I. Российские кругосветные экспедиции в первой половине XIX века - Дмитрий Копелев - Страница 4
Глава первая. В поисках единого мира. Кругосветные экспедиции: от «Долгого XVI века» к эпохе Просвещения
Освоение и раздел океана
ОглавлениеФеномен кругосветных плаваний невозможно объяснить, не приняв во внимание специфику той эпохи, в которую они начались. Европа переживала переломный период, который нидерландский историк Йохан Хёйзинга поэтично назвал «осенью Средневековья», на историческую арену выходило Новое время. В его недрах вызревала эра модернизации, отмеченная драматическими потрясениями, разрушением традиционных представлений о мире и выдающимися свершениями человеческого духа. Гуманизм, Ренессанс и Реформация открыли неисчерпаемые богатства внутреннего мира человека и были ознаменованы рождением новой науки, утвердившей всемогущество познания. Одновременно происходило становление европейского политического порядка, проникнутого «духом законов», разрабатывались концепции современного государственного устройства, Европа открывала и завоевывала американский и азиатский миры.
Постепенно интеллектуальная элита европейского общества приходила к осознанию того, что в центре динамично меняющегося мира и процессов преобразования стоит человек. В 1770 г. французский философ маркиз де Кондорсе впервые использовал понятие «модернизация»: понимая его как стремление к прогрессу, он выдвинул идею о способности современных людей с помощью науки направлять изменение общества. В основу этого мироощущения лег постулат рационализма: если человек сумел проникнуть в законы мироздания, значит, ему доверено управлять этим миром, исправлять его недостатки и совершенствовать Божий замысел.
На пороге Нового времени подобный подход только пробивал себе дорогу. Цикличная модель средневекового представления об устройстве мира во многом исходила из календарного природного круговорота: зима, весна, лето, осень – все неизменно и предначертано, ибо таков фундаментальный закон мироздания, и никаких перемен ждать не приходится.
Но сейчас в этот мерный круговорот вторглись стремительные и динамичные процессы политического объединения европейских стран, все забурлило и пришло в движение. Новое возникало в сложнейшем конгломерате цивилизационных, ресурсных, демографических, экономических, социальных, идеологических, политических и технологических факторов. На смену казавшимся незыблемыми традиционным ценностям, устоявшимся социальным иерархиям приходило новое миропонимание, связанное с осознанием прогресса. Человек устремился постигать и совершенствовать окружающий мир.
Мир вступал в эпоху, которую, если следовать терминологии Ф. Броделя, окрестили «долгим XVI веком», подразумевая под ним пятнадцатое, шестнадцатое и первую половину семнадцатого столетий[15]. В те времена располагавшаяся на северо-западной окраине Евразийского континента Европа оставалась не более чем региональным понятием: небольшие более или менее суверенные территориальные анклавы с размытой структурой управления, туманными границами, несбалансированными механизмами финансового регулирования и слабыми наемными армиями. На мировом геополитическом пространстве тон задавали могущественные империи Востока – Китай, Персия, Индия и Османская империя с их неисчерпаемыми людскими ресурсами, огромными сырьевыми запасами, военной мощью и отлаженными за многие века механизмами подчинения и управления.
Однако постепенно эти «сверхдержавы» начинали уступать ведущие позиции. Казалось бы, сложившаяся на Востоке модель деспотической центральной власти должна была консолидировать историческое пространство для бюрократически регламентируемого экономического роста, но в действительности вместо ускоренного развития эти империи получили подавление низовой инициативы и стагнацию. Широкие возможности для административного вмешательства в экономические процессы, отсутствие правовых гарантий собственности, национальная и религиозная рознь, интриги и подковерная борьба между военными, религиозными и бюрократическими элитами и коррупция государственного аппарата, порой доходившая до прямого вымогательства, стали ключевыми факторами, определившими инерционность Востока. Именно они сыграли решающую роль в блокировке заморской экспансии Китая в эпоху династии Мин, хотя Китай обладал для этого несоизмеримо большими ресурсами, нежели, например, крошечные Нидерланды или бедные, только что вышедшие из кровопролитных религиозных войн Испанское и Португальское королевства. При императоре Чжу Ди (1402–1424), когда китайская экспансионистская политика достигла своего апогея, адмирал Чжэн Хэ предпринял семь экспедиций в Индию, на Суматру, в Персидский залив и Восточную Африку. Его армады, на борту которых находилось более 35 тысяч солдат, составляли гигантские джонки, по сравнению с которыми европейские корабли выглядели жалкими скорлупками. Экспедиции Чжэн Хэ не только преследовали дипломатические и торговые цели, но и должны были всячески способствовать распространению конфуцианской идеологии, а также укреплять престиж правящей династии. Однако в середине XV в. в империи возобладали изоляционистские тенденции: огромные естественные ресурсы и человеческий потенциал позволяли Китаю не зависеть от превратностей внешней торговли. Правящая бюрократия, воспитанная в духе конфуцианских традиций, могла спокойно обогащаться и без рискованных инноваций и дорогостоящих военных экспедиций. Вскоре строительство кораблей прекратилось, частную торговлю запретили, а документацию о заморских плаваниях уничтожили.
Другая геополитическая ось мира, победоносная Османская империя, державшая под контролем торговые пути из Китая и Индии в Европу, оказалась втянутой в бесконечные войны: сначала с государством Тимуридов, а затем с могущественной Персией, переживавшей звездный час. Присущие туркам-османам формы экспансии – захват уже обжитых территорий и подчинение империи местных жителей – не претерпели кардинальных изменений. Новые, неизведанные и неосвоенные земли Стамбул по-прежнему не привлекали.
К началу XVIII в. на первые позиции в мире вышла Западная Европа, создававшая империи далеко за пределами своего континента и решительно «присваивавшая» себе право на глобальное доминирование в политике, мировой науке и культуре[16]. Бывшая периферия превратилась в центр развивающегося капитализма с его беспощадной конкуренцией, глобальным размахом коммерческих и финансовых операций и неудержимым стремлением к захвату новых рынков и овладению новыми технологиями. Со всего мира сюда направлялись все возрастающие торговые потоки, росли города, хлынувшее из Америки и Азии золото и серебро привели к колоссальному росту денежной массы и гибели привычной модели торгового обмена. Власть, тесно связанная с миром предпринимательства и науки, целенаправленно использовалась для обеспечения наиболее перспективных и выгодных условий для вложения капитала.
Огромную роль в успехе экспансии сыграла качественно новая типологическая модель современного государства со свойственными ему технологическими, институциональными и политическими функциями. Представления о государстве как о власти, данной Богом и имеющей религиозную основу, становились достоянием прошлого. На смену им пришло осознание светской природы власти – новое обоснование государства как светского института приобрело рационалистический характер, а формальный источник государственной власти переместился от монарха и церкви к абстрактному народу и нации. Недавно разрозненные подданные – дворяне, финансисты, купцы, крестьяне и солдаты – обретали некую «органическую солидарность», заменявшую традиционное послушание авторитетам церкви и монархии. Западноевропейские образцы рационалистического мышления рассматривали государство как институт, созданный посредством соглашения людей, как идеальную по замыслу социальную модель, с помощью которой можно изменить природу человека. Ключевым звеном в формировавшемся порядке стала система рациональной бюрократии, способная организовать управление обществом и поставить его под свой контроль. Опираясь на организационную силу финансовых и промышленных кланов, эта эффективная управленческая модель провела бюрократическую и военную революции, сформировав координированный костяк будущего всемирного господства: профессиональные армию и флот, органы центрального управления со штатом чиновников, промышленный комплекс с заводами, верфями, арсеналами и научными институтами. При помощи этих механизмов и в условиях жесточайшей международной конкуренции западноевропейские военно-морские державы приступили к глобальному завоеванию мира, используя в качестве инструмента продвижения своих многообразных интересов кругосветные плавания[17].
Первый период кругосветных экспедиций (1520–1570-e гг.), во время которого произошло плавание Фернана Магеллана, охватывал достаточно продолжительный временной отрезок, в течение которого формировалась новая геополитическая картина мира. В центре ее лежала монополия пиренейских держав на контроль над Мировым океаном – именно она сделала возможной саму идею плаваний вокруг света и построение их потенциальных маршрутов. Второй этап (1577–1744), во время которого произошло семь кругосветных плаваний, совпал с эпохой войны за передел двухполюсного мира и характеризовался появлением на мировой арене молодых военно-морских держав и формированием новых заморских империй: Британской, Французской и Нидерландской. Внутри этого этапа выделяются две фазы: начальная (1577–1623) и, после шестидесятилетней паузы, вторая фаза (1683–1744). На третьем этапе эра Тордесильясских соглашений уходит в прошлое. На смену двухполюсному миру приходит новый геополитический порядок, определяемый ожесточенным колониальным противостоянием Великобритании, Франции и Нидерландов, на фоне которого происходит медленное угасание испанской колониальной мощи и стремительный взлет Российской империи. Под воздействием идей Просвещения изменяется природа кругосветных плаваний, которые превращаются в инструмент научного познания мира. Никто, разумеется, специально не планировал и не проектировал такую модель научных исследований, хотя иногда ее компоненты продумывались, прогнозировались. Чаще же они скорее предугадывались, появлялись спонтанно и получали импульсы к дальнейшему изменению, рождались из причудливых комбинаций и переплетений многообразных геополитических, технологических, экономических, идеологических и культурных факторов, определявших цивилизационное развитие Европы.
15
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Т. 1–3 / пер. с франц. Л.Е. Куббеля. М., 1986–1992; Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени / пер. с англ. А. Смирнова и Н. Эдельман. М., 2007; Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990–1992 гг. / пер. с англ. Т.Б. Менской. М., 2009; Валлерстайн И. Мир-система модерна. Т. I–IV / предисл. Г.М. Дерлугьяна; пер. с англ., литер. ред., коммент. Н. Проценко, А. Черняева. М., 2015–2016.
16
Гуди Д. Похищение истории / пер. с англ. О.В. Когтевой. М., 2015.
17
Бейкер Дж. История географических открытий и исследований / пер. с англ. под ред. и с пред. И.П. Магидовича. М., 1950; Chaunu P. Conquête et exploitation des Nouveaux mondes (XVI-e siècle). Paris, 1969; Morison S.E. The European discovery of America: the northern voyages, A.D. 500–1600. New York, 1971; Morison S.E. The European discovery of America: the southern voyages, 1492–1616. New York, 1974; Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. Т. 1–5. М., 1982–1986; Ланге П.В. Горизонты Южного моря: История морских открытий в Океании / пер. с нем.; посл. В.И. Войтова. М., 1987; Pagden A. Lords of all the world: ideologies of empire in Spain, Britain and France, c. 1500-c. 1800. New Haven, 1995; Armitage D. The ideological origins of the British empire. Cambridge, 2000.