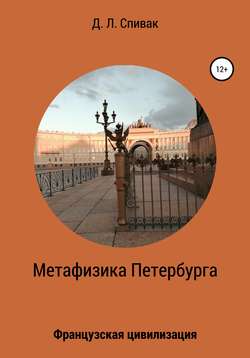Читать книгу Метафизика Петербурга: Французская цивилизация - Дмитрий Леонидович Спивак - Страница 10
Глава I. От Людовика I – до Людовика XIV
Городская цивилизация от Парижа до Новгорода
ОглавлениеОсновой психологического строя новгородцев XIII-XV столетий было ощущение себя гражданами сильного государственного образования, внутренняя организация которого включала существенные элементы народовластия («вечевой демократии»), внешние сношения с европейскими странами и союзами (в первую очередь Ганзой), были взаимовыгодными (в принципе же – и равноправными), а территория охватывала необъятные и богатые земли русского севера. В их число входили и приневские земли, включавшиеся в ту эпоху в состав так называемой Водской пятины.
Определив вслед за А.В.Арцыховским государственный строй Новгородской Руси как «особый тип феодальной республики», отечественные, равно как и зарубежные историки неизменно подчеркивают, что образцом для ряда характерных новгородских нововведений послужило так называемое Магдебургское право, которым пользовались многие города сопредельных стран, и самый дух западноевропейских городов того времени в целом. Между тем, Франция принадлежала к числу стран, где западноевропейская городская цивилизация зародилась, окрепла и, несмотря на постоянное сопротивление феодальной знати, породила ее могильщика (буржуазию) и победила по всем статьям.
Многие частности этого процесса еще подлежат уточнению. У старых историков была склонность сводить все к преобладанию либо романского, либо германского элемента. В первом случае, городская цивилизация виделась как продолжение традиции античного, в первую очередь – древнеримского города и шла, соответственно, с юга. Во втором, европейский город вырастал из германского укрепления (бурга) и, соответственно, городская цивилизация продвигалась с севера.
Даже не будучи знакомыми с литературными первоисточниками, мы могли бы предположить, что первая теория была выдвинута в кругу французских ученых, вторая – скорее всего, германских. Как ни странно, мы совсем не ошиблись бы. Кроме того, на территории Франции, где германские племена франков сперва покорили местное галло-римское население, а потом и слились с ним, можно бы было сразу предположить своеобразное наложение обеих волн – «северной» и «южной», что также находит себе подтверждение в историческом материале64.
Вспомнив все эти хрестоматийно известные сведения, нам оставалось бы обратиться к свидетельствам о непосредственных контактах представителей французских городов с новгородцами и очертить случаи плодотворных влияний. Пойдя этим путем, мы, к сожалению, остались бы внакладе. Следует оговориться, что отдаленные влияния, вне всякого сомнения, имели место – однако они были, как правило, опосредованными, притом чаще всего запоздалыми, либо же искаженными. Эта закономерность представляется нам определяющей для всей совокупности новгородско-французских культурных контактов.
Действительно, ведем ли мы речь о западноевропейской городской цивилизации – наибольшее значение для Новгорода играет знакомство с организацией самоуправления и всем духом ближайших, а иногда и более отдаленных немецких городов соседней Ливонии или Ганзы65. Заговорим ли об обмене товарами, будь то французские вина или новгородские меха – опять-таки между обеими странами встает мощный посредник в лице Ганзы.
Обратим ли внимание на перенос в Новгород форм западноевропейской готики – ее образцом может служить хотя бы так называемая Евфимиева часозвоня, поставленная в первой половине XV века, уже на излете новгородской независимости, в самом центре великого города, на территории новгородского кремля – опять-таки видим66 ее запоздалый образец, перенесенный к нам рукой крепкого, однако не самого образованного и смелого в художественном отношении, скорее провинциального немецкого мастера. Напомним, что готический стиль был в основных чертах выработан в XIII веке на территории северной Франции, в силу чего еще долго носил образное наименование «французского стиля».
Одним словом, куда ни кинь – всюду одни опосредованные, косвенные воздействия. Тем большую ценность для потомства представляют редкие случаи непосредственных контактов новгородцев с выходцами из французских земель. К числу таковых принадлежал визит рыцаря Гильбера де Ланноа, которому довелось посетить Новгород Великий на излете его независимости – а именно, зимой 1413 года.
Французский – точнее, бургундский – рыцарь де Ланноа по складу своей личности был типичным членом великого движения крестоносцев, которое долгие годы одушевляло духовную жизнь Западной Европы. Он был набожен и отважен, воинствен и скромен, любознателен и предприимчив. Частично по поручениям своих покровителей – а впрочем, и для удовлетворения собственного любопытства – рыцарь Гильбер объехал немало стран, от Шотландии до Палестины. В Ливонию он прибыл в связи с намечавшимся походом на польские земли, в котором ему не терпелось принять участие.
Пока местные рыцари медлили с выступлением, бургундец решил не терять времени даром и съездить за русскую границу, благо до Новгорода и Пскова было рукой подать. Запасшись рекомендательным письмом от магистра Ливонского ордена, он выехал на север, минул Нарву, там повернул на юго-восток и по прошествии нескольких дней благополучно прибыл в Новгород. Местные власти оказали ему самый теплый прием и ознакомили как с образом правления, так и с обычаями столицы своей земли.
Вскоре отбыв восвояси, смелый бургундец отнюдь не забыл виденного. Более того, на основании своих воспоминаний и записок он составил беглый, но удивительно емкий отчет о пребывании в Новгороде и Пскове, который вошел в состав его написанных на старофранцузском языке записок, получивших заглавие «Путешествия и посольства». Опубликованные посмертно, они привлекли интерес западной, в первую очередь французской читающей публики и, в частности, представили собой едва ли не «первые известные нам зарисовки Руси, выполненные западноевропейцем»67.
Намеченная скупыми штрихами, но оттого еще более интригующая картина огромного восточного города, расположенного «…в окружении огромных лесов, в низине, среди вод и болот», перерезанного надвое широкой рекой и изобиловавшего всеми богатствами и чудесами востока, поразила воображение современников – а кстати, и предвосхитила первые описания Петербурга, выполненные заезжими французскими путешественниками через три сотни лет.
Мы же отметим, что термину «Великая Русь» или «Великороссия»68, попавшему в текст Г. Де Ланноа скорее всего под влиянием речи его высокопоставленных новгородских собеседников, суждена была долгая жизнь в западной геополитике. Точнее сказать, в употреблении этого термина у Ланноа не было полной определенности. В одном варианте текста его воспоминаний, таковой прилагался лишь к новгородским землям, в другом же он распространялся на владения «короля Московского».
Тем более обоснованным представляется вывод современных историков ранних русско-французских контактов, которые рассматривают его на правах не столько географического определения, сколько «геополитической деноминации»69.
64
К сказанному нужно добавить, что круг теорий, объясняющих возникновение такого уникального феномена, как западный город, на деле гораздо шире, а перечень факторов, оказавших влияние на его возникновение и рост, постоянно пополняется.
65
Нужно отметить, что оба влияния могли и пересекаться, в силу того факта, что некоторые крупные ливонские города принадлежали одновременно также к Ганзейскому торговому союзу.
66
Точнее, могли видеть – первоначальная башня обрушилась спустя двести лет после возведения, и была позже воссоздана с известными отклонениями от оригинала.
67
Кудрявцев О. Великая Русь рыцаря де Ланноа. Первое западное описание Руси // Родина, 2003, №12, с.77 (цитаты из мемуаров рыцаря, приведенные далее в тексте настоящего раздела, сделаны по тексту указанной публикации).
68
Возможны оба приведенных варианта перевода (в тексте Гильбера де Ланноа стоит “la grant Russie”).
69
Кудрявцев О. Великая Русь рыцаря де Ланноа. Первое западное описание Руси // Родина, 2003, №12, с.76-77.