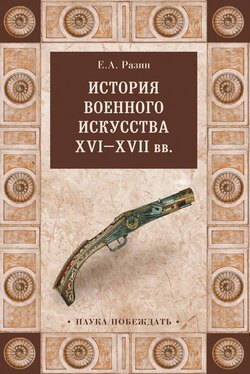Читать книгу История военного искусства XVI—XVII вв - Е. А. Разин - Страница 6
Введение
4. Некоторые вопросы историографии и источниковедения первого этапа мануфактурного периода войны
ОглавлениеК Маркс, Ф Энгельс и В.И. Ленин самым важным в научном исследовании войн и военного искусства считали выявление материальной и классовой основ таковых. Эти основы, как правило, затушевываются идеологами эксплуататорских классов. В прямой зависимости от этих основ находится характер войн, определяющий степень участия вооруженных масс в создании стратегических, тактических и организационных форм вооруженной борьбы.
В военную науку наиболее ценный вклад вносят прогрессивные, особенно революционные, войны, ведущиеся прогрессивными классами или массой всего народа. В XVII в. таковыми были войны буржуазных революций, крестьянские антифеодальные войны и прогрессивные войны за независимость сложившихся национальных государств. Буржуазные историки недооценивают организационный и боевой опыт этих войн, не выявляют роль народных и войсковых масс в развитии военного искусства, сводят все творчество в военной области к деятельности полководцев.
Классики марксизма-ленинизма прежде всего устанавливают связь войн XVII в. с политикой, с борьбой определенных классов, подчеркивая преобладание антифеодальных войн и рост количества колониальных войн молодой европейской буржуазии, стремившейся умножать свои богатства путем грабительских вооруженных экспедиций, снаряжаемых во все части света. В трудах К Маркса, Ф Энгельса и В.И. Ленина имеются определения характера всех наиболее крупных войн первого этапа мануфактурного периода войны. На этой научной основе выявляются действительные движущие силы каждой войны в отдельности, а следовательно, и источники творческой деятельности в военной области. Чрезвычайно важное значение имеют оценки К Марксом характера и движущих сил нидерландской и английской буржуазных революций.
Ф Энгельс в своих военных статьях («Армия», «Пехота», «Кавалерия», «Артиллерия») также значительное внимание уделил развитию военного искусства в войнах нидерландской и английской буржуазных революций и в Тридцатилетней войне XVII в. Он показал особенности организации родов войск, их тактику в XVII в. и материальные основы происходивших в это время изменений в военном деле в целом. В статьях Ф Энгельса выявлена роль в развитии военного искусства наиболее крупных полководцев и военачальников – Морица Оранского, Кромвеля, Густава Адольфа. Работы Ф Энгельса указывают основные направления исследования военного искусства XVII в.
Вопросы политического содержания войн и материальные основы развития военного искусства в XVII в. рассматривает в ряде своих трудов Ф Меринг. Войну нидерландской буржуазной революции с точки зрения исторического развития он называет важнейшей и вскрывает экономические и теоретические предпосылки военных реформ, разработанных и осуществлявшихся принцами Оранскими на рубеже XVII в. Реформы превратили Нидерланды «в высшую школу военного искусства». Однако центром тяжести буржуазной республики являлось морское могущество, и Нидерланды в то время превращались в первоклассную морскую державу. В связи с этим Ф Меринг голландскую военную реформу называет «теоретическим образцом», который ревностно изучали европейские военачальники. К утверждению Меринга следует добавить, что военную теорию и боевую практику нидерландской революции в начале XVII в. тщательно изучали русские военные теоретики и военачальники, используя обобщенные выводы для обучения своих войск.
Следующим за нидерландской революцией этапом в развитии военного искусства Ф Меринг считает Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг. и называет ее «ужасной катастрофой» для Германии, что, как правило, отрицают буржуазные историки. Очень важное значение имеют его марксистские оценки трех полководцев этой войны – Тилли, Густава Адольфа и Валленштейна, являвшихся орудием в руках определенных господствовавших классов, боровшихся за гегемонию в Европе.
Исторический материализм Ф Меринг называет руководящей нитью военно-исторического исследования. Он подтверждает марксистское положение о том, что вся история войн может быть только тогда правильно понята, когда она сведена к ее экономическим основам. «Если же считать движущей силой большую или меньшую “гениальность” полководцев, войны превращаются в исторический роман»[25].
Основой военно-исторического исследования вопросов развития вооруженной организации и военного искусства мануфактурного периода войны являются марксистские источники.
* * *
На развитие военно-теоретической и военно-исторической мысли XVII в. оказывали влияние господствовавшие в то время исторически прогрессивные мировоззрение и метод научного исследования.
В период феодальной анархии (Средневековье) безраздельно господствовала метафизика, представлявшая собой основу теологии (учение о боге, богословие)[26]. В XVII в. против теологии и метафизики идеологи буржуазии выдвинули атеистическое и материалистическое мировоззрение, расчищавшее путь науке.
Материализм (антиметафизическое, антитеологическое мировоззрение) К Маркс и Ф Энгельс назвали «прирожденным сыном Великобритании». Родоначальником английского материализма XVII в. был Бэкон (1561–1626 гг.), провозгласивший истинной наукой естествознание, а физику – важнейшей составной ее частью. Английский философ Гоббс (1588–1679 гг.) систематизировал бэконовский материализм и физическое движение материи принес в жертву механическому или математическому движению, на основе чего геометрия провозглашалась главной наукой. Английские материалисты XVII в. рассматривали явления природы как арифметическую сумму механического движения, т. е. исключительно с количественной стороны, игнорируя качественное различие. Это был механический материализм, оказавший большое влияние на буржуазную военную науку.
Метафизика не уступала своих позиций без борьбы. Она имела своих крупных представителей в лице Декарта, Мальбранша, Спинозы, Лейбница (философы XVII в. Франции, Голландии, Германии).
Однако материалистическое мировоззрение нанесло смертельный удар теологии, что позволило буржуазным идеологам против теории божественного происхождения государства и власти выдвинуть теорию «естественного права», «естественные» законы природы, являющиеся основой государственного устройства. Эти «естественные» законы представляли собой не что иное, как потребности растущей буржуазии, которая уже располагала экономическим могуществом и стремилась к завоеванию политической власти.
Следует учесть двойственный характер буржуазной идеологии не только в аспекте исторического развития, но и на каждом конкретном этапе такового, по крайней мере в тенденции, превращающейся в действительность в процессе общественного развития. Так, например, прогрессивная политика буржуазии превращается в реакционную, буржуазно-революционные войны – в империалистические, да и буржуазия, достигнув политической власти, превращается в реакционный класс, подавляющий освободительное движение трудящихся масс как в метрополии, так и в колониях.
Мировоззрению буржуазных идеологов XVII в. также свойственна двойственность: в вопросах познания природы они были материалистами (хотя и ограниченными – механическими), но в объяснении общественных явлений они исходили из идеалистического мировоззрения. Так, например, Гоббс гражданскую войну объявил корнем всех зол, происходящих от незнания гражданских обязанностей (научной философии). Вождей революции он называл проходимцами, действовавшими по причине честолюбия или своего расстроенного состояния. Следовательно, английский философ общественные явления объяснял субъективными причинами, а не объективными законами, идеалистически, а не материалистически.
Идеологи буржуазии не понимали связи исторических явлений. В их трудах «…история, в лучшем случае, являлась не более, как готовым к услугам философа сборником иллюстраций и примеров»[27].
Все эти особенности мировоззрения буржуазных идеологов сказывались на развитии естествознания и общественных наук, непосредственное влияние которых можно наблюдать и в военной науке.
В XVII в. по-новому встал вопрос о содержании науки и методах научного исследования. Буржуазные идеологи главной целью науки считали изучение природы и технические изобретения, выражавшие потребности развивавшегося производства. В связи с этим центральной проблемой становился метод изучения явлений природы[28].
Теология является врагом науки, и ее догматический, авторитарный метод в своей основе порочен[29]. Поэтому философы XVII в. авторитарному методу противопоставили опытное познание, провозгласили всемогущество разума и требовали неограниченных прав свободного исследования. «Наука (согласно утверждениям английского философа Бэкона. – Е.Р.) есть опытная наука и состоит в применении рационального метода к чувственным данным. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, эксперимент суть главные условия рационального метода»[30].
В философии Бэкона опытное и рациональное (разумное) познания рассматриваются в единстве. Опыт дает факты, разум их классифицирует и анализирует. Затем вследствие одностороннего исследования философами проблемы метода опытное и рациональное познания были разорваны, возникли два направления в теории познания – эмпиризм и рационализм. Эмпиризм в основу познания кладет опыт, который можно понимать материалистически (Бэкон, Гоббс, французские материалисты) и идеалистически (Беркли, Юм). Рационализм единственным источником познания считает разум, так как чувства якобы обманывают нас (философы-рационалисты – Декарт, Спиноза, Лейбниц).
В военной науке XVII в. опытное и рациональное познания применялись в единстве: собирались фактические данные организационной и боевой практики, систематизировались, обобщались и делались теоретические выводы, многие из которых проверялись на практике, т. е. в ходе военных действий. На метод военно-научного исследования значительное влияние оказали философские взгляды Бэкона.
Ф Энгельс в «Анти-Дюринге» показал, что в естествознании и философии XVII в. господствовал метафизический способ мышления, являвшийся прямой противоположностью наивного стихийно-диалектического взгляда на мир греческих философов.
Метафизический способ мышления возник в естествознании и был перенесен Бэконом и Локком в философию. Этот способ заключается в классификации явлений, в разложении каждого из них на составные части и в изолированном изучении каждой такой части вне их общей связи, вследствие чего исчезает представление о целом. Метафизик изучает явления не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменяющиеся, а как вечно неизменные, не живые, а мертвые.
«Для метафизика вещи и их мысленные отражения, т. е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого»[31]. При таком способе мышления положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, причина и следствие совершенно противоположны друг другу, хотя на самом деле они постоянно меняются местами.
Метафизик за деревьями не видит леса, т. е. из-за деталей, частностей упускает из виду общее, целое, которое представляет себе лишь в виде суммы отдельных явлений, предметов; за предметами он не видит их взаимной связи, за бытием – возникновения и исчезновения, за покоем – движения.
XVII в. – это метафизический период в развитии науки, так как в то время преобладал метафизический способ мышления, который господствовал и в военной науке, оказав, в частности, влияние на развитие военно-теоретической мысли и военно-исторических исследований.
Военные теоретики рабовладельческого и феодального периодов войны рассматривали военную деятельность в целом, главным содержанием которой считали создание армии и флота и построение их для боя. На первом этапе мануфактурного периода изучались преимущественно отдельные явления войны, которые изолировались одно от другого, вследствие чего разрушалось целое и исчезали связи между ними, в частности, военные теоретики и практики упускали из виду связь стратегии и тактики. Военные историки детально описывали отдельные сражения, вырывая их из общего хода войны, что не позволяло вскрывать действительные причины побед и поражений. Однако изучение деталей военной деятельности сыграло прогрессивную роль. Это был процесс становления военной науки.
* * *
На процесс становления военной науки в XVII в., в частности на развитие военно-теоретической мысли и военной истории, оказала большое влияние буржуазная историография.
Задачи буржуазных идеологов прежде всего заключались в том, чтобы освободить историю от подчинения богословской догматике и создать научные основы исторического исследования. Еще в эпоху Возрождения в Италии в исторической науке сложилось гуманистическое направление[32]. Гуманисты изучили достижения античной историографии, подвергли критике религиозно-церковные исторические концепции, начали очищать историю от вымыслов, легенд и фальсификаций, требовали изучения реальных фактов и критического отношения к историческим свидетельствам, способствовали расширению исторических источников (начали привлекать данные археологии и вообще памятники материальной культуры), положили начало филологической критике.
Критический метод являлся необходимым условием для становления исторической науки, собиравшей факты и устанавливавшей их достоверность. Дальнейшая задача историков заключалась в объяснении исторических явлений, в установлении их связи между собой и доказательстве закономерности общественного исторического развития. Исследуя эти проблемы, гуманисты заложили основы новой периодизации истории: в их произведениях можно видеть зарождение деления истории на древнюю, среднюю и новую[33]. Эта периодизация всемирной истории была прогрессивной для своего времени.
В гуманистической историографии сложились две исторические школы: политико-риторическая и эрудистская.
Представители политико-риторической школы (Макиавелли, Гвичардини и др.) в историческом развитии общества искали уроки и рецепты политической деятельности, которыми можно воспользоваться в современной обстановке. Политика, по Макиавелли, должна опираться на историю. Чтобы узнать, что должно случиться, достаточно проследить, что было, говорил он. У Макиавелли основным содержанием истории являются политика и война, а движущей силой – сознательная воля основателей государства и законодателей. Это идеалистическая концепция. Одновременно в его трудах можно встретить утверждение, что в основе действий людей лежит материальный «интерес».
Историки эрудистской школы ограничивали задачу исторического исследования установлением подлинности исторических фактов. В XVII в. в связи с упадком политической историографии на первое место выступила эрудистская историческая школа, достигшая наибольших успехов в XVIII в.
В военно-исторической науке влияние этой школы выражалось в стремлении авторов к простому изложению военных событий, без их критического анализа и оценки, без определения их места и роли в ходе войны.
Для развития исторической науки большое значение имело создание научной хронологии, что связано с деятельностью француза Дени Пето (1583–1652 гг.). Главная же заслуга эрудитов заключается в собирании, систематизации и публикации источников. В этом отношений много сделал немецкий философ, математик и историк Лейбниц (1646–1716 гг.).
Историки XVII в. выполнили большую положительную работу по собиранию, систематизации и критике источников истории рабовладельческого и феодального обществ. В отношении исследования общественного развития в XVII в. историческая наука располагает большим количеством письменных источников, обширным документальным материалом в архивах, многочисленными образцами материальной и военной культуры в музеях всех стран.
В XVII в. значительные достижения имела русская историография. Историческая мысль освобождалась от влияния богословия, и внимание историков сосредоточивалось на политических событиях. Возникло и развивалось критическое отношение к историческим источникам и современным событиям. Историки стремились определить степень достоверности источников, отделить правду от вымысла, выявить роль политических и военных деятелей и представить процесс исторического развития русского государства в целом.
Из исторических произведений начала XVII в. следует отметить «Сказание» Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря (Загорск) польскими феодалами в 1608–1609 гг. В «Сказании» автор пытался вскрыть причину «беды во всей России», которой считал «безумное молчание» бояр, не докладывавших царю Борису Годунову о действительном положении в стране.
События крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVII в. довольно подробно освещаются в труде дьяка Ивана Тимофеева «Временник». Автор являлся идеологом приказной верхушки, связанной с родовитым боярством. Причину внутренней политической борьбы (Смуты) он объяснял нарушением общественно-политического союза, существовавшего между подданными и царем. В «Летописной книге» князя Катырева-Ростовского дано описание этих же событий.
Во второй половине XVII в. дьяком Федором Грибоедовым был написан общеисторический труд «История о царях и великих князьях земли Русской», в котором автор свел русскую историю к сумме биографий царствовавших лиц, приняв на веру все известные легенды, в том числе и рассказ о происхождении московских царей от Пруса.
На основе марксистско-ленинской теории историю Русского государства и государств Западной Европы XVII в. разрабатывали советские историки – Удальцов, Грацианский, Косьминский, Архангельский и многие другие. Советская историческая наука прежде всего вскрывает идеологические, классовые основы источников и исследований, что способствует определению степени достоверности исторических событий и установлению правильности их оценки современниками и историками. Исследование экономических основ внутренней и внешней политики правящих классов, изучение борьбы трудящихся масс – все это позволяет правильно определить особенности вооруженной организации XVII в., а также вскрыть характер и движущие силы войн этого периода.
* * *
Для изучения военного искусства первого этапа мануфактурного периода войны мы располагаем значительно большим количеством источников, чем это было при изучении развития военного искусства феодального или цехового периода войны.
Прежде всего надо сказать о материально-технической базе военно-исторического исследования. Эта фаза весьма обширна и включает сосредоточенные в исторических музеях всех стран многочисленные образцы ручного огнестрельного оружия, артиллерии и холодного оружия XVII в., а также образцы обмундирования и снаряжения пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов и саперов. Кроме военных отделов исторических музеев, давно созданы и ведут научную работу специальные музеи, в частности Оружейная палата в Московском Кремле, Артиллерийский музей в Ленинграде, Музей старинного Тульского оружейного завода. Экспонаты музеев систематизированы, разработаны подробные каталоги с описанием хранящихся в них образцов военной культуры. Таким каталогом, например, является труд Бранденбурга «Исторический каталог С.-Петербургского артиллерийского музея», три части, 1877, 1883, 1889 гг.
Важное значение для военного историка имеют сохранившиеся крепости XVII в. (Смоленск, Тула, Псков и др.). Мы располагаем более полными географическими и топографическими данными, что позволяет уточнить многие стратегические и тактические вопросы.
Многочисленные архивы хранят большое количество документов об организации вооруженных сил, о внутренней и внешней политике государств всех частей света, о действиях войск и флотов на театре войны и на поле боя (приказы, распоряжения, донесения, ведомости, карты и схемы). Много документов опубликовано в различных сборниках, которыми широко пользуются военные историки. При обилии исторических материалов личная работа в многочисленных архивах возможна лишь по узкой теме. Сборники экономических, политических и военных документов помогают историкам в разработке различных исторических проблем. Для научно-исследовательской работы очень важное значение имеют изданные ранее и издающиеся в данное время исторические сборники документов «Крестьянская война под предводительством Степана Разина», «Полное собрание законов Российской империи» и др.
К письменным источникам прежде всего относятся описания вооруженной организации и военных событий XVII в. участниками и современниками. Наиболее важные из этих источников: летописи XVII в. Самовидца, Грабенко, Величко, сочинения Маржерета, Боплана. Ценными источниками являются описания войн их участниками.
Мемуарная литература XVII в. очень обширна и разнообразна. Мемуары политических деятелей, полководцев и военачальников помогают уточнять многие политические и военные вопросы. Следует отметить мемуары польского гетмана Жолкевского, дневник голландца Дунка, записки французского полководца Монтекуколи и др.
В XVII в. в связи с организацией постоянных армий разрабатывались и в дальнейшем совершенствовались воинские уставы, регламентировавшие внутренний порядок и воинскую дисциплину в частях и подразделениях, содержание и последовательность обучения войск, а также «другие дела, касающиеся до воинской науки», в том числе организацию походного и боевого порядков и способы ведения боя.
Одним из наиболее ранних уставов, регламентировавших строевое обучение войск, был устав Морица Оранского (Нидерланды). В 1607 и в 1621 гг. в Москве Онисим Михайлов составил «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки». Этот устав был написан на основе многочисленной иностранной военной литературы, использованной автором (итальянской, французской, испанской, голландской, английской, польской и «иных разных господарствах»). В 1649 г. в Москве издан устав «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», представлявший собой перевод австрийского устава середины XVII в.
В связи с организацией военно-учебных заведений для подготовки офицерских кадров для всех родов войск в XVII в. создавались учебники и руководства.
По вопросам военно-инженерного дела издавались труды о деятельности французского инженера Вобана. Появились книги по тактике пехоты и военному искусству в целом. Следует назвать «Военную книгу» Диллиха (1607 г.), «Французское войско» Монгомери (1610 г.), «Принципы военного искусства» и «Наставления по военному делу» Биллона (1613, 1617 гг.), «Военное искусство пехоты» Вальгаузена (1615 г.), «Нидерландское военное обучение» Бокселя (1664 г.). Все это были практические пособия по военному искусству.
Большое значение для развития военного искусства XVII в. имели труды военных теоретиков: Монтекуколи – одного из первых крупных военных теоретиков первого этапа мануфактурного периода войны, Госта и Фёкиера. В трудах XVII в. исследовались преимущественно тактические вопросы и очень редко затрагивались стратегические проблемы.
Создавались труды по истории войн первого этапа мануфактурного периода войны, значительная часть которых носила описательный характер. Главное внимание уделялось изложению содержания распоряжений полководцев. Очень часто описание второстепенных событий, частных и личных эпизодов заслоняло главное в ходе войны или сражения, т. е. то, что фактически решало исход вооруженной борьбы.
Мало написано обстоятельных специальных иностранных военно-исторических исследований вооруженной борьбы с колонизаторами народов Китая, Индии, Америки, Африки, Австралии. Недостаточно занимаются вопросами военной истории этих народов советские военные историки. В отношении военного искусства индейских, африканских, австралийских и других племен XV–XVII вв. следует учесть замечание К Маркса, который писал: «…Дикарь в своей личной хитрости и ловкости проявляет разнообразные элементы всего военного искусства…»[34]
Отдельных трудов по истории военного искусства первого этапа мануфактурного периода войны нет, но в общих работах по военной истории есть разделы, в которых рассматривается состояние военного искусства XVII в. Эти разделы встречаются в трудах авторов XIX–XX вв. по истории родов войск (пехоты, артиллерии, кавалерии, инженерных войск), военной истории (Голицын, Митчелл и др.) и истории военного искусства (Михневич, Гейсман, Дельбрюк и др.). В трудах по истории русского военного искусства (Михневич, Байов) очень мало внимания уделено исследованию состояния русской армии и войнам России XVII в.
Отметим несколько особенностей военно-исторических исследований по вопросам развития военного искусства XVII в., написанных дворянскими и буржуазными идеологами.
Большинство дворянских (Михневич, Гейсман и др.) и буржуазных военных историков сводят историю военного искусства к деятельности полководцев по созданию вооруженных сил и управлению ими на войне и в бою. Такое понимание основ развития военного искусства является идеалистической концепцией, исключающей творчество войсковых масс в военном деле.
Труды некоторых военных историков характеризуются националистическими тенденциями в определении содержания истории военного искусства и роли национальных вооруженных сил в развитии военного дела. Таковы, например, труды Рюстова, Дельбрюка и других немецких военных историков. В этих трудах подчеркнуто игнорируется роль большинства наций в развитии военного искусства в XVII в.
Противоположностью националистической концепции в военно-исторической науке является космополитизм, выражающийся в преклонении перед иностранным военным искусством и в недооценке отечественных достижений в военном деле. Космополитическая антинаучная основа характерна, например, для военно-исторических трудов Михневича, Леера, Свечина и некоторых других.
Наконец, следует отметить схематизм как одну из антинаучных основ военно-исторического исследования. Основоположником схематизма в военной истории можно считать Дельбрюка, который изобрел «двухполюсную стратегию» измора и сокрушения и с точки зрения этой схемы изложил историю военного искусства.
Лиддел Гарт в своем труде «Стратегия непрямых действий», обобщая исторический опыт и отправляясь от односторонне взятых положений Сунь-цзы, Велизария, Шекспира, Наполеона и Клаузевица, рассматривает историю «как практический опыт» и «два вида практического опыта – прямой и непрямой»[35]. Прямой опыт, пишет Лиддел Гарт, по своей природе слишком ограничен, более значительная ценность непрямого опыта заключается в его большом разнообразии и широте. «История стратегии, по существу, является летописью применения и развития метода непрямых действий»[36], который представляет собой, по утверждению Лиддела Гарта, сущность стратегии. С точки зрения применения методов прямых и непрямых действий автор «Стратегии» рассматривает всю историю не только стратегии, но и тактики, в том числе и военное искусство XVII–XVIII вв.
Схематизм Дельбрюка (стратегия сокрушения и измора), Лиддела Гарта (прямые и непрямые действия) и других подобных авторов военно-исторических трудов вынуждает их односторонне подбирать примеры для подтверждения выдуманной схемы. В.И. Ленин говорил, что подобрать примеры не составляет труда, но это не имеет никакого научного значения, даже играет отрицательную роль. Основным требованием всякого исследования является всесторонность, показ взаимосвязи явлений, анализ фактов, их обусловленность.
На подлинно научной основе, на основе марксистско-ленинской теории разрабатывают военную историю первого этапа мануфактурного периода войны советские военные историки, которым чужды схематизм и предвзятость. По истории некоторых войн этого периода изданы солидные монографии, в которых на основе всестороннего изучения, анализа, литературных источников и архивных материалов авторы вскрыли экономические основы и политическое содержание исследуемых войн, выявили их характер и движущие силы, показали некоторые особенности военного искусства. Главное внимание советских историков сосредоточено на исследовании процесса исторического развития вооруженной организации Русского государства и крестьянских войн этого периода. Однако слишком мало отводится места разработке вопросов развития военной организации казаков и их военного искусства.
Прежде всего следует сказать о небольшом по объему, но весьма содержательном труде Чернова «Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII вв.», в котором обстоятельно анализируются первоисточники и литературные труды по данному вопросу. Автор показал развитие вооруженной организации Русского государства в течение трех столетий. В труде недостаточно четко сформулирована сущность основных этапов этого развития, являющегося процессом становления постоянной, а затем и регулярной русской армии. Важному вопросу зарождения регулярства автор правильно уделил значительное внимание.
В отношении содержания и систематизации материалов, критики источников и исследований, а также оценок исторических фактов заслуживает особого внимания труд Смирнова «Восстание Болотникова. 1606–1607 гг.». Автор показал движущие силы крестьянской войны под предводительством Болотникова и обстоятельно изложил ее ход, выявляя особенности стратегии и тактики. Однако материалы о ходе военных действий в данном труде недостаточно систематизированы, а боевые действия не периодизированы. Вопросы военного искусства в крестьянской войне в достаточной степени не обобщены. Большая заслуга автора заключается в том, что его труд вызвал широкую дискуссию, помогающую исследованию истории этой войны, очень важной в развитии военного искусства.
Необходимо отметить труд Новосельского «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в.», в котором автор обстоятельно исследовал политическое и экономическое содержание этой борьбы, собрав и систематизировав большое количество фактических данных. В исследовании хода военных действий, конечно, необходима более четкая их периодизация, выявляющая особенности стратегии и тактики. Источники очень мало сообщают тактических данных, что вообще характерно для того времени.
В «Очерках истории СССР» (XVII в. и первая четверть XVIII в.), а также во «Всемирной истории» (тома III и IV) имеются военно-исторические разделы, в которых говорится о строительстве вооруженных сил и о многих войнах.,
«Всемирная история» дает общее представление о вооруженной организации и войнах крупнейших народов всего мира. Однако четкие характеристики военного устройства, характера и движущих сил важнейших войн в ней, как правило, отсутствуют. Ход же некоторых войн, особенно Великой крестьянской войны в Китае в XVII в., весьма обстоятельно изложен, хотя и здесь четкая формулировка особенностей искусства вооруженного восстания в данной войне также отсутствует.
Авторы «Очерков истории СССР» военным вопросам уделяли большое внимание, особенно крестьянским войнам (Болотникова, Разина) в Русском государстве и борьбе с интервентами XVII в. С исчерпывающей полнотой показаны движущие силы Первой крестьянской войны под предводительством Болотникова, но недостаточно выявлены движущие силы крестьянской войны 1670–1671 гг. под предводительством Разина. Очень обстоятельно показаны военные реформы XVII в. Периодизация хода военного строительства и военных действий, как правило, хронологическая, не вскрывающая внутреннего содержания исторического процесса.
Большой вклад в советскую военно-историческую науку сделал Л.Г. Бескровный, выпустив «Очерки по источниковедению военной истории России» (с древнейших времен до начала XX в. включительно). Этот труд положил начало важной отрасли военной истории и является подготовительной ступенью к созданию военной историографии. Автор не только перечислил военно-исторические источники и труды различных периодов Русского государства, он показал их основное содержание и дал им оценку. Военный историк имеет возможность получить достаточное представление о характере источников по военной истории России. Для такого труда очень важна наиболее полная библиография и указатели, но их нет в данном издании.
В развитии военного искусства значительную роль сыграла вооруженная борьба в ходе нидерландской и английской буржуазных революций, войны которых весьма слабо исследованы советскими военными историками. То же самое можно сказать о Тридцатилетней войне в Европе, о так называемой Войне за испанское наследство и о ряде других войн конца XVI, XVII и начала XVIII вв. Совершенно не исследуется вооруженная борьба народов Азии, Америки, Африки и Австралии с колонизаторами в XV–XVII вв. Эти военные события весьма важны, учитывая различные ступени экономического и политического развития воевавших сторон и разное их техническое оснащение. Односторонняя разработка военной истории затрудняет сравнительный анализ развития вооруженной организации Русского государства и ее военного искусства на первом этапе мануфактурного периода войны. Восполнить этот пробел – одна из задач советских военных историков.
Наконец, следует обратить внимание на тот факт, что исследованием военных вопросов, развития вооруженной организации и военного искусства с древнейших времен до XIX в. включительно, как правило, занимаются гражданские историки. Некоторые советские военные историки, имеющие военное образование, практику командования войсками и боевой опыт, недооценивают так называемую «древность» в военной истории, без научной разработки, всестороннего и глубокого изучения которой нельзя рассчитывать на серьезное обобщение современной боевой практики. Именно поэтому ряд трудов по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. носит описательный характер, что является серьезным их недостатком.
25
Меринг Франц. Очерки по истории войн и военного искусства. М.: Воениздат, 1956. С. 181.
26
Метафизика – учение о субстанции (первооснове, первоначале мира). Философы признавали различные материальные (вода, земля, воздух, огонь, материя) и идеальные (душа, дух, бог) субстанции. В период господства теологии метафизика превратилась в учение о духовной субстанции и представляла собой форму идеализма. Поэтому нельзя отождествлять метафизику, являющуюся идеалистическим мировоззрением, с метафизическим методом мышления. Против средневековой метафизики выступил материализм, против метафизического метода мышления – диалектика. Ф Энгельс в «Анти-Дюринге» говорит о мышлении метафизика, а не о метафизике как идеологическом мировоззрении.
27
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XIV. С. 649.
28
Античные философы пользовались методом наблюдения и описывали общий вид природы – процессы изменений в нем; видели само движение, но не знали того, что движется (материи). Философы эпохи Возрождения разрабатывали проблему – что изучать? Объектом научной деятельности они назвали природу. В XVII в. встал вопрос – как изучать природу?
29
Это был метод средневековой философии (схоластики), заключавшийся в применении догматического, авторитарного способа доказательства абстрактных проблем (доказательство бытия бога, исследование «частной проблемы» – сколько чертей может поместиться на булавочной головке, исследование норм поведения религиозного человека и Т. п.). Догматик оперирует общими понятиями и умозаключениями (силлогизмами), оторванными от практики.
30
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 142.
31
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XV. С. 521.
32
Гуманизм – культурное движение (философское, историческое, литературное), возникшее в Италии в XIV в. и имевшее объективной целью борьбу с феодальной идеологией. Гуманизм распространился в Нидерландах, Германии, Франции и Англии. Он сыграл исторически прогрессивную роль и достиг своего расцвета в XVIII в. (эпоха Просвещения). Наиболее крупные представители гуманизма – Петрарка, Бокаччо, Эразм Роттердамский, Томас Мор и др.
33
Христианско-феодальная периодизация всемирной истории Иеронима-Августина строилась по схеме четырех монархий: Ассиро-Вавилонской, Мидо-Персидской, Греко-Македонской и Римской.
34
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XVII. С. 398.
35
Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. М., 1957. С. 31.
36
Там же. С. 25.