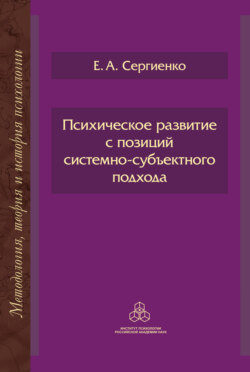Читать книгу Психическое развитие с позиций системно-субъектного подхода - Е. А. Сергиенко - Страница 7
Глава I. Категория субъекта в современной психологии
1.4. О критериях субъектности
ОглавлениеПринципиально важнейшим вопросом психологии субъекта остается вопрос о критериях субъекта.
Определяя субъектность, первоначально А. В. Брушлинский указывал: «Субъект – качественно определенный способ самоорганизации…» (Брушлинский, 1999б, с. 331). Он отмечал, что субъект – это человек на высшем уровне своей активности, целостности (системности), автономности. Он подчеркивает, что субъектом не рождаются, а становятся. Каждая личность является субъектом, но субъект не сводится к личности. С одной стороны, А. В. Брушлинский признает непрерывность развития человека как субъекта деятельности, а с другой, постулирует субъектность как высший уровень активности, целостности, автономности. Данное противоречие нуждалось в разъяснении и разработке, поскольку вопрос о критерии категории субъекта остается открытым.
В одной из последних работ Брушлинский более детально раскрыл проблему критериев в становлении субъекта. Он писал: «Субъектом столь неразрывного, недизъюнктивного единства природного и социального (культуры) становится человек по мере того, как он – будучи еще ребенком, подростком и т. д. – начинает выделять себя (не отделять!) из окружающей действительности и противопоставлять себя ей как объекту действия, познания, созерцания и т. д. Первый существенный критерий становления субъекта – это выделение ребенком в возрасте 1–2 лет в результате предшествующих сенсорных и практических контактов с реальностью наиболее значимых для него людей, предметов, событий и т. д. путем обозначения их простейшими значениями слов. Следующий наиболее важный критерий – это выделение детьми в возрасте 7–10 лет на основе деятельности и общения объектов благодаря их обобщению в форме простейших понятий (числа и т. д.)» (Брушлинский, 2002 с. 12–13). Далее Брушлинский указывает на то, что «Изначальная социальность, включенность в культуру человеческих индивидов на вышеуказанном этапе их развития характеризуется понятийностью их познания и вообще деятельности. Понятия не существуют как платоновские идеи – вне субъекта и его деятельности (познания, обучения, учения и т. д.). Отсюда вытекает, по крайне мере, два вывода, существенных для всей рассматриваемой проблематики. Во-первых, понятия не существуют для ребенка, пока он – в качестве школьника – не начнет овладевать ими в процессе своей деятельности (совместно с учителями, воспитателями и т. д.). Во-вторых, понятия не входят в состав „третьего мира“, как его раскрывает К. Поппер» (там же с. 13). Наши позиции в свете последних работ А. В. Брушлиинского сблизились, особенно по вопросу о самом первом уровне становления субъекта и необходимости рассматривать вопрос о критериях относительно уровневой психической организации. Первый критерий – выделение ребенком себя из окружающего мира, – на мой взгляд, очень важен и был детально аргументирован (Сергиенко, 2002, 2015). Ранние периоды онтогенеза человека обоснованно рассматриваются в качестве решающих как для становления концепции мира (физического и социального), так и для развития личности.
Второй критерий, выделенный Брушлинским как основной в становлении субъекта, – понятийная деятельность – вызывает дискуссию. Истоки представления о «понятийном» критерии лежат в трудах С. Л. Рубинштейна, который утверждал единство предметного содержания и переживания, где возникает значение объекта и события. Это влечет за собой не только отражение мира, его познание, но и отношение субъекта, выраженное в его созерцании (Рубинштейн, 1999).
Соглашаясь с важностью становления понятий для развития субъекта, отметим, что этот критерий не может выступать как основной и достаточный. Более того, по сравнению с первым критерием он очевидно дизъюнктивен. Трудно согласиться с появлением понятий в 6–7-летнем возрасте и их жесткой связью с вербальными обозначениями. Процесс становления понятийного ментального мира субъекта происходит постепенно, шаг за шагом, образуя все более сложную иерархию когнитивного пространства, начало же этого процесса опирается на базовые когнитивные способности младенцев упорядочивать мир объектов, организуя базовую модель мира (Сергиенко, 2006).
Применение континуально-генетического принципа привело нас к гипотезе о решении проблемы критериев субъекта. Критерий субъекта может быть только уровневым. С позиций такого подхода критерии субъекта, выделенные другими авторами (Б. Г. Ананьевым, К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинским, А. Л. Журавлевым, В. В. Знаковым, И. Б. Дермановой, М. А. Щукиной, А. В. Карповым), не являются противоречивыми, а относятся к разным уровням организации субъекта.
Так, в понимании Б. Г. Ананьева, человек как субъект деятельности – это определенный этап человеческого развития, предполагающий формирование психических свойств и механизмов в процессе профессиональной (производственной деятельности). Субъект характеризуется через совокупность деятельностей и меру их продуктивности (Ананьев, 1996). А. В. Карпов описывает субъекта через метапознавательные процессы, включая рефлексию в деятельности (Карпов, 2009), т. е. ставит в центр рассмотрения его деятельность, что согласуется с представлениями Б. Г. Ананьева.
К. А. Абульханова предлагает акмеологическое понимание субъекта. Личность становиться субъектом собственной деятельности и жизни в целом только на высших, взрослых этапах своего развития (Абульханова, 2005). В другой работе К. А. Абульханова выделяет критерии личности, которая становится субъектом. В качестве первого критерия она выдвигает способность личности к организации собственной жизни, жизненных этапов и регуляции объективно существующих жизненных обстоятельств. Второй критерий состоит в возможности личности как субъекта «вырабатывать свои способы решения постоянно возобновляющихся противоречий» между нормативными требованиями и индивидуальными особенностями и притязаниями личности. Третий критерий личности как субъекта заключается в оптимальном использовании психических, личностных, профессиональных и других возможностей для решения жизненных задач. «Личность не просто обладает восприятием, мышлением, памятью и не только способно видеть, думать и помнить, она определяет, как и зачем вспоминать, чтобы решить жизненно-практическую задачу. В этом проявляется ее „мета-личностное качество субъекта“» (Абульханова, 2005, с. 15). Четвертый критерий – собственно акмеологический, который определяет личность как субъекта жизни, постоянно направленного на самосовершенствование, достижение идеала. Пятый критерий в большой степени дополняет четвертый: субъектом будет такое совершенствование личности, которое стремится к достижению подлинности. Неподлинность жизни определяется как неспособность прожить собственную жизнь, отвечающую собственной индивидуальности. Подлинная же жизнь – это выбор жизненной стратегии, отвечающей смыслу жизни. Жизненная стратегия проявляется в сознании субъекта как Я-концепция. «Наличие Я-концепции дает возможность личности осознать себя как субъекта, отнестись к себе как источнику жизненных перемен, причине событий и поступков…» (там же, с. 15).
Останавливаясь на взглядах К. А. Абульхановой, хотелось бы выделить те противоречия, которые существуют между ее представлениями и другими вариантами решения вопроса. Напомним, что Б. Г. Ананьев полагал в качестве ядра человеческой организации личность, которая сама детерминирует направление, степень изменения и уровень развития всех феноменов психического развития.
Как видно из приведенных критериев личности как субъекта, К. А. Абульханова только раскрывает акмеологическое понимание субъекта. Выделенные критерии субъектности, по нашему представлению, не являются специфичными и достаточными для данной категории. Напомним, в чем состояло несогласие с принципиальным решением К. А. Абульхановой. Разрешение противоречий даже на неосознаваемом уровне определяется как движущая сила любого развития, в том числе и личностного. Более того, слишком неопределенным кажется положение об оптимальном способе организации жизненного пути, способе разрешения противоречий. Получается, что уровень субъекта является как бы операциональным уровнем личности, задающей общее направление движения. Более того, субъектом человек может и не стать, если он не достиг вершин своего развития. Представляется, что человек становится субъектом шаг за шагом на разных уровнях развития субъектности, что означает континуальность его развития.
Близкую Абульхановой точку зрения на соотношение личности и субъектности в человеке высказывает А. В. Петровский (2010). Он развивает личностный подход к активности субъекта, принимая выдвинутое А. Н. Леонтьевым представление о личности как системе деятельностей субъекта, в которой проявляются свойства социальной метасистемы, в которую включен субъект. При обсуждении субъектности в большей степени используется индивидуально-психологический анализ человека, тогда как при рассмотрении личности – социально-психологический. А. В. Петровский видит противоречие в подходах к изучению личности и субъекта. «Очевидный факт взаимопроникновения между двумя началами бытия личности сопряжен с не менее очевидным фактом их нередуцируемости друг к другу: индивидуальное и социальное в личности составляют, как говорят, единство, но не тождество» (Петровский, 2010, с. 358). Концепция субъектной личности объединяет идеи надситуативной активности и отраженности человека в человеке. «В этом контексте личность выступает как динамическая форма субъектно-ролевого единства: становление субъектности – ролью и снятие роли – субъектностью» (там же, с. 363). Таким образом, субъектность понимается А. В. Петровским как часть (модус) личности, что фактически снимает вопрос о специфичности данной категории: субъект растворен личностью.
П. Я. Гальперин считал: «Чтобы быть личностью, нужно быть субъектом, сознательным, общественно-ответственным субъектом» (Гальперин, 1976, с. 143). Он полагал, таким образом, что личность становится вершинным уровнем развития субъекта. Здесь налицо понимание личности как высшей индивидуальности человека, отвечающей общественным нормам.
Разрабатывая психологию субъекта, В. В. Знаков пишет об экзистенциональном поиске смысла жизни (Знаков, 2016). Представляется, что все названные авторы говорят о субъекте, достигшем вершинных уровней своего развития. Здесь принципиальным является вопрос о соотношении понятий «субъект» и «личность».
Соотношение личности и субъекта рассматривалось в работах Ф. Мальрие: «Субъект не сводится к Персоне, хотя и является ее источником» (цит по: Зауш-Годрон, 2004, с. 19). Существует континуум процессов субъективизации и персонализации между Субъектом и Персоной. Процесс же персонализации включает, по мнению А. Валлона, синтез двух аспектов развития: социализации и индивидуализации (как два комплементарных процесса) (см.: Зауш-Годрон, 2004).
Приведенные взгляды разных авторов на соотношение субъекта и личности послужили основанием для выдвижения и проверки нашей собственной гипотезы.
Гипотеза о соотношении субъекта и личности с позиций системно-субъектного подхода
Основные положения системно-субъектного подхода, развиваемого автором, были изложены в нескольких работах (Сергиенко, 2009, 2011, 2013).
Предполагается следующее гипотетическое решение. Личность (персона) – это стрежневая структура субъекта, задающая общее направление самоорганизации и саморазвития. Метафорически это соотношение можно представить в виде командного и исполнительного звеньев. Личность задает направление движения, а субъект – его конкретную реализацию через координацию выбора целей и ресурсов индивидуальности человека. Тогда носителем содержания внутреннего мира человека будет выступать личность, а реализацией в данных жизненных обстоятельствах, условиях, задачах – субъект. В этом случае человек будет осуществлять зрелые формы поведения в зависимости от степени согласованности в развитии континуума «субъект – личность».
В этом процессе познание себя и Другого занимает определяющее место, но может существовать и в недифференцированной (интуитивной) форме. Модель психического как модель внутреннего мира человека, определяемая векторами «Я – Другой», выступает как когнитивная основа субъектности человека, реализующая генеральную линию личностного развития (Сергиенко и др., 2009).
Это означает, что человек стремится сохранить свою целостность как субъекта и личности, следовательно, делать то, что соответствует его жизненным смыслам и в соответствии с собственной субъектностью, т. е. в соответствии со своей интегративной уникальностью (где все образует единую систему: вся история развития субъекта, гетерархия уровневой организации). Показателем синхронности и соответствия в континууме «личность – субъект» может выступать спонтанность поведения человека.
Психологическая зрелость – это, прежде всего, континуум согласования задач личности и интегративных возможностей субъекта.
Предложенное гипотетическое решение вопроса о соотношении категорий «субъект» и «личность» включает положения Л. И. Анцыферовой и Б. Г. Ананьева. В работах Б. Г. Ананьева мы находим указание на то, что личность является ядерным образованием в структуре целостного человека. Более того, мы находим указание на существование своеобразия и дифференциации этих понятий как в психологии субъекта А. В. Брушлинского («субъект всегда является личностью, но не сводим к ней»), так и в работах Б. Г. Ананьева: «Совпадение личности и субъекта относительно даже при максимальном сближении их свойств, так как субъект характеризуется совокупностью деятельностей и мерой продуктивности» (Ананьев, 1996, с. 253).
Таким образом, наше гипотетическое решение соответствует некоторым указаниям в работах других авторов.
Соотношение понятий «субъект», «личность» и «человек» можно представить в следующем виде (рисунок 1).
Рис. 1. Соотношение понятий «человек», «субъект» и «личность»