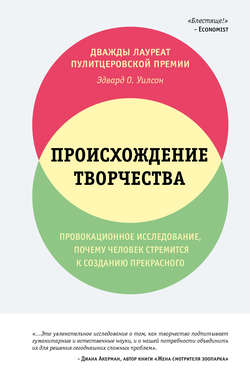Читать книгу Происхождение творчества. Провокационное исследование: почему человек стремится к созданию прекрасного - Эдвард Уилсон - Страница 6
I
2. Рождение гуманитарных наук
ОглавлениеГуманитарные науки рождались не из эпосов микенской Греции, глиняных табличек древнего Шумерского царства или из изображений погребальных богов додинастического Египта. Все эти произведения моложе десяти тысячелетий, а такой период – лишь мгновение ока, краткий миг в истории нашего вида. Равным образом мы не найдем доказательств расцвета гуманитарных наук ни в наскальных рисунках, обнаруженных в пещере Шове или на острове Сулавеси, ни во флейте из кости птицы, найденной в карстовой пещере в Швабском Альбе. Эти старейшие из известных артефактов были созданы всего лишь чуть более тридцати тысяч лет тому назад.
Рождение гуманитарной сферы происходило в более глубокой толще времени, примерно миллион лет тому назад, и проистекало оно в тех местах и при таких обстоятельствах, которые, как представляется сейчас исследователям, лучше других для этого подходили: речь идет о ночных кострах самых древних стоянок человека.
Именно это показали итоги реконструкции, для которой объединилось множество исследователей, специализирующихся в различных областях, таких как палеонтология, антропология, психология, науки о мозге и эволюционная биология. Данное исследование является частью поиска истоков происхождения самого человека, священного Грааля как для естественных, так и для гуманитарных наук. Здесь стоит напомнить, что история – это история культурной эволюции, тогда как предыстория – это история генетической эволюции. Предыстория говорит нам не только о том, что происходило до начала истории культуры, но и отвечает на вопрос, почему человеческий вид в целом следовал по этой конкретной траектории, а не по какой-то другой.
Давайте на секунду заглянем в глубины времени. Для того, чтобы сравнивать различные траектории, по которым могла бы пойти история развития человека, исследователи имеют в своем распоряжении большое количество ныне живущих приматов Старого Света, в том числе обезьян и человекообразных обезьян, наших самых близких из ныне живущих филогенетических родственников. Последние, в свою очередь, включают виды, которые, вероятнее всего, близки к существовавшим в момент появления человека.
Как биологу, занимающемуся изучением социальной эволюции, мне было особенно интересно наблюдать в дикой природе два вида таких обезьян – это верветки и павианы. Я также провел три дня среди полудикой популяции макак-резусов, которых изучал приматолог-новатор Стюарт Альтман. А в центре по изучению приматов имени Роберта Йеркса Университета Эмори я обедал с выросшим в неволе шимпанзе-бонобо по имени Канзи, задействованном в нескольких исследованиях по обучению обезьян языку. Представители вида, к которому принадлежит Канзи, называются карликовыми шимпанзе; как считается, из всех приматов они более всего похожи на человека.
Исследования этих и других подобных видов ведущими специалистами показали, что бóльшую часть своего времени обезьяны тратят на изучение среды своего обитания в поисках пищи. Меньшая доля времени посвящена социальным взаимодействиям, в число которых входят образование пар, доминирование и подчинение, обыскивание друг друга в поисках насекомых и чистка, ухаживание, спаривание, общение с детенышами, обнаружение и добыча труднодоступной пищи, проявление лидерских качеств и демонстрация послушания.
Исследования обезьян Старого Света, которые проводят специалисты, все больше сосредотачиваются на изучении того, чему учится каждый член группы, когда он наблюдает за другими ее участниками и взаимодействует с ними. Особенно интересно то, как животное использует эту социальную информацию. Ученые пытаются понять, что происходит, когда один член группы подражает поведению другого. Что именно он имитирует – точные движения партнера по группе или последствия его движений? Так, например, если товарищ по группе раздвигает пучки травы, чтобы найти там кузнечиков и закусить ими, то что узнает наблюдающий за этим действием? Что раздвинутая трава дает пищу? Или (другой вариант), что акт раздвигания травы дает пищу?
Поскольку индивидуум лично знаком с каждым из членов своей группы и может понимать и прогнозировать их поведение, то он также понимает, какими будут последствия их действий и может ли он использовать это знание в своих личных интересах. А что самое главное для группы – животное-наблюдатель знает, как, когда и с кем можно конкурировать или сотрудничать. Подкрепленное информацией взаимодействие между конкуренцией и сотрудничеством является маховиком для поддержания успешной социальной организации.
Социальные приматы, от лангуров и макак с низким уровнем развития до шимпанзе и бонобо, у которых этот уровень высок, имеют достаточно крупный мозг для того, чтобы воспринимать настроение и предсказывать вероятную реакцию партнера по группе на различные ситуации. Каждый член такого хорошо организованного сообщества знает свое место и потому при каждом контакте правильно и точно отвечает партнеру. При этом самый успешный член стабильного общества имеет и самое сильное чувство эмпатии – умение поставить себя на место другого. Он может видеть то, что видят другие, чувствовать то, что они чувствуют, и точно оценивать их реакцию: когда нужно двигаться вперед, а когда лучше отойти в сторону, с какой самкой можно заигрывать, а какую следует избегать, кому нужно бросить вызов, а с кем – замириться.
Эмпатию, то есть умение читать чувства других и предсказывать их действия, следует отличать от симпатии, то есть сочувствия, эмоциональной заботы о чужом положении в сочетании с желанием оказать помощь и поддержку. Тем не менее, эмпатия тесно связана с симпатией, и, вероятно, именно эмпатия в ходе эволюции человека и привела к возникновению симпатии.
Из этого следует, что лучший способ для ученого изучить социальное поведение животных состоит в том, чтобы войти в их жизнь с сознательно «предустановленными» эмпатией и симпатией, познакомиться с ними индивидуально, во всех подробностях и как можно ближе. Вот как формулирует свое кредо исследователь Франс де Вааль, ведущий специалист по социальному поведению шимпанзе:
Моя профессиональная деятельность зависит от умения находиться в гармонии с животными. Было бы ужасно скучно часами смотреть на них и не понимать того, кто перед тобой, не понимать, что происходит, не чувствовать взлетов и падений, связанных с их взлетами и падениями. Эмпатия – это мой хлеб насущный; я сделал множество открытий, просто внимательно наблюдая за жизнью животных и пытаясь понять, почему они поступают так, а не иначе. Для этого нужно забраться под их кожу. Мне это нетрудно, я люблю и уважаю животных, и я верю, что такой подход позволяет мне более успешно изучать их поведение.
Социальные животные, находящиеся на нашем уровне развития или близко к нему, также жестко привязаны к подобному виду поведения. Нейробиологи доказали, что в ходе социального взаимодействия в мозге человека и других продвинутых приматов активизируются три типа проводящих нейронных путей. Первый ответственен за ментализацию (вспоминание), в ходе которой формируются цели и планируются соответствующие действия для их достижения. Второй путь – эмпатический: индивидуум мысленно помещает себя под кожу другого, чтобы получить доступ к его мотивам и чувствам и предвидеть будущие действия этого другого. Можно сказать, что эмпатия – это своего рода игра, благодаря которой человек общается с группой, а группа – самоорганизуется.
Наконец, третий путь стимулирует зеркальное отражение, посредством которого индивид ощущает настроения и эмоции другого индивида и в некоторой степени их испытывает. «Отзеркаливание» легко приводит к подражанию успешным стратегиям других, а также открывает путь к симпатии и (по крайней мере, среди людей) к таким духовным сокровищам, как чувство милосердия.
С очевидностью, именно эмпатия и зеркальное отражение определяют то среднее время, в течение которого члены группы взаимодействуют друг с другом. Выполненные измерения этого времени показывают, что такая корреляция действительно существует. Так, обнаружено, что обитатели саванны, бабуины Papio cyanocephalus, менее 10 процентов своего времени тратят на общение, а 60 процентов – на поиски еды и саму еду. Обезьяны-верветки (Cercopithecus aethiops) тратят 40 процентов времени на еду и ее поиски, а на общение – еще меньше, чем бабуины.
В сравнении с этими и другими приматами Старого Света люди тратят на общение гораздо бóльшую часть своего времени. Несмотря на то, что расписания их активности сильно различаются в зависимости от профессии, люди не находятся подолгу в одиночестве и всегда стремятся образовывать группы и участвовать в социальных обменах. Сейчас в развитых странах благодаря общественным развлечениям и социальным сетям социальная жизнь расширилась почти до бесконечности.
Была ли общительность людей той дарвиновской движущей силой, которая обеспечила высокий уровень нашего социального интеллекта, в частности способности к эмпатии, отражению и к умению находить решения проблем? Да, была! Но общительность составляла лишь часть того эволюционного процесса, который создал человека в его нынешнем виде. Для выяснения полной истории нам нужно обратиться к уникальному происхождению социального поведения у предковых гоминин и проследить его эволюцию вплоть до настоящего времени – в том виде, в каком ее сейчас видят специалисты. Сигнальным событием в этом смысле стало значительное увеличение размера мозга, в основном его лобной доли. Стартовав примерно три миллиона лет тому назад, объем черепа наших дочеловеческих предков вырос от близких к шимпанзе 400 см³ до 600 см³ у хабилин (Homo habilis), после, примерно миллион тому лет назад, до 900 см³ у нашего предка Homo erectus и, в конце-концов, до современного уровня (около 1300 см³) у Homo sapiens.
В процессе эволюции путем естественного отбора, как и в повседневной жизни, незначительные события могут иметь большие и даже огромные последствия. Таким небольшим событием в процессе эволюции до возникновения человека, по-видимому, стал сдвиг от преимущественно вегетарианской диеты – фруктов, семян, мягкой листвы – к существенно большему употреблению мяса. Это смещение было облегчено средой обитания, в которой оно произошло. Африканская саванна – это обширное пространство лугов и пастбищ с вкраплениями лесов, растущих по берегам рек, и озер, окруженных тропическими деревьями. Добыча мяса облегчалась тем, что здесь, на открытых равнинах, было легко отслеживать животных (конечно, легко для тех, кто знает, как это делается). Упрощали задачу частые пожары от ударов молний, в результате которых попадало в огненную западню и погибало множество кочующих животных. В ходе пожаров некоторые животные жарились в огне, обеспечивая плотоядных высококалорийной и легко пережевываемой пищей, богатой белками и жирами.
Происходившие перемены потребовали изменений всей желудочно-кишечной системы – от рта до ануса. Это также подтолкнуло предков-австралопитеков к тому, чтобы стать более общественными существами. В то время как обезьяны-вегетарианцы стремятся искать пищу и кормиться независимо друг от друга, у наших предков во время набегов на животных возникла необходимость в более тесном сотрудничестве. Далее, после того, как был добыт большой запас пищевых продуктов, необходимо было поделить его таким образом, чтобы избежать потенциально смертельных схваток между членами одной группы. В отличие от сбора растительных материалов, во время охоты или захвата крупных животных потребовалось также проводить совместные сборы или организовывать стойбища (или делать и то и другое).
Наконец, в ходе этого адаптивного сдвига (а именно так называют это явление эволюционные биологи) преимущества, связанные с поеданием свежего мяса, были усилены благодаря применению огня. Если рядом вспыхивает пожар, то ты всегда можешь вынести из него горящие ветви и сучья и принести их в свой лагерь. Я сам это проделывал, когда был бойскаутом и собирал головешки на краю потухшего пожара в лесостепи Алабамы. Я и раньше знал, что неосторожное обращение с огнем в лагере скаутов может привести к лесному пожару. Но тут я понял, что справедливо и обратное: можно сохранить огонь такого пожара и принести его в лагерь. У предшественников человека не было необходимости добывать огонь с помощью искры от кремня или вращая деревянные палочки.
Широко распространено мнение специалистов о том, что хабилины, предки современного человека, следовали этому сценарию поведения плотоядных и тем самым обеспечили резкое увеличение размеров своего мозга и социального интеллекта. Эта теория до сих пор окончательно не утвердилась, но в ее пользу свидетельствуют результаты раскопок: стоянки, на которых поддерживался огонь, находят уже у Homo erectus