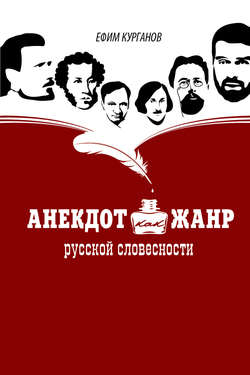Читать книгу Анекдот как жанр русской словесности - Ефим Курганов - Страница 16
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Анекдот. Законы жанра
XV. Проблема точек зрения.
Многосоставность структуры анекдота
ОглавлениеУяснение роли закона пуанты в анекдоте подводит к проблеме присутствия точки зрения в художественном тексте.48 Б. А. Успенский посвятил анализу этой проблемы специальную монографию («Поэтика композиции»), в которой заявил об исключительной важности для построения анекдота игры различных точек зрения:
Отметим, что столкновение разных оценочных точек зрения нередко используется в таком специфическом жанре художественного творчества, как анекдот; анализ анекдота в этом плане, вообще говоря, может быть весьма плодотворен, поскольку анекдот может рассматриваться как относительно простой объект исследования с элементами сложной композиционной структуры. 49
Увы, точное наблюдение это так никого и не привлекло. В рамках настоящей работы, носящей тезисный характер, я имею возможность коснуться проблемы только в самом общем порядке, не уходя в глубины развернутого анализа, как бы интересны и захватывающи они не были.
В пуанте, и именно в ней пересекаются, как минимум, две точки зрения. Пуанта – это то место, где сходятся разные измерения. В результате возникает повышенный динамизм, дающий энергично-жесткое, необыкновенно последовательное и, так сказать, мгновенное оформление сюжета. Но в ходе пуантного столкновения еще и утверждается идея анекдота, реализуется та концепция, носителем которой он является.
Отказ от принципа линейного развертывания приводит к тому, что становится весьма затруднительной однозначная интерпретация анекдота. Он ситуативен. Он меняется. Он по-разному звучит в разных контекстах, и это совершенно закономерно.
Вырисовывается такая схема: с одной стороны, анекдот живет в диалоге, включенный в борьбу точек зрения; с другой стороны, борьба точек зрения происходит внутри самого анекдота.
В самом начале уже было сказано о том, что анекдот «прошивает», пронизывает самые различные жанры, как устные, так и письменные. Теперь пора обратиться к структуре анекдота, к уяснению того, как игра точек зрения происходит в нем самом, подготавливая его совершенно необыкновенную увертливость и мобильность, способность «присоседиться» к чему угодно.
Знаменитый рассказчик пушкинского времени Д. Е. Цицианов50, который в своем устном творчестве ориентировался на традиции анекдота-небылицы, сказал как-то в обществе о своем происхождении от библейского Иакова.51 Слушатели опешили. Конечно, они ждали от легендарного лгуна чего-то пикантного, необычного, и, тем не менее, они были изумлены. Но и на этот раз он их поразил. Но первое впечатление от полученного удара прошло. Посыпались вопросы, стали раздаваться восклицания возбужденных слушателей. Главный смысл их сводился к следующему: как? почему? каким образом? – «Очень просто, – отвечал князь Цицианов, – вы видели в моем гербе лестницу?»
Финальная реплика рассказчика, безусловно, представляет собой пуантируюшее псевдообъяснение. Но особенно стоит обратить внимание вот на что: этой реплике предшествует пауза, за которой следуют вопросы и восклицания изумленных слушателей. Даже из конспективной, сухой и достаточно поздней мемуарной записи, сделанной О. Н. Смирновой, дочерью А. О. Смирновой-Россет – внучатой племянницы Д. Е. Цицианова, видно, что анекдот разбит на две половинки, точнее на две неравные части, ибо пуанта явно отделена от основного текста. И вот что еще представляет интерес: анекдот не просто оказывается фрагментом, кусочком, элементом разговора, ибо сам разговор как бы вклинивается в анекдот – еще одно подтверждение того, что последний отнюдь не является изолированным, самодостаточным текстом.
Насколько все это случайно или, наоборот, закономерно? Стоит поразмыслить.
Итак, каждый цициановский анекдот, судя по мемуарным записям, прорезают реплики слушателей. Специально современники об этой черте поэтики «русского Мюнхгаузена» ничего не писали, как вообще о нем подробно не писали. Более того, само устное творчество Цицианова сохранилось в обрывках, но они-то, при всей своей конспективности, чрезвычайно показательны, ибо фактически свидетельствуют, что реплики слушающих именно входили в текст цициановских анекдотов, будучи значимыми элементами их структуры, помогая наращиванию остроты и пикантности финальной пуанты. В знаменитом цициановском анекдоте о громадных пчелах текст троекратно – по нарастающей – перерезают реплики собеседника-пчеловода, причем, последняя из них, непосредственно предваряющая пуанту, представляет собой особенно густое, насыщенное, даже по-своему предельное выражение изумления:
Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства, так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было слишком сто в той деревне.
– Очень вам верю, – возразил Цицианов, – но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире.
– Почему так, ваше сиятельство?
– А вот почему, – отвечал Цицианов, – да и быть не может иначе; у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут, как здесь крапива, да к тому же пчелы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда оне летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы.
– Какие же у вас ульи, ваше сиятельство? – спросил изумленный пчеловод.
– Ульи? Да ульи, – отвечал Цицианов, – такие же, как везде.
– Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?
Тут Цицианов догадался, что, басенку свою пересоля, он приготовил себе сам ловушку, из коей выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался:
– Здесь об нашем крае, продолжал Цицианов, – не имеют никакого понятия… Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка. У нас в Грузии отговорок нет: хоть ТРЕСНИ, ДА ПОЛЕЗАЙ! 52
В цициановские анекдоты реплики слушающих не просто вклиниваются. Нет, они структурно запрограммированы. Дело в том, что, судя по всему, на их появление сильно рассчитывал сам рассказчик, буквально с первых же слов обрушивая на внимавшее ему общество нечто невероятное, невозможное. Цицианову совершенно необходима была пауза, похожая на немую сцену в «Ревизоре». Это означало, что первый эффект достигнут: на слушателей нашел столбняк. Выход из состояния оцепенения сопровождается вопросами и восклицаниями. Тем самым совершается красивый переход ко второму и окончательному эффекту – пуантируюшсму псевдообъяснению. Таким образом, реплики слушателей Цицианову были абсолютно необходимы.
Что было бы с приведенным выше анекдотом, если бы в него не был введен образ доверчивого помещика-пчеловода? Текст наверняка бы сохранился, но стал намного более блеклым и, главное, дряблым, а замечательный финал был бы гораздо в меньшей степени внутренне подготовлен.
Не будь вклинивающихся реплик (своего рода ступенек), добраться до спасительной двери было бы невозможно, а дверь в финале анекдота должна ведь не просто открыться – она должна еще и хлопнуть. Так что разрубание анекдота на две неравные части или ввод в него чужеродных элементов как раз и делает текст целостным и особенно выразительным, скрепляет, цементирует его. Может быть, все дело в индивидуальной цициановской поэтике? Над этим стоит задуматься. Прежде всего нужно обратиться к народному анекдоту-небылице, к традициям которого генетически восходит устное творчество Цицианова.
Фольклорные анекдоты записывались и публиковались вместе со сказками. Исправить это теперь очень сложно, если вообще возможно. Выделить анекдоты в самостоятельные сборники – мера простая, но, увы, малоэффективная и даже опасная. Сказка к контексту довольно равнодушна: ближайшие соседи по диалогу ее мало волнуют. Анекдот же буквально требует контекста. Между тем, когда анекдот записывался, он практически всегда вырывался из контекста, лишаясь при этом многого, а подчас и главного. Остается путь реконструкции, заключающийся в восстановлении примерного контекста. Это, конечно, не бог весть что, но другого выхода нет. Стоит попробовать. Открываем «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка», останавливаемся, естественно, на разделе – «Небылицы» (№ № 1875–1999), читаем в одном из первых номеров:
Журавли на веревке: мужик ловит журавлей, поит водкой и связывает; протрезвившись, журавли улетают и уносят с собой мужика. 53
Очень важно попытаться представить, как этот анекдот рассказывали.
Цициановская модель явно утвердилась и окрепла именно на почве фольклорной небылицы – невероятное сообщение; изумление слушателей; пуантируюшее псевдообъяснение: мужик утверждает, что был унесен журавлями на небо. Не может быть? как тебе это удалось? – Да ловил журавлей, поил их водкой и связывал, а они проснулись, протрезвели и унесли меня.
В следующем номере:
Человек сам выкапывает себя из болота (или вырубает из дупла): идет в деревню за лопатой (топором) и пр. 54
Налицо та же модель: некто рассказывает, что застрял в дупле (болоте) – Как же ты смог выбраться? – Да сходил в деревню за топором (лопатой). Даже чисто интонационно тут не может не вспомниться цициановское псевдообъяснение: – Как же ты не промок? – О, я умею очень ловко пробираться между каплями дождя. – В анекдоте-небылице крайне важна исключительная простота, даже тривиальность финального ответа, резко контрастирующего с феерическим началом. Поэтому на интонационном уровне тут возникает следующее требование: пуантируюшее псевдообъяснение необходимо давать как нечто само собой разумеющееся. Выхватываем наудачу еще один номер:
Человек перепрыгивает через реку, ухватившись за собственный чуб, ухо (таким же образом выталкивает себя из болота). 55
Та же модель: некто рассказывает, что перепрыгнул через реку. – Невероятно! как тебе удалось? – А очень просто: ухватил себя за чуб и перепрыгнул. – И еще один номер:
Волк (медведь) в упряжке: волк съедает лошадь; ее хозяин одевает на зверя хомут и запрягает вместо лошади в телегу. 56
И тут та же модель: путешественник (крестьянин) рассказывает, что въехал в город, погоняя запряженного в карету (телегу) волка. – Этого не может быть! как такое возможно? – Понимаете, волк набросился на мою лошадь, совершенно сгрыз ее и оказался в лошадином хомуте; мне ничего не оставалось делать, как погонять волка; так я и въехал в город. – Примеры легко можно было бы умножить, но, кажется, в этом нет нужды. С полным основанием можно констатировать, что, видимо, фольклористы обычно записывали обрывки анекдотов, точнее начало и финал, совершенно не учитывая среднего звена. Скорее всего реплики слушающих воспринимались как помеха, как внешнее препятствие, в то время как они были полноправной частью текста, играя роль структурно чрезвычайно важного интонационного перебива, своего рода заминки в развертывании сюжета, которая на самом деле призвана усилить эффект финальной пуанты.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
48
С учетом всего того, что было сказано в предыдущих разделах, его можно определить как закон переключения, вернее, совмещения в определенный момент разных систем координат, закон пересечения параллельных линий.
49
Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970. С. 19.
50
См. о нем: Курганов Е. Я. Литературный анекдот пушкинской эпохи. Хельсинки, 1995. С. 97–138.
51
См.: Записки А. О. Смирновой. М., 1895. С. 95.
52
Булгаков А. Я. Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф. В. Ростопчина // Старина и новизна. 1904. Кн. 7. С. 116.
53
Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979. С. 371.
54
Там же. С. 371.
55
Там же. С. 372.
56
Там же. С. 375.