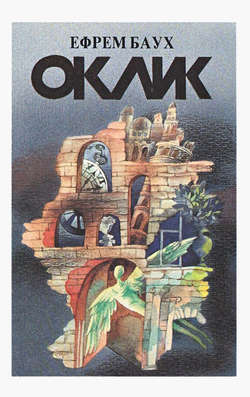Читать книгу Оклик - Эфраим Баух - Страница 12
Оклик
Отступление в зиму сорок восьмого
4
ОглавлениеКак странно река времени с водоворотами, заводями, тихим течением и бурными перекатами лет, оставляет то тут, то там островки памяти, цепляющиеся за мимолетные детали, как за подводные коряги; такой островок со временем закрепляется, выбрасывая подробности, подобно якорям, и никакое наводнение событий, будь то радости или бедствия, не способно залить его забвением, опрокинуть, сорвать с места.
Таким островком врезался мне в память июньский давний вечер, золотистый, печальный и легкий, неожиданно перекликающийся и отдающийся болью в этом, сегодняшнем, – январском, голодном, ледяном, через шесть с половиной лет, в той же столовой, из которой столько повымело, и не только предметов, но и человеческих жизней.
В утро того дня приехала дребезжащая от старости полуторка, на которую Маруся погрузила свои чемоданы и тюки с барахлом; мы все стояли на парадном крыльце, Маруся, всегда жившая в тени своей суровой матери, подошла к нам, обнялась с моей мамой, обе расплакались, старуха Пелагея села в кабину, даже не попрощавшись, и полуторка, тарахтя и валясь набок, скрылась в переулке.
И вот, вечером, всей семьей мы опять сидим в столовой под желтым старинным абажуром с кистями, дамами и кавалерами, чье настырное постороннее присутствие постоянно мной ощущается: возникая мгновенно со вспыхивающим светом, они встревают в любой разговор, перебранку или примирение.
Мы сидим вокруг стола, все какие-то умиротворенные, отрешенные. В раскрытые окна вместе с тишиной и звоном цикад вливается сладкий запах фиалок и маттиол. Ночные бабочки летают вокруг абажура, над стаканами золотистого чая с ломтями лимона в посверкивающих на свету серебряных подстаканниках. Позвякивая ложечками, мы с печальными улыбками следим за бабочками, ощущая эфемерность давно нас не посещавшего, такого прекрасного покоя, в этих стенах, в которых совсем недавно жили чужие люди, тоже обжившиеся в них и вот же, опять покинувшие, вечные скитальцы, и подспудно предчувствуем, что скоро и нам всем предстоит быть брошенными в водоворот скитаний и бедствий, и Бог знает, что с нами будет, и, быть может, это последний такой чудесный вечер в нашей жизни.
За моей спиной буфет, светящийся всеми своими вензелями и гербами, но в этот вечер такой домашний, гостеприимно распахивающийся, когда бабушка достает из него варенье к чаю, и нас обдает смешанным запахом ванили, корицы, чая; с буфета и начинаются воспоминания: мама, известная в нашей семье лакомка, в юности, увидев через окно, как бабушка вынимает из буфета банки с вареньем, с такой силой прижалась к стеклу, что раздавила его лбом; в другой раз, тайком от бабушки, она взобралась на буфет с ложкой, но тут внезапно (как всегда) вошла бабушка, и мама свалилась с буфета. Все, смеясь, обращают взоры на меня: пришла и моя очередь, я ведь тоже не прочь полакомиться, и однажды, когда бабушка, потеряв бдительность, поздравляла меня с днем Ангела и, расслабленная от нежных чувств, целовала меня в лоб, я ухитрился вытащить у нее из кармана ключи от буфета, тайком основательно приложиться к вареньям, затем подложить ключи ей под подушку. Обнаружив их там, бабушка долго не могла прийти в себя от удивления и объяснила все это себе, как всегда, усиливающимся склерозом и бессонницей, хотя спала она крепко, всем нам на зависть.
Упоминание Ангела, как мне показалось, вызвало какое-то дуновение, словно бы окликнутый нами, он прилетел с высот, он среди нас, невидимый, золотисто-белый, улыбающийся и беспомощный, ведь он-то не просто предчувствует, он знает, что нас ждет. Меня уводят спать, и я в последний раз окидываю взглядом, словно пытаясь вобрать навек эту пасторальную картину, всех дорогих мне людей, в золотистом облаке света сидящих за столом, и эта последняя тайная такая пасхальная вечеря словно бы окутывается этим облаком, зависает, обретает летучесть, теряя земные корни, отрубив якоря, плывет небесным видением над рекой времени, и нимб обреченности уже витает над головой каждого.
Не смотрит ли Ангел на это видение моими глазами? Не является ли память о некоем отчетливо схваченном образе болью и сожалением о неком мимолетном миге?
Последнее, что я вижу, закрывая глаза, – тонкий луч света на полу, в щели закрывающейся двери, – не стопу ли Ангела?..
С утра пасторальное настроение продолжается. Мама копается в грядках с цветами, руки ее пахнут свежей землей, отец читает книгу, бабушка варит компот из слив, его сносят в кастрюле в подвал, чтобы он стал холодным к обеду, за которым случается неприятная заминка: мама обнаруживает в одном из блюдец с компотом, под сливами, иголки. Шьет в нашем доме одна бабушка, которая всплескивает руками, хватается за голову, проклинает склероз. Но все как-то улаживается, отец отправляется слушать радио, мама – поспать после обеда, бабушка моет посуду, тихонько под нос напевая любимую свою песенку:
Юрн циен, юрн флиен,
юрн лойфн гур ун а шрек.
менчен олтын зэх алтмиен,
зэй миен зэх гур ун а нэк…[6]
Я слоняюсь от безделья по двору, выхожу на парадное крыльцо, которое мама только что оплеснула ведром воды и оно чуть дымится, блестя на солнце синим асфальтом…
Внезапно, прямо над моей головой, из высоко замершего в небе черного облачка вырывается самолет. Раздается пулеметная очередь. То ли это эхо очереди, то ли другая доносится снизу. Все замолкает. Сижу на крыльце, как пришибленный, словно бы в каком-то столбняке, так, что не успеваю даже заметить, как на улицу высыпали все соседи. Отец открывает парадную дверь, говорит: "Началась война…"
Во второй половине дня пасторальная тишина продолжает витать над городом, но она до предела заряжена тревогой и страхом. Люди сидят на скамейках у своих домов, во дворах, но кажутся оцепенелыми, как жуки, которые перед приближающейся опасностью притворяются мертвыми. Ощущение этой оцепенелости часто приходило в годы войны, в самые страшные ее минуты.
Только в центре еще замечается какое-то шевеление. И я сижу в башенке с цветными витражами (отца вызвали на работу, и он взял меня с собой), гляжу на это шевеление толпы подо мной, и свет солнца, какой-то неверный, пепельно-пыльный, свет обреченности, ложится на спины людей, на их лица, на весь городок, такой распахнутый и беспомощный перед любыми угрозами с неба.
6
*идиш:
Годы тянутся, годы летят,
годы бегут без испуга.
Люди все еще продолжают
мучаться,
мучаются они без конца…