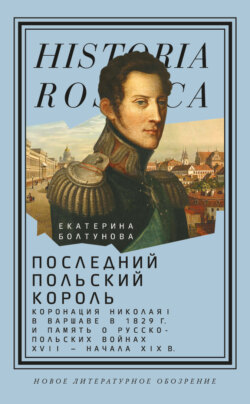Читать книгу Последний польский король. Коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII – начала XIX в - Екатерина Болтунова - Страница 4
Часть I. Коронация
Глава 1
«Я… буду соблюдать конституционную хартию»
Польский вопрос в начале царствования Николая I
1.1. Страх
ОглавлениеНиколай I провозгласил себя российским императором после нескольких недель тяжелейшего противостояния с великим князем Константином Павловичем. Датированный 12 декабря 1825 г. манифест о вступлении на «Прародительский Престол Всероссийской Империи и на нераздельные с Ним Престолы Царства Польского и Великого княжества Финляндского» долго и подробно – и тем менее убедительно – объяснял подданным ситуацию, ссылаясь на документы, подписанные покойным Александром I и отрекшимся от власти великим князем Константином. Манифест призывал к присяге и сообщал, что время вступления на престол должно исчисляться от 19 ноября[39]. Политическая ситуация, в которой находился Николай, однако, была далека от той, какой она была в ноябре, и для ее стабилизации одним документом обойтись было сложно.
На следующий день после обнародования российского манифеста молодой император издал еще один манифест, адресатом которого на сей раз стали жители Царства Польского:
Мы Божьей Милостию Николай I, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский и проч. и проч… повелеваем всем и каждому, кого это касается:
В соответствии со Ст. 1 и Ст. 5 Конституционной хартии, согласно коим Царство Польское навсегда присоединено в Российской империи мы объявляем, что Манифест, объявленный нашим подданным 12 (24) декабря распространяется в равной степени на Царство Польское. Мы повелеваем посему, чтобы с сим Манифестом в царстве ознакомлены были и выполнили все предписания в нем содержащиеся относительно восшествия на престол и чтобы принесена была присяга на верность подданства.
Поляки, мы уже заявили свое неколебимое желание продолжить в своем правлении путь, избранный светлой памяти императором и царем Александром I, и мы объявляем через сие, что все институты вам от него данные будут сохранены. Через сие я обещаюсь и клянусь перед Богом, что буду соблюдать Конституционную хартию и приложу все свои усилия для ее сбережения.
Дано в Санкт-Петербурге 13 (25) день месяца декабря 1825 лета от Рождества Христова, царствования же Нашего с первое[40].
Сейчас нам сложно представить, что этот документ, слово в слово повторяющий формулировки Польской хартии 1815 г., предписывавшей наследникам Александра I приносить клятву конституции[41], был подписан Николаем I – человеком, которого принято считать консерватором и поборником охранительной политики. Нам, впрочем, несложно вообразить, что в состоянии страха человек способен на действия, о которых он не смог бы помыслить при других обстоятельствах. Этот поразительный манифест «императора и царя» был одобрен, когда до восстания на Сенатской площади оставались считаные часы. Николай знал, что его царствование может оборваться не начавшись. Его жизни угрожала прямая опасность: эпоха дворцовых переворотов не была забыта, внезапная смерть Александра I вызвала множество слухов и домыслов, трактовавших смерть императора как подозрительную, связанную с отстранением от власти и убийством. Обществу было сложно принять тот факт, что следующий в ряду на престолонаследие великий князь Константин, которому уже была принесена присяга, внезапно отказался от власти. Молодой император мог ожидать появления лозунга «Константин и Конституция» не только на улицах Петербурга, но и в столице Царства Польского. Возможность подобного развития событий существовала: в Варшаве представители генералитета активно обсуждали вопрос возведения великого князя Константина Павловича на престол вопреки его собственной воле[42].
Николай, вероятно, опасался, что Константин Павлович, который, бесспорно, вел свою игру в период междуцарствия, мог провозгласить себя польским королем. Возможность такого развития событий не исключает О. С. Каштанова, полагая, что, отказавшись от российского престола, цесаревич рассматривал для себя возможность получения польской короны[43]. Отсюда и настойчивое стремление Николая I повторять – в манифесте о восшествии на престол, а потом и в отдельном манифесте, адресованном полякам, – что он является императором Всероссийским, а равно и царем Польским. Эти формулировки закрывали Константину возможность маневра. Чтобы обеспечить безопасность империи на западных границах и нейтрализовать цесаревича, молодой император готов был поклясться на верность той самой конституции, о которой кричали восставшие под окнами его дворца.
Важно отметить, что николаевский манифест, обращенный к Царству Польскому, в России практически неизвестен. Это вполне объяснимо – ведь документ не вошел в Полное собрание законов Российской империи[44]. Документ был отброшен как «местное установление», представлять которое в основном собрании нет необходимости. В реальности речь, конечно, шла о цензурировании: императорский манифест с клятвой конституции едва ли мог расцениваться как несущественный с точки зрения его содержания. К тому же более ранние установления, касающиеся польских территорий, в «Полном собрании законов» были отражены вполне подробно[45]. Очевидно, Николаю было больно вспоминать свой страх и клятву, принесенную польской конституции.
Вместе с тем в западных землях империи манифест был хорошо известен. Достаточно сказать, что он в буквальном смысле слова не остался без ответа. Реакцией на обращение стал направленный на имя императора адрес Сената Царства Польского от 5 (17) января 1826 г., подписанный его председателем Станиславом Замойским. Обращаясь к Николаю I, граф писал: «…незабываемые слова Ваши, которыми Вы нас уверили в поддержке всех установлений Вашего великого предшественника, проникли в сердца всех поляков, погасили чувство отчаяния, оставив лишь чувства любви и признательности». В адресе упоминался «великий гений» и «возродитель» польской нации Александр I[46], именно ему, как утверждалось в документе, сенаторы хотели бы установить монумент в Варшаве. Замойский выражал надежду, что Николай сможет утвердить проект мемориала на ближайшем сейме[47]. Иными словами, польский Сенат подтверждал, что клятва императора была услышана. При этом, хотя и в вежливо-завуалированной форме, монарху предлагалось сделать следующий шаг – созвать сейм. В своем ответе сенаторам, последовавшем через месяц, Николай I согласился на предлагаемые условия: разрешив согласовать проект монумента Александру I и вынести его на обсуждение на ближайшем сейме, император фактически обещал скорый созыв представительства[48].
В Польше общественная реакция на публикацию манифеста 13 (25) декабря была позитивной. Великий князь Константин Павлович в переписке с Ф. П. Опочининым в феврале 1826 г. характеризовал ситуацию следующим образом: «Император, при восшествии своем на престол, обещал манифестом, данным этой стране, следовать по стопам покойного императора, и привел этим всех в восторг»[49]. Манифест вспоминали и перед варшавской коронацией 1829 г. Так, автор одного из стихотворений, изданных по этому случаю, восхваляя императора Николая, отмечал «святое обещание продолжать дело своего предшественника», данное, когда «воскреситель родины» Александр I скончался в Таганроге. Это обещание, как пишет автор, подпоручик польской армии, заставило «север (имеется в виду Польша. – Прим. авт.) воссиять»[50]. Знали о манифесте и за границей – его оригинал на французском языке был опубликован в Париже в 1827 г. как приложение к мемуарам Михаила Огинского[51]. Отголоски произошедшего долетали и до российского общества. По крайней мере, в отдельных документах можно обнаружить рассуждения, что власть российского императора в Польше ограничена «конституцией, которой он (Николай I. – Прим. авт.) присягал»[52].
Восстание в Петербурге было подавлено, но ощущение безопасности у Николая, видимо, не возникло – необходимость договориться с Константином Павловичем и убедиться в спокойствии на новых западных границах империи все еще была актуальна. Вероятно, именно поэтому спустя всего несколько месяцев после восшествия на престол, уже находясь в процессе активной подготовки к коронации в Москве, Николай I сам написал великому князю о необходимости подготовить коронацию в Царстве Польском. 24 мая 1826 г., то есть ровно за три года до коронации, цесаревич откликнулся на это предложение письмом из Варшавы. Константин не продемонстрировал какого-то особенного энтузиазма: он писал, что знает о том, что коронация предписана Конституцией, но не может сказать ничего определенного, поскольку прецедентов подобного рода не было. Ссылаясь на свою неосведомленность в подобного рода вопросах, он уведомлял Николая, что посоветуется обо всем с Н. Н. Новосильцевым[53]. Дискуссия о коронации началась.
Похоже, что весной 1826 г. Николай I действительно начал серьезно думать о коронации в Варшаве. Об этом можно судить по тем действиям, которые император предпринял во время организации похорон Александра I, останки которого были доставлены в Петербург из Таганрога.
Гроб с телом покойного монарха, который несколько месяцев «путешествовал» по России, проехав Харьков и Курск, Орел и Тулу, Москву и Новгород, был торжественно ввезен в столицу 6 марта, а неделю спустя, 13 марта, состоялись поразившие воображение современников похороны. За богато декорированной колесницей с гробом Александра I от Московской заставы до Казанского собора, где был устроен катафалк[54], а затем, неделю спустя, от Казанского собора до Петропавловского, где монарх нашел упокоение, шли молодой император Николай I, представители монаршей фамилии и двор. Здесь же шествовали члены Сената и Синода, Государственного совета, генералы и офицеры, чиновники и учителя, купцы и ямщики – одним словом, вся столица огромной Российской империи[55]. Дома вдоль основного движения шествия были убраны траурными лентами и фестонами, о событии писали все газеты, о нем сообщали на улицах разъезжавшие по городу герольды, а доступ на устроенные для наблюдения «места и помостки… при всех заборах, решетках и в обоих ярусах гостинаго двора» можно было получить, заплатив баснословную сумму 100 руб.[56]
Шествие было «закутано» в бесчисленные флаги и знамена, составлявшие вместе визуализированный императорский титул. Здесь были гербы более 40 земель – от Ярославля и Рязани до Казани и Астрахани, от Нижнего Новгорода и Перми до Курляндии и Кабарды[57]. В шествии прошли грузинские цари и царевичи, карабахский хан и калмыцкие князья[58], а также чины Российско-Американской компании, представлявшие интересы империи на Аляске. Колесницу императора сопровождало православное духовенство, а священники евангелической и армянской церквей, выйдя из дверей храмов на Невский проспект, «при приближении процессии в безмолвии, подобающем для благодарения и благоговения, кадили августейшему усопшему»[59]. Любой наблюдавший за петербургским действом должен быть увидеть: империя покойного Александра разнообразна и обширна, а ее границы простираются за пределы Евразийского континента.
И все же земли российской императорской короны были выстроены в абсолютно зримую иерархию, в рамках которой приобретенное Царство Польское оказывалось исключительно значимым. Документы Печальной комиссии, занимавшейся похоронами Александра, демонстрируют, что вопрос о том, как подчеркнуть особое положение Польши (в ряде случаев Польши и Финляндии[60]) в составе Российской империи, стал едва ли не самым важным. Здесь возникало множество идей. Так, Печальная комиссия, которую официально возглавил князь А. Б. Куракин, предлагала Николаю I пригласить в Петербург депутации от Царства Польского и Великого княжества Финляндского. При этом в документе отдельно проговаривалось, что «к похоронам в Бозе почивших царствующих лиц Депутаций из губерний не назначается». Мотивацией к тому, чтобы «вытребовать» в столицу депутатов от Польши и Финляндии, был назван тот факт, что речь шла о «царстве» и «великом княжестве» соответственно[61]. Едва ли, однако, это являлось настоящей причиной: Грузия, также именовавшаяся царством, в докладной записке не фигурировала – речь шла об особости именно западных территорий. Не менее энергично императору предлагали обдумать приглашение министра-секретаря Царства Польского и статс-секретаря Великого княжества Финляндского[62], при этом представителям Польши и Финляндии надлежало шествовать вместе с чиновниками Собственной Канцелярии Его Императорского Величества, Канцелярии Государственного Совета и Канцелярии Комитета Министров[63]. Предложение относительно депутаций из Польши и Финляндии было императором отвергнуто, в то время как идея вызова в Петербург польского министра и финляндского статс-секретаря, напротив, была принята благосклонно[64]. Статус Царства Польского в составе империи был подчеркнут и во время шествия орденов и регалий. Польские ордена Св. Святослава и Белого Орла были включены в петербургское шествие как «польские российские ордена»[65], то есть были маркированы как особая статусная категория российских орденов.
Интересно, что при этом император Николай отказался использовать в петербургской церемонии прощания с Александром I так называемую «польскую корону» – похоронную корону Станислава Августа Понятовского, польского короля, который отрекся от престола в 1795 г., переехал в Петербург и скончался там годом позднее. Пышные похороны Станислава Августа в Петербурге не были забыты[66], и петербургская Печальная комиссия обратилась к Николаю с вопросом: «…в Мастерской Оружейной палате находится корона серебряная, вызолоченная сделанная к погребению Польского короля Станислава. Не соизволите ли, Всемилостивейший государь, чтобы в настоящей процессии корона сия употреблена была»[67]. Молодому императору эта идея радикально не понравилась, и он постановил не включать корону в список регалий шествия[68]. Вероятно, Николай полагал, что включение в церемонию короны монарха, прямо ассоциирующегося с разделами Польши конца XVIII в., отрекшегося и скончавшегося в России, может, пусть и косвенно, обидеть поляков, которых он так активно призывал к лояльности и конституции которых присягнул всего две недели назад.
Однако самым показательным в отношении интерпретации значения Польши в иерархии территорий Российской империи может стать надгробная надпись на могиле Александра I. Согласно материалам Печальной комиссии, 24 декабря 1825 г. император Николай I утвердил ее в следующем варианте:
Александр I
Император и Самодержец Всероссийский
Царь Польский и Великий князь Финляндский
и прочая и прочая и прочая[69]
Слова, высеченные на могиле покойного императора, были свидетельством его императорского достоинства и прямо указывали на главные регионы в составе Российского государства. Оптика политического, помимо указания собственно на империю, была смещена в сторону Запада, а именно европейских территорий, вошедших в состав страны при Александре I. Все остальные земли, находившиеся теперь под властью его брата Николая I, были компактно уложены в формулу «и прочая и прочая и прочая».
Отметим, что триада Россия – Польша – Финляндия была прямо заимствована из александровского документа об отречении Константина, который был опубликован Николаем вместе с манифестом о восшествии на престол. В этом тексте покойный император провозглашал: «…мы остаемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь Царствующих по общему для земнородных закону воззовет Нас от сего временного Царства в вечность, Государственные сословия, которым настоящая непреложная воля Наша и сие законное постановление Наше, в надлежащее время, по распоряжению Нашему должно быть известно, немедленно принесут верноподданническую преданность свою Назначенному Нами Наследственному Императору единого нераздельного Престола Всероссийской Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского»[70]. Формулировка, объединяющая «престолы» Российской империи, Польши и Финляндии, еще несколько месяцев активно циркулировала в корреспонденции чиновников и военных[71].
Спустя несколько дней после того, как тело Александра I нашло упокоение в Петропавловском соборе Петербурга, в Варшаве – столице Царства Польского – было проведено особое поминовение, так называемые символические похороны Александра I[72]. Грандиозные по размаху мероприятия в Царстве Польском были одновременно и похожи, и не похожи на поминовения Александра в регионах и столице Российской империи; они продлились более двух недель (26 марта (7 апреля) – 11 (23) апреля 1826 г.) и завершились огромным шествием, которое было выстроено вокруг пустого гроба, водруженного на катафалк.
В Варшаве готовиться к церемонии поминовения Александра I начали еще до окончания действа в Петербурге. Константин Павлович, не приехавший, вопреки ожиданиям, проститься с братом в Северную столицу[73], пристально следил за перемещением печального кортежа по России и событиями в Петербурге[74]. «Варшавский курьер», главная газета Царства Польского, описывала перемещение останков монарха из Таганрога в Петербург, рассказывая своим читателям о состоявшихся в губернских и уездных городах шествиях и столичных похоронах Александра[75].
Проект церемонии символических похорон в Варшаве был подготовлен в Царстве Польском, здесь же были выполнены все королевские инсигнии[76]. Из Петербурга, однако, были доставлены императорские ордена: в день похорон Александра I в столице Российской империи сразу по окончании печальной церемонии канцлер российских орденов князь Куракин отослал в Варшаву «все ордена как российские так и иностранные, коих покойный государь император изволил быть кавалером»[77].
Для поминовения Александра I в зале ассамблей Варшавского замка была устроена «печальная зала» (castrum doloris)[78]. Здесь был сооружен помост, на котором установили символический гроб Александра I. Вокруг него были размещены военные мундиры и ордена императора, здесь же были выставлены корона, скипетр, держава и меч[79]. На гроб, покрытый порфирой, был установлен бюст монарха в римской тоге и с лавровым венком на голове[80]. Пока пустой гроб находился в замке, по городу распространяли копии молитвы о польском короле Александре I[81].
Кульминацией символических похорон, как уже было сказано, стало шествие 27 марта (8 апреля) 1826 г. от Краковского предместья до собора Св. Яна[82]. Как и в Петербурге, под звук печальных маршей и артиллерийские залпы за пустым гробом императора Александра I шел весь город. Процессия вполне традиционно была «обрамлена» шествием войск и разделена на несколько уровней, каждый из которых был определенным образом осмыслен и семиотически оформлен. Основу процессии составляло шествие представителей целого ряда социальных групп и институций – горожан, духовенства, представителей образовательных учреждений, депутатов от воеводств, членов Сената и Административного совета. Перед катафалком с гробом, на котором стоял бюст покойного императора, несли регалии власти – ордена, меч, державу, скипетр и корону. За гробом вели лошадь «с седлом покойного Его Величества», за которой ехал цесаревич Константин, сопровождаемый генералитетом и штаб-офицерами[83].
Власть Александра в католической Польше была столь же сакральна, как в Таганроге, Новгороде, Москве или Петербурге. Неудивительно поэтому, что значительную часть шествия в Варшаве составляли священники – несколько «отделений» представителей католических монашеских орденов (капуцины, бернардинцы, францисканцы, кармелиты, августинцы, доминиканцы), семинаристы, а также пять епископов и, наконец, примас, глава католической церкви в Царстве Польском[84]. Каждый раз, когда катафалк достигал какого-либо костела, процессия останавливалась для раздачи милостыни: камергер и два офицера заходили в церковь, обращаясь к собравшимся внутри духовным лицам, произносили краткую речь и отдавали милостыню. Судя по сохранившимся визуальным источникам, участники шествия также заходили с милостыней в синагогу[85].
По окончании шествия в соборе Св. Яна прошла поминальная служба, которую провел примас. Он же произнес речь, главной темой которой стало воскрешение Польши под скипетром Александра I и благодарность подданных своему монарху. Воронич говорил о нации, которая пребывала в упадке столетие, но благодаря спасительным действиям Александра вновь обрела родину, мир, спокойствие и свободу[86].
При этом в церемонии не было и намека на православный контекст: православная церковь Варшавского замка и церковь на Подвальной улице, о которых речь пойдет далее, в церемонии поминовения Александра I задействованы не были. Равным образом русский сегмент церемонии был отделен от польского. Так, распространявшиеся по городу печатные копии молитвы за покойного монарха были изданы на польском, французском и иврите, тогда как печатная молитва на русском языке опубликована не была[87]. Фактически единственным официальным документом символических похорон Александра I в Варшаве на русском языке стал приказ от 18 (30) марта по Варшавскому гарнизону об участии в символической процессии «по вечно-достойной и блаженной памяти в Бозе почивающего Государя императора Александра Павловича»[88]. Иными словами, существование русского пространства в Царстве Польском если и признавалось, то исключительно в связи с дискурсом войны.
Русские полки не принимали участия в шествии, хотя и были построены на одной из улиц по ходу движения процессии[89]. В отличие от польских мундиров императора, которые выносили на подушках вместе с регалиями, мундиры полков русской армии, принадлежавшие Александру, оставались внутри строя соответствующих полков, то есть были скрыты от глаз. Приказ по Варшавскому гарнизону прямо регламентировал этот аспект: «Российские мундиры остаются на середине своих полков и в процессию не входят»[90]. После прохождения шествия мимо русских полков была проведена панихида[91]. Устройство церемонии и место в ней солдат и офицеров русской армии особенно хорошо видны на одной из иллюстраций к описанию символических похорон императора Александра I. Здесь в центре мы обнаруживаем колесницу с гробом императора, а также стоящую отдельно группу офицеров и православных священников. Художник изображает группу русских не как простых зрителей, но одновременно и не как часть процессии[92].
Символическое оформление церемонии соотносилось с Российской империей также весьма условно. Как уже упоминалось, в шествие были включены российские ордена Александра I, доставленные из Петербурга[93], а на катафалке монарха был помещен герб Царства Польского, представлявший собой изображение российского двуглавого орла с польским Белым Орлом на груди[94]. Примас Воронич в своей речи в соборе Св. Яна и авторы многочисленных сочинений, изданных к символическим похоронам, упоминали, что польский король Александр обладал также и ипостасью российского императора[95], однако гербы, декорировавшие костел Св. Яна или размещенные на флагах, которые несли за гробом Александра I, имели целью репрезентировать исключительно воеводства Царства Польского. Корона, которую выносили за гробом, апеллировала к образу исторической польской короны[96].
Поляки хоронили своего короля, и это было для них самым главным. Тот факт, что их король являлся одновременно российским императором, был признан, но удивительным образом к Российской империи это не имело почти никакого отношения. Будучи королем польской земли, территории обширной, разнообразной и величественной, он был одновременно императором в России, которая являла собой, если смотреть на обряд похорон в Варшаве, одно сплошное белое пятно. Иными словами, территория, входившая в состав Российской империи на правах автономии, не считала необходимым осмыслять или даже просто отмечать это обстоятельство. При этом, как ни удивительно, из Петербурга или хотя бы из варшавской резиденции великого князя Константина Павловича не поступало предписаний, прямых или косвенных, «заметить» огромную территорию к востоку от границы Царства Польского.
Император Николай I не предполагал, по крайней мере первоначально, чем обернется его разрешение на организацию поминовения Александра I в Варшаве. Это было первое, но далеко не последнее в истории взаимоотношений императора с поляками несовпадение видения ситуации и ее воплощения в реальности. Судя по переписке с великим князем Константином Павловичем, император представлял церемонию значительно более локальной, выстроенной вокруг мундиров покойного монарха, отправленных в Варшаву[97]. Николай I считал, что по прибытии мундиры надлежало «расположить на налое, затем пропеть панихиду, после чего отдать честь и отнести, так же, как мы относили флаги, в церковь или в другое место, где должен храниться мундир»[98].
Во время подготовки к символическим похоронам Константин Павлович представил Николаю I проект варшавской церемонии, который наверняка поразил монарха, ведь поляки выражали любовь Александру, но не Российской империи. Мы не знаем, какое впечатление произвел на императора этот документ: монарх откомментировал лишь то, что позволило ему оставаться в своей зоне комфорта, – «изволил благодарить» Константина и высоко отозвался о выучке польских войск. Никаких содержательных замечаний сделано не было[99]. Сложно сказать, увидел ли Николай в тот момент, что на западном пограничье его империи в отношении самоописания и понимания статуса Польши существует иная система координат, сформировался нарратив, не совпадающий с официальным имперским. В любом случае российский император счел за благо не противоречить Константину и не вмешиваться в «польские дела».
Череда похоронных и мемориальных мероприятий была завершена к концу апреля 1826 г., когда Николай смог наконец погрузиться в подготовку самого главного действа его правления – коронации в Москве. Как именно была в нем представлена Польша, учитывая, что идея проведения коронации в Варшаве уже появилась в частной переписке двух братьев?
По мнению Р. Уортмана, в XIX столетии (с коронации Николая I в 1826 г.) Россия представила новый образ государства – национальной империи, которая зиждется на разделении на господствующую нацию (русских) и подвластные народы[100]. Действительно, «Историческое описание Священнейшаго Коронования и Миропомазания их Императорских Величеств» фиксирует участие многочисленных депутаций – киргизы, черкесы, кабардинцы, грузины, армяне, калмыки «в их воинственных нарядах с их выразительными, характеристическими лицами», здесь же упоминаются атаманы войска Донского[101]. Польских депутаций в этом списке мы, однако, обнаружить не сможем[102].
Отсылки к Польше не фигурировали и в оформлении коронации. Так, известно, что плафон балдахина, установленного над главным монаршим троном в Успенском соборе, был украшен гербом Российской империи, а также гербами титульных земель. Выборка последних, очевидно, была осуществлена исходя из традиционных представлений о подвластной российским монархам территории. Здесь появились гербы Киева, Владимира, Новгорода, Казани, Астрахани, Сибири и Тавриды. Герб Царства Польского представлен не был[103]. В целом во время подготовки московской коронации Николая можно отметить стремление Коронационной комиссии обращаться к польским сюжетам как можно меньше.
Тот факт, что польский элемент оказался здесь отделенным от российского, едва ли объясняется исключительно николаевским планом осуществить вторую коронацию в Варшаве и установкой на то, что обращение к символике, связанной с Польшей, будет излишним. Скорее в основе подобных решений лежала прагматика – Москва помнила польские легионы Юзефа Понятовского на Бородино, пожар и разграбление города после его сдачи в 1812 г.
Коронация Николая I в Москве в 1826 г. знаменовала окончание этапа особенно острой конкуренции между Николаем и его старшим братом. Константин Павлович, который периодически, особенно в приступе гнева, мог возвращаться к идее принять власть над Польшей, в действительности отказался от мысли возложить на себя польскую корону[104]. Показательны в этом отношении воспоминания Дениса Давыдова, описавшего эмоциональную реакцию цесаревича на московское действо, знаменовавшее крах всех его надежд: «Прибыв в 1826 году в Москву для присутствия во время обряда коронования императора Николая, цесаревич был встречен сим последним на дворцовой лестнице; государь, став на колени пред братом, обнял его колени, что вынудило цесаревича сделать то же самое. Таким образом, свиделись оба царственные брата пред коронованием, по совершении которого цесаревич, выходя из собора, сказал Ф. П. Опочинину: „Теперь я отпет“»[105].
Однако, окончательно утратив возможность встать во главе империи, Константин с еще большей страстью, нежели прежде, обратился к идее стать голосом Польши, защищая и поддерживая интересы Царства перед братом и чиновным Петербургом. Он был готов привлекать для блага Польши новые, в том числе и символические ресурсы. По возвращении в Варшаву великий князь начал энергичный и уже достаточно предметный диалог с братом-императором о подготовке к коронации в Польше. Николай был готов к диалогу: его первоначальное решение приступить к разговору о коронации, объяснявшееся страхом и стремлением в сложный момент приобрести устойчивость личной власти и лояльность территории, контролируемой братом-соперником, не было все же сугубо импульсивным.
39
ПСЗ. Собрание 2. Т. 1. № 1. С. 3.
40
Archiwum Główne Akt Dawnych (далее – AGAD). F. 210. № 20. K. 15; Огинский М. Мемуары Михала Клеофаса Огинского о Польше и поляках с 1788 до конца 1815. Минск: Четыре четверти, 2015. Т. 2 (Приложения). С. 426. Оригинал на французском языке: Oginski M. Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’à la fin de 1815 / Éd. par L. Chodźko. Paris: Ponthieu; Genève: Barbezat et Delarue, 1827. Vol. 1. P. 315–316.
41
Конституционная хартия Царства Польского. С. 530.
42
Об этих планах и историографии вопроса см.: Каштанова О. С. Великий князь Константин Павлович (1779–1831 гг.) в политической жизни и общественном мнении России. С. 128–130.
43
Проанализировав тексты М. С. Лунина и Д. И. Завалишина, исследовательница пришла к выводу, что даже после отречения Константина генералитет Литовского корпуса и несколько приближенных великого князя предполагали, вопреки решениям цесаревича, организовать в полках присягу, возведя таким образом Константина на престол (Каштанова О. С. Великий князь Константин Павлович (1779–1831 гг.) в политической жизни и общественном мнении России. С. 129). В этом отношении О. Каштанова оспаривает позицию С. Б. Окуня, который полагал, что после 14 декабря 1825 г. объявление Константина Павловича королем Польши сделалось невозможным (Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. С. 85).
44
Текст манифеста был опубликован в Париже в 1827 г. как приложение к изданию мемуаров М. Огинского. Он появился на русском языке в 2015 г., но остался совершенно незамеченным в академической литературе (Огинский М. Мемуары Михала Клеофаса Огинского о Польше и поляках с 1788 до конца 1815. Т. 2. С. 426).
45
В «Полное собрание законов Российской империи» были, в частности, включены екатерининские документы, связанные с разделами Речи Посполитой, – указы назначенному белорусским генерал-губернатором З. Г. Чернышеву, а также распоряжения, адресованные М. В. Каховскому и М. Н. Кречетникову, могилевскому и псковскому губернаторам соответственно (ПСЗ. Собрание 1. Т. 19. № 13807, 13808, 13850).
46
Сенаторы описывали поляков как нацию, которую «долгая немилость божья стерла из списка наций» и которая получила «новое существование лишь благодаря неустанной воле» императора Александра I (Огинский М. Мемуары Михала Клеофаса Огинского о Польше и поляках с 1788 до конца 1815. Т. 2. С. 426–428).
47
Огинский М. Мемуары Михала Клеофаса Огинского о Польше и поляках с 1788 до конца 1815. Т. 2. С. 426–428. Оригинальный текст на фр. яз. см.: Oginski M. Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’à la fin de 1815. Vol. 1. P. 317–319.
48
Огинский М. Мемуары Михала Клеофаса Огинского о Польше и поляках с 1788 до конца 1815. Т. 2. С. 428–430. Оригинальный текст на фр. яз. см.: Oginski M. Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’à la fin de 1815. Vol. 1. P. 320–322.
49
Шильдер Н. Император Николай I и Польша. 1825–1831 гг. Вып. 2. С. 285.
50
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 472. Оп. 1. Д. 24. Л. 363 (b) об.
51
Oginski M. Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’à la fin de 1815. Vol. 1. P. 315–316.
52
[Грибовский А. М.] Воспоминания и дневники Адриана Моисеевича Грибовского, статс-секретаря императрицы Екатерины Великой. С. 112.
53
Переписка императора Николая Павловича с великим князем цесаревичем Константином Павловичем. Т. 1 (1825–1829). С. 75.
54
Торжественное ввезение в Царское Село и в столицу, и погребение тела в Бозе почивающаго императора Александра Павловича // Отечественные записки. 1826. № 25. С. 543–544.
55
Торжественное ввезение в Царское Село и в столицу, и погребение тела в Бозе почивающаго императора Александра Павловича. С. 525–528.
56
Там же; Миролюбова Г. А. Последний путь // Александр I. «Сфинкс, не разгаданный до гроба…» Каталог выставки. СПб.: Славия, 2005. С. 177; Cortège funèbre de feu Sa Majesté l’ Empereur Alexandre. Saint-Pétersbourg: [s. n.], 1826.
57
Cortège funèbre de feu Sa Majesté l’ Empereur Alexandre. P. 1–4.
58
РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 5. Л. 265–270.
59
Миролюбова Г. А. Последний путь. С. 17.
60
РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 8. Л. 279–280.
61
Там же. Д. 5. Л. 21.
62
Там же. Л. 77.
63
Там же. Л. 77–78.
64
Cortège funèbre de feu Sa Majesté l’ Empereur Alexandre. P. 15; Kurjer Warszawski. 1826. № 75. S. 297.
65
Торжественное ввезение в Царское Село и в столицу, и погребение тела в Бозе почивающаго императора Александра Павловича. С. 533–538.
66
Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 12. Оп. 1. Д. 249. Л. 1–13.
67
РГИА. Ф. 472. Оп. 8. Д. 5. Л. 32 об. – 33.
68
Там же. Л. 32 об.
69
Там же. Л. 34. К этой надписи была также добавлена информация о дате и месте рождения, смерти и погребения монарха, а также дата его вступления на престол.
70
ПСЗ. Собрание 2. Т. 1. № 1. С. 5.
71
Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 25. Оп. 161а/2. Д. 857. Л. 3, 56.
72
Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie, w dniach 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, kwietnia 1826 roku uroczyście odbytego, Warszawa: nakł. i drukiem N. Glücksberga, 1829; Kurjer Warszawski. 1826. № 63. S. 254; № 83. S. 337–338; Вестник Европы. 1826. № 8. Т. 147. С. 306–310.
73
Для великого князя Константина и его жены были приготовлены траурная одежда и экипаж (Миролюбова Г. А. Последний путь. С. 169, 171).
74
Генерал В. Орлов-Денисов писал Константину Павловичу в Варшаву пространные письма с донесениями о том, что происходило во время каждой из остановок, и пересылал печатные церемониалы и литографии (РГВИА. Ф. 25. Оп. 2/161а. Д. 492. Л. 30–95).
75
Kurjer Warszawski. 1826. № 5. S. 1–2; № 15. S. 1–2; № 59. S. 1; № 77. S. 1.
76
Краевский А. Польские короны Московского Кремля. С. 64; Коварская С. Я. Погребальные церемониал и регалии при Российском императорском дворе первой половины XIX в. // Верховная власть, элита и общество в России XIV – первой половины XIX в.: Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. М., 2009. С. 72.
77
РГВИА. Ф. 25. Оп. 2/161а. Д. 492. Л. 156.
78
Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. Appendix.
79
Краевский А. Польские короны Московского Кремля. С. 64.
80
Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. Appendix.
81
AGAD. F. 190. № 92. K. 180–191.
82
Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. S. I–XXXIV; AGAD. F. 197. № 675. K. 3–4. В последний момент из‐за непогоды церемония была перенесена с 7 на 8 апреля (Kurjer Warszawski. 1826. № 82. S. 333; № 83. S. 337–338).
83
РГВИА. Ф. 25. Оп. 2/161а. Д. 492. Л. 154–154 об.; Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. P. I–XXXIV; AGAD. F. 197. № 675. K. 66–111; Kurjer Warszawski. 1826. № 82. S. 1; № 83. S. 1; № 84. S. 1; № 86. S. 1; № 87. S. 1; № 88. S. 1; № 89. S. 1.
84
Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. S. VIII–IX.
85
Ibid. Appendix.
86
Woronicz J. P. Mowa przy obrzędzie żałoby narodowéy po wiekopomnéy pamięci nayjaśnieyszym cesarzu Wszech Rossyy Alexandrze I, krolu polskim, miana w kościele metropolitalnym warszawskim. [Warszawa, 1826.] S. 1–16.
87
AGAD. F. 190. № 92. K. 180–191.
88
РГВИА. Ф. 25. Оп. 2/161а. Д. 492. Л. 154–154 об.
89
Там же. Л. 154.
90
Там же. Л. 154 об.
91
Там же.
92
Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. Appendix.
93
РГВИА. Ф. 25. Оп. 2/161а. Д. 492. Л. 156. Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. S. XVIII–XIX; AGAD. F. 197. № 675. K. 3–4.
94
Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (далее – ОР РНБ). Ф. 1001. Оп. 1. Д. 287. Л. 78; Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. Appendix.
95
Woronicz J. P. Mowa przy obrzędzie żałoby narodowéy po wiekopomnéy pamięci nayjaśnieyszym cesarzu Wszech Rossyy Alexandrze I; Meyzner J. Elegia na zgon wiekopomney pamięci Alexandra I Cesarza Wszech Rossyi Krola Polskiego; Westchnienia czułego Polaka w dniu 13 czerwca roku 1826 jako rocznicę oglądania po raz ostatni wiecznéy pamięci nayiaśnieyszego Aleksandra Igo, cesarza wszech Rossyi, wskrzesiciela i króla Polski. Warszawa, 1826; Jaskólski F. Wiersz na zgon wiecznéy pamięci nayjaśnieyszego Alexandra Igo cesarza wszech Rossyi, króla polskiego etc. etc. etc. Warszawa, 1826. Opis żałobnego obchodu po wiekopomney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze I, Cesarzu Wszech Rossyi Królu Polskim w Warszawie. S. XIII–XVI.
96
Ibid. S. XIII–XVI.
97
Переписка императора Николая Павловича с великим князем цесаревичем Константином Павловичем. Т. 1 (1825–1829). С. 11, 45, 63, 67, 73, 77.
98
Там же. С. 16.
99
РГВИА. Ф. 25. Оп. 2/161а. Д. 492. Л. 144–144 об.
100
Уортман Р. Символы империи: экзотические народы в церемонии коронации российских императоров // Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. В. Герасимова, С. В. Глебова, А. П. Каплуновского, М. Б. Могильнер, А. М. Семенова. Казань: Центр исследования национализма и империй, 2004. С. 409–426.
101
Историческое описание Священнейшаго Коронования и Миропомазания их Императорских Величеств Государя Императора Николая Павловича и Государыни Императрицы Александры Федоровны // Отечественные записки. 1827. Ч. 31. С. 172, 371–373.
102
О послах, прибывших на коронацию, см.: Там же. С. 378.
103
Пятницкий П. П. Сказание о венчании Русских царей и императоров. С. 51.
104
Каштанова О. С. Великий князь Константин Павлович (1779–1831 гг.) в политической жизни и общественном мнении России. С. 132.
105
Выскочков Л. В. Будни и праздники императорского двора. СПб.: Питер, 2012. С. 227. Е. П. Карнович сообщает о планах Николая принять корону от великого князя Константина: «Накануне коронации цесаревич Константин (находившийся в это время в Москве) узнал от генеральши Сорочинской, что в коронационном церемониале планируется, чтобы он возложил корону на Николая. Недовольный, по словам очевидца, этим сообщением, Константин Павлович имел объяснения с московским митрополитом Филаретом. Тот заверил цесаревича, что если ему не нравится данный пункт, то он будет заменен. В результате было решено, что Николай Павлович сам возложит на себя корону» (Карнович Е. П. Цесаревич Константин Павлович: Биографический очерк // Карнович Е. П. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1995. Т. 3. С. 522). Эта информация представляется хотя и любопытной, но едва ли достоверной – такое коронование никак не было связано с уже устоявшейся в России традицией.