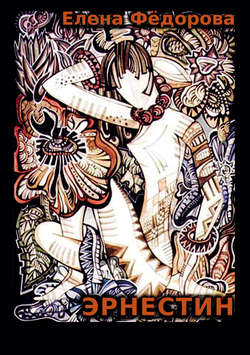Читать книгу Эрнестин (сборник) - Елена Федорова - Страница 56
NET
Матильда
ОглавлениеМария Львовна Оболенская не подозревала о том, что Павел Гринев зовет ее Матильдой. Раз в неделю она принимала у себя милого мальчика, которому в ту пору исполнилось двадцать пять лет. Для Марии Львовны он был мальчиком, ведь ей шел уже восемьдесят второй год. Почему она согласилась заниматься с Гриневым, было непонятно даже ей самой. Поначалу Мария Львовна пыталась найти ответ, а потом решила считать Павла подарком судьбы. Занимаясь с ним, Мария Львовна умножала череду добрых дел, которые ей предназначалось сделать.
Павел был прилежным учеником, горел желанием проникнуть в тайные глубины русской грамматики. Они не только повторяли правила, но еще и занимались исследованиями: разбирали древнерусские письмена, выстраивали диаграммы, по которым можно было проследить, какие изменения произошли в языке, и как он трансформировался за несколько столетий.
Благодаря Павлу, Оболенская наконец-то занялась той работой, к которой никак не решалась подступиться. Если бы не Павел, она бы вряд ли подняла гигантский пласт информации, который они с легкостью сдвинули вместе.
В доме Марии Львовны хранились берестяные грамоты тринадцатого века, которые она давно хотела расшифровать, но по каким-то непонятным причинам все откладывала и откладывала эту работу. Наконец, она решила показать грамоты Павлу. Он долго смотрел на сплошной текст, написанный на бересте, а потом воскликнул:
– Эврика! Я понял, чего здесь не хватает!
– Ну, и чего же здесь не хватает? – Мария Львовна посмотрела на него с любопытством.
– Пробелов, промежутков между словами! – ответил он. Схватил лист бумаги, переписал старинный текст по-своему, протянул Марии Львовне.
– Вот, полюбуйтесь теперь.
– Да, теперь текст выглядит лучше, – сказала она.
– Давайте разобьем слова на слоги и будем читать их так, как они написаны, – предложил Павел.
– А что вы скажете по поводу ошибок? – спросила она.
Он ответил тоном знатока:
– Мария Львовна, не стоит считать наших предков безграмотными людьми. Давайте на миг представим, что все они были людьми образованными и любили свой язык.
Это предположение ей показалось весьма разумным. Она улыбнулась, взяла послание, кое-что подправила, воскликнула:
– Павлуша, мы с вами, действительно, сделали открытие! Мы открыли новое направление в лингвистике. Эти берестяные письма – семейная переписка, из которой мы можем узнать о привычках людей, писавших их, воссоздать мир, в котором они жили. Вот, смотрите, что пишет автор послания: «изумелася есве» – мы все удивились астрономической сумме, которую с нас запросили. А дальше написано пятнадцать кун. Это, по всей видимости, очень большие по тем временам деньги, раз они есве изумелася.
– Вы, Мария Львовна, как синхронный переводчик, с налета письма тринадцатого века читаете, – похвалили ее Павел.
– Богатый опыт, Павлуша, – она улыбнулась, разгладила берестяную грамоту. – Это письмо от Жизнедуба к отцу. Посмотрите, как он красиво свое имя вырезал. А дальше короткий текст, похожий на современное телефонное послание.
– CMC, – подсказал Павел. – Совсем маленькое сообщение.
– У вас оно – совсем маленькое, а у них не совсем, – проговорила она с изрядной долей сарказма. – Посмотрите сколько здесь слов. А главное, берестяные письма дошли до нас с вами, пролежав под слоем земли несколько столетий. Полезные слои почвы помогли им сохраниться. А что будет с вашими мобилесками? – развела руками. – Исчезнут навеки, и никто не узнает, о чем писал Павел Гринев своему отцу, как менялись его привычки, как упрощался его язык, какие слова – паразиты губили его речь. А здесь все перед нами, – она положила ладонь на свиток, улыбнулась. – Почти все. Обычно часть прочитанного текста отрезали и выбрасывали. Но бывали случаи, когда берестяные послания сжигали, чтобы сохранить секретность.
– А вот интересно, как эти письма попали к вам? Почему вы их в музей не сдали? – спросил Павел.
Мария Львовна ответила не сразу. Она вообще никогда моментально не отвечала на вопросы, придерживалась своего жизненного кредо: «чуть позже!» Павел об этом знал, но все равно сердился на Матильду за затянувшуюся паузу, мысленно поторапливал Оболенскую:
– Матильда, сколько можно обдумывать свой ответ? Не придумывай ничего, выкладывай все, как есть. Будь честна со мной, Матильда.
А она нарочно медлила, перекладывала с места на место тетради, книги, сворачивала берестяные письма. Их у нее было десять. Все они лежали в берестяной коробке, украшенной рисунками, напоминающими наскальную живопись. Эта коробка тоже была старинной. Матильда называла ее коробом. Короб стоял в книжном шкафу за стеклянной дверцей, не привлекая к себе внимания. Хотя, если бы в дом Матильды явился человек, знающий толк в исторических ценностях, он бы короб увидел сразу.
Павел же узнал о коробе только тогда, когда они решили заняться исследовательской работой. Матильда достала его из шкафа, поставила в центре стола, сказала:
– Этой старинной вещичке, этой коробушке, несколько столетий. Достался он мне в наследство от прабабушки. Если вы, Павлуша, внимательно посмотрите на смешных пляшущих человечков, то увидите цифры: 1,2,1,5. Это – дата рождения короба, год 1215. Невероятно, да? Мне рассказывали, что 1215 год был голодным годом. В ту пору из-за неурожая чуть не погиб Великий Новгород. А эта коробушечка каким-то чудом уцелела. Каким? Непонятно. На многие вопросы ответов нет. Зато, – хитро улыбнулась. – Зато есть сказка, которую в нашей семье предают из уст в уста. Вы готовы ее услышать, Павлуша?
– Да, – сказал он.
– Дело было так, – Матильда улыбнулась. – В дом моих далеких предков пришли странники и принесли короб с зерном. Они попросили хозяев раздать всем горожанам по десять зернышек, а оставшиеся зерна посеять на заброшенном поле у сгоревшего дома.
Они строго-настрого наказали хозяевам никому про короб не рассказывать, никому его не показывать и не говорить никому о том, что они сюда приходили.
Если хозяева сделают все, как они велели, голод закончится. Если хоть что-то сделают не так, то падет на них огонь с небес, и город исчезнет с лица земли.
Странники ушли, а перепуганные до смерти люди побежали раздавать зерно.
На вопрос: «Где вы его взяли?».
Они отвечали: «Бог послал! Бог…».
Чем больше зерна они раздавали, тем больше его прибавлялось в коробе. Это заставило людей утвердиться в том, что странники – посланники небес, а короб – святыня, которую нужно бережно хранить и передавать по наследству. Так он попал в наш дом, в наш двадцать первый век.
– Может быть, вам его в музей нужно сдать? – спросил Павел.
– Может и нужно, но мне пока жалко с ним расставаться, – Матильда обняла короб. – Мне кажется, что он меня от зла оберегает, – усмехнулась. – Не подумайте, что я из ума выживаю. Я знаю, знаю, что вещи никого защитить не могут, просто мне приятно смотреть на предмет, который держали в руках посланники небес – ангелы. Мне хочется верить, что все это не сказка, а быль. Да вы сами, Павлуша, потрогайте короб. Он какой-то необыкновенный, теплый, живой, как березка, из коры которой его сделали. И как сделали – загляденье! Посмотрите, как скреплены стенки. А! И подумайте о том, что это делали люди в тринадцатом веке. Как они это делали? – он пожал плечами. – Вот и я про то. Сплошные загадки. А сколько еще тайн таит в себе наша земля, уму непостижимо.
– Вы правы, – сказал Павел. – Я тут в интернете порылся и нашел много интересного про берестяные свитки. Оказывается, первые свитки нашли в 1951 году.
– Их нашли раньше, – Матильда погладила короб, улыбнулась. – Просто вначале к берестяным свиткам относились, как к каракулям, оставленным безграмотными крестьянами. Никто всерьез не верил, что в грязи и сырости может сохраниться что-то дельное. А когда наконец-то поняли, что именно грязь и сырость спасли бересту, то с гордостью заявили о том, что не только египетские папирусы хранят тайны прошлого, но и у нас под слоем земли лежат берестяные послания!
Эти послания помогли понять, что не был наш русский народ темным и безграмотным. Они показали, что русский язык появился задолго до монголо-татарского нашествия, и дали понять, что даже мат, который сейчас становится языком всеобщего общения, не от татар пошел!
– Да-да, я об этом тоже читал, – обрадовался Павел. – И еще о том, что на Руси было два диалекта: один на северо-западе, на нем говорили в Новгороде, Пскове, Вологде, Архангельске и Перми. Второй – на юге. Он объединял Ростов, Суздаль, часть будущей Украины и центральную Россию. От слияния этих двух диалектов образовался русский литературный язык, на котором мы пишем.
– Вы, мой дорогой Павлуша, пишете на литературном языке, это верно. А вот остальная молодежь, по-моему, не только пишет, но и думает на сленге. И это очень-очень грустно, – она вздохнула, погладила короб. – А хотите я вам еще одну сказку расскажу?
– Хочу.
Они уселись на диван. Матильда налила чай в старинные с позолотой чашки из тончайшего фарфора, заговорила:
– Давным-давно в верховье Волги жил мальчик по имени Глеб. Он был серьезным не по годам. Дети бегут на реку купаться, а Глеб сидит в стороне и что-то на земле рисует. Подросли ребята, стали с девушками хороводы водить да через костер прыгать, а Глеб все в стороне сидит, не принимает участия в общем веселье.
Друзья поначалу на него обижались, а потом решили, пусть себе сидит и в землю смотрит. А он вдруг голову к небу поднял и улыбнулся.
– Что такое? – спросили Глеба друзья.
– Понял я, что мне нужно, – ответил он. – Я пойду в артель к золотых дел мастерам. Буду вместе с ними золото на сусальные листы раскатывать, купола церквей золотить.
Сказано, сделано. Приняли Глеба в артель. Работал он хорошо, и очень быстро стал одним из лучших мастеров. Но так же, как в детстве, людей сторонился, ни с кем близко не сходился, никому свою душу не раскрывал….
Слушая Матильду, Павел вспомнил, как в их первую встречу, представившись ему, она сказала:
– Меня хоть и зовут Мария Львовна, но львиного во мне ничего нет, – улыбнулась.
Улыбка у нее была очаровательной. Глаза светились, щеки чуть розовели, морщинки разглаживались, делая лицо Матильды еще привлекательней. На нее хотелось смотреть. Ее хотелось слушать. Она была из той редкой аристократической породы людей, с которых писали портреты художники девятнадцатого века. Павел гордился тем, что живет в одно время с Матильдой, что может сидеть рядом с ней на дореволюционном диване, пить чай из старинных чашек, чудом уцелевших в годы войны, слушать негромкий, чуть надтреснутый голос Матильды, и думать о том, что таких, как Матильда, не встретишь на улице. Они – историческая ценность, реликвия.
Павлу нравилось бывать в этом доме, где все-все пронизано духом вечности. Перешагнув через порог, Павел переносился в далекое прошлое, терялся во временных разломах, чтобы потом по-новому открывать для себя современность.
– Да вы не слушаете меня, Павлуша, – воскликнула Матильда. Нахмурилась.
– Слушаю, слушаю, Мария Львовна, не сердитесь, – он поцеловал ее руку. – Просто я замечтался, как ваш Глеб. Продолжайте, продолжайте, пожалуйста. Я не уйду, покуда вы мне сказку до конца не расскажете.
– Хитрец вы, Павлуша. Да еще какой хитрец, – покачала она головой и через паузу уже другим голосом, нежным. – Сказку обычным голосом сказывать нельзя. На то она и сказка – сказ… Итак, Глеб наш вырос и в артель устроился. Однажды на празднике подошла к нему девица-красавица и спросила:
– Почему ты такой невеселый да неразговорчивый, Глеб Сергеевич?
– Мысли мне покоя не дают, Настенька, – признался он.
– Может тебе надо ими с кем-то поделиться, чтобы тебе легче стало? – спросила она.
– Да не с кем мне делиться, – ответил Глеб. – Думка моя особенная, тайная. Не каждому ее открыть можно.
– А ты мне открой, – предложила Настенька. – Я твою тайну никому не перескажу, потому как люб ты мне, Глеб Сергеевич.
– И ты мне давно нравишься, Настенька, – признался он. – Ты поешь лучше всех. Сарафаны у тебя самые красивые и глаза у тебя, как небо – синие-синие, загляденье. Попросил бы я отца и матушку сватов в ваш дом послать, да не время еще. Вначале думка моя должна исполниться. Готова ты подождать, Настенька?
– Буду ждать столько, сколько потребуется, – ответила она.
Взял Глеб Настеньку за руку и к реке повел. Здесь на берегу и открыл он ей свою тайну.
– Мечтаю я, Настенька, сделать монету, которая бы счастье приносила. Хочется мне, чтобы в монете этой отражалась красота родного края, земли русской. Только не простая это задача. Никак не могу я решить, что отчеканить на счастливой монете.
– А ты сделай несколько монет, – предложила Настенька.
– Верно, – обрадовался Глеб. Обнял Настеньку. – Ой, спасибо тебе, душа моя, за добрые слова. Верно говорят: «ум хорошо, а два – лучше!» Один вопрос мы с тобой решили, а второй посложнее будет. Не знаю, сможешь ты мне помочь или нет.
– А ты открой мне свою тайну, вдруг она не такая сложная, как тебе кажется, – проговорила Настенька с улыбкой.
– Для того, чтобы монету сделать, нужно разрешение у государыни получить, – сказал Глеб. – А это, ох, как не просто. Спросит меня царица: «Что с казной станет, если каждый захочет свою монету чеканить?» А я не знаю, что ей ответить.
– А ты скажи, что монетки твои никакого вреда казне не причинят, потому что они талисманами станут. Люди их беречь будут, из рода в род передавать, как символ веры, надежды и любви к земле русской.
– Ай, да умница ты, Настенька, – похвалил ее Глеб. – Ну, слушай тогда третью загадку. Чтобы в Москву к государыне ехать, нужно хоть одну монетку сделать. А для этого особая форма нужна. Нужен искусный кузнец, который смог бы ее выковать. Но где такого мастера найти, я пока не знаю.
– Зато я знаю, – Настя рассмеялась. – Эта задачка самая простая, потому что кузнец, которого ты ищешь – мой родной брат Андрей. Его вторым Левшой зовут, потому что он собирается блоху подковывать. Только пока не может ее поймать. Думаю, он с радостью тебе поможет.
– Столько лет я счастье искал, а оно рядом было, дожидалось, когда я его замечу! – воскликнул Глеб. – Спасибо тебе, милая Настенька, ты меня самым счастливым человеком сделала.
На следующий день взялись Глеб с Андреем за работу. Старались изо всех сил, но никак не могли добиться нужных результатов. Монеты получались какими-то кривыми, некрасивыми. Прошло несколько месяцев, прежде чем решили они самую лучшую монету Настеньке показать. Посмотрела она на нее, покачала головой, сказала:
– Знаете, в чем беда ваша? В том, что вы не дело свое любите, а себя. Вы очень стараетесь, чтобы монета особенной получилась, и молва о вас по всей земле пошла. Вы прославиться хотите, а вам о другом думать надо.
– О чем же? – воскликнули в голос Глеб и Андрей. Разобиделись они на Настеньку, но виду не показали. Решили послушать, что она скажет.
– Когда вы монету выливаете, нужно думать о той радости, которую люди получат, когда монетку эту в руки возьмут, – сказала Настенька.
Взяла она кипящую медную массу, влила в форму, крышкой закрыла. Когда форма остыла, достала Настенька ровную монетку, с которой и в Москву не стыдно ехать.
– Ой, да Настенька! – воскликнул Глеб.
– Ай, да Настенька! – похвалил ее Андрей.
– Вот и название нашему талисману придумалось, – проговорила Настенька, улыбнувшись. Друзья переглянулись и воскликнули:
– Настенька!
Сделали они десяток отличных монет и к царице засобирались.
– Давайте оставим себе на память по одной монете настеньке, – предложил Андрей.
Глеб и Настя согласились. Каждый взял свою счастливую монету и надежно спрятал.
Андрей с Глебом в Москву отправились, а Настя дома осталась.
Каждый вечер приходила она на берег реки и просила Господа помочь брату и возлюбленному.
А они тем временем до Москвы добрались и в царский дворец пришли. Понравилась царице счастливая монета настенька. Похвалила она мастеров и оставила их у себя. Стали они золотых дел мастерами.
Целый год Настенька ждала Глеба и Андрея, а потом сама в Москву отправилась. Разыскала она мастеров на монетном дворе. Обрадовались они встрече. Уговорил Глеб Настеньку остаться. Свадьбу сыграли. А в положенный срок детки родились. Когда самому старшему, Федору, исполнилось десять лет, Настенька отдала ему счастливую монету и наказ дала: отвезти этот талисман обратно в родной город, чтобы он счастье людям принес.
Федор наказ матери выполнил. А чтобы монету никто себе не забрал, он ее в кирпичную стену одного из домов вставил. Каждый горожанин может на нее посмотреть и желание загадать… Вот только где этот город, я забыла, – Мария Львовна улыбнулась. – Как вам сказка, понравилась?
– Очень понравилась. Побольше бы таких сказок, добрых, поучительных, – ответил Павел, глядя на Марию Львовну. Уходить ему не хотелось. Она это почувствовала.
– Хотите еще одну сказку услышать? – в глазах блеснули озорные огоньки.
– Я готов вас слушать до бесконечности, – признался Павел.
– Ой, ли, – она покачала головой. – То-то вы все на часы поглядываете.
– Это по привычке, – Павел смутился.
– Ладно, я не сержусь, – Матильда похлопала его по руке. – Я же понимаю, как вам непросто живется в век безумных скоростей. Везде нужно успеть, объять необъятное, а времени катастрофически не хватает. Это мне уже никуда спешить не надо. Сижу, чаек попиваю да сказочки сочиняю.
– И прекрасно, что сочиняете, – похвалил ее Павел. – Мне ваши сказки нравятся. Если бы я издателем был, то выпустил бы серию книг Марии Львовны Оболенской под названием: «Мои любимые сказки».
– Умеете вы, Павлуша, тронуть женское сердце, – проговорила она с нежностью. – Ладно, так и быть, расскажу вам еще одну сказку, если у вас есть еще несколько свободных минуток.
– У нас в запасе целый час, – сказал он.
– О, вы рискуете остаться в моем старинном особняке навеки, – пошутила Матильда. Налила чай. – Кушайте и слушайте…
Началась наша история много-много лет назад, когда хан Батый решил покорить Русь. Собрал он громадное войско и, как ураган, налетел на русскую землю. Монголы жгли дома, губили посевы, убивали людей, уводили в полон русских красавиц. Казалось, что Русь обречена. Монголы праздновали победу за победой, а православный русский люд терпел поражение за поражением.
Горько плакали жены и дети, горевали воины. Непрестанно молился народ русский, просил помощи у Господа, и Он услышал их молитвы.
После очередной победы монголы решили поделить награбленное добро, которого скопилось великое множество. Каждому воину захотелось получить свою долю. Каждый рассчитывал на то, что доля эта будет больше, чем у соседа. Никто не желал уступать ни грамма золота, ни одной шкурки убитого зверя, ни одной красавицы, взятой в полон.
Невдомек было монголам, что Господь посеял раздор в их стане, чтобы уничтожить грозное войско.
Больше суток кричали и спорили монголы из-за добычи, но так и не смогли договориться. Грозное войско разбежалось в разные стороны, бросив хана Батыя одного. Случилось это между Владимиром и Тверью, как раз тогда, когда Батый вез массивные золотые ворота.
Решил он повернуть обратно. Приказал верным людям, оставшимся с ним, разломать ворота и закопать их на берегу реки Молокчи.
Хан Батый не сомневался в том, что скоро вернется обратно и заберет свой клад. Но Господь не допустил нового набега монголов на русскую землю.
В память о тех страшных временах остались сказания да названия мест. Фуникова гора – одно из таких названий, – Матильда улыбнулась. – Слышали, Павлуша, такое название?
– Про поросенка Фунтика слышал, а про гору – нет, – признался он.
– Фуникова гора находится в городе Киржач. Назвали ее так, чтобы люди не забывали о том, к чему ведет человеческая жадность, – сказала Матильда. – История эта произошла во времена монголо-татарского ига. Жил тогда в городе сборщик налогов по имени Фуня. Был он злым, завистливым, жестоким и очень жадным человеком, лишенным сострадания. Он мог запросто отхлестать плеткой и старика, и ребенка.
Издали завидев Фуню, люди прятались по домам и даже ставни на окнах закрывали. А он расхаживал по городу, выставив вперед свой громадный живот, и грозно покрикивал. Правда, ходил он мало, а все больше разъезжал на возке, обтянутом шелками, воображая себя ханом. От дождя и солнца прикрывался Фуня громадным пурпурным зонтом с золотыми кисточками.
Подъезжал Фуня к какому-нибудь дому, стучал рукояткой плетки в дверь и кричал:
– Открывайте двери, ротозеи! Пришла пора дары нести. Приехал Фуня вас спасти. Чем больше положите денег в мою суму, тем больше будет ваш прибыток. Ну же, ну же, не скупитесь. Иначе вовсе разоритесь. Несите денежки скорее, не злите Фуню, ротозеи!
Фуня встряхивал сумой, которая висела у него на шее и прикрывала его огромный живот. Фуня утверждал, что сума эта – волшебная. Тот, кто положит в нее одну денежку, потом получит три, кто положит пять, получит в пять раз больше. Правда, притрагиваться к своей суме Фуня никому не разрешал, а уж вынимать из нее денежки и подавно. Люди должны были класть деньги и надеяться, что однажды случится чудо.
И оно произошло…
Летним солнечным днем объезжал Фуня город. Возле колодца увидел он девицу-красавицу и дара речи лишился. Никогда прежде не видел он никого краше этой девушки. Тонкий стан, русая коса ниже пояса, на щеках румянец, губки алые, глаза васильковые, черный бархат ресниц, шея лебединая. Поклонилась Фуне красавица. Он приосанился. Приказал подать ему воды. Девушка протянула ему золотую чашу.
– Откуда у тебя такая дорогая вещица? – удивился Фуня.
– В доме моего батюшки много золотой посуды, – ответила красавица.
– Кто ты? – спросил он.
– Я – дочь князя, Станислава, – ответила она.
– Не знаю я никакого князя Станислава, – Фуня нахмурился. – Не смей мне морочить голову. Говори, кто ты и откуда?
– Я – Станислава, княжеская дочь, – сказала она с улыбкой. – Если хочешь, можешь чашу мою себе забрать. Положи ее в свою суму, а потом пять таких чаш из нее достанешь.
– Не учи меня, – прикрикнул на княжну Фуня. – Я без тебя знаю, что мне делать.
Схватил чашу, выплеснул воду на землю, засунул чашу в суму, стегнул коня, поехал домой. Закрылся Фуня на все замки, заглянул в суму, а там, и правда, пять золотых чаш одна краше другой.
– Вот так подарочек мне княжна преподнесла! – обрадовался он. – Если так дело пойдет, я скоро богаче хана Батыя стану.
Утром Фуня принарядился и поехал к колодцу. Еще издали увидел он Станиславу. Одета она была в красный сарафан, сафьяновые сапожки, а голову украшал кокошник, расшитый жемчугами да каменьями драгоценными.
– Доброго здоровья доброму господину, – приветствовала Фуню княжна. – Как спали-почивали?
– О тебе думал, – признался он. Спрыгнул на землю, подошел к княжне, взял ее за белую руку, сказал:
– Хочу прокатить тебя на своем возке. Не годится княжеской дочери за водой ходить. Садись. Спрячься от солнышка под моим зонтом пурпурным.
– Далеко ли мы поедем? – спросила Станислава.
– В свой дом тебя отвезу, – ответил он.
– А далеко ли живете вы, мой господин? – спросила княжна.
– На горе, которую я своим именем назвал, – ответил он.
– А как зовут вас, мой господин? – поинтересовалась Станислава.
– Вижу, ты не здешняя, иначе знала бы мое имя. Оно в Киржаче всем известно, – усмехнулся он. – Я – Фуня, главный визирь хана Батыя, его правая рука.
– Редкое у вас имя. А что оно означает?
– В переводе с монгольского Фуня – счастливчик, ставленник богов, – соврал он не моргнув глазом. – Такое имя только избранным дают.
– Вы и в самом деле счастливчик, мой господин, – проговорила Станислава с улыбкой. – У вас сума волшебная, зонт пурпурный, да еще и дочь княжеская помощницей вашей станет. Вы ведь меня в свой дом неспроста зовете. Так?
– Так, – подтвердил Фуня, хлестнув коня.
Привез он княжну в свой дом, усадил ее за стол, принялся угощать восточными сладостями. Сам за стол сел, но суму с шеи не снял. Боялся за свое богатство. Хоть и очаровала его Станислава, но и ей нельзя было притрагиваться к ханской казне. Да и привык Фуня живот с сумой поглаживать.
Станислава поблагодарила хозяина за угощение, сняла кокошник, протянула Фуне со словами:
– Положите его в свою суму, мой господин, и станете самым богатым человеком на земле.
– Посмотрим, посмотрим, что с твоими каменьями сотворит моя волшебная сума, – проговорил Фуня, заталкивая кокошник внутрь.
Через пару минут он почувствовал, как потяжелела сума, заметил, что она увеличилась в размерах. Обрадовался.
– Мой господин, ваша ноша становится неподъемной! – воскликнула Станислава. – Поставьте скорее свою суму на пол, чтобы она не сломала вам шею.
Фуня последовал ее совету, стер пот с лица, несколько раз глубоко вздохнул:
– Не думал я, что каменья драгоценные могут такими тяжелыми быть. Надо взглянуть на них поскорее.
Открыл он суму, а оттуда вырвался огненный дракон. Схватил он Фуню в свои крепкие лапы и не отпускал до тех пор, пока не превратил его в горстку пепла. Когда дело было сделано, огненный дракон исчез, а в горницу вошли два русских богатыря в белых шелковых рубахах, расшитых золотыми нитками.
– Возьмите ханскую казну и раздайте людям, – сказала Станислава. – Давайте им в три раза больше того, чем они попросят.
– А хватит ли нам денег? – спросил один богатырь.
– Хватит, и еще останется, – ответила княжна.
– А как мы узнаем, правду нам говорят люди или нет? – спросил второй богатырь.
– Богатство неправедное сделает крылья и улетит, – ответила Станислава. – Только щедрые и добрые люди получат награду.
Хлопнула она в ладоши, обернулась белой голубкой, полетела к Благовещенскому собору. А богатыри пошли деньги людям раздавать.
Те, чьи сердца были чисты, получили прибыль. Деньги, которые отнял у них Фуня, утроились. Тот же, кто богатырей обманул, остался ни с чем. Превратились деньги, добытые нечестным путем, в черных ворон и улетели вон.
Долго сидела на маковке храма белая голубка. Внимательно смотрела она на людей, несущих свои дары Господу в благодарность за спасение от монголов. А когда она взлетела в небеса, зазвонили колокола. Разлился колокольный звон по земле, разнося во все концы благую весть.
– Зло побеждено. Свободна земля русская… И вы, Павлуша, свободны, – Матильда поднялась. – А знаете, мне вдруг мысль пришла о том, что жадность человеческая может запросто красавицу в лягушку превратить. Даже не в лягушку, а в жабу, огромную бородавчатую амфибию, – поежилась. – Приглядитесь к красавицам, Павлуша, и вам сразу станет ясно: царевна-лягушка перед вами или жадная жаба.
– Вы все так тонко подмечаете, Мария Львовна, что я просто диву даюсь. Как, как вам в голову такие сравнения приходят? – воскликнул Павел.
– Поживете с мое, и у вас много разных ассоциаций появится. Наблюдайте и делайте выводы – вот главное правило мудрого человека, – ответила она.
– Вы – прекрасный учитель, Мария Львовна. Я бы даже сказал – прекраснейший. Я рад, что мы с вами встретились…
– Полно вам, Павлуша, – прервала она его. – Вы так говорите, словно прощаетесь со мной навеки. Мы увидимся в воскресенье, как обычно. Или у вас другие планы?
– Мне придется на пару недель уехать, – ответил он.
– Пара недель – это миг по сравнению с вечностью, Павлуша. Увидимся.
Они распрощались. Он вышел из подъезда, послал Матильде воздушный поцелуй, сел в машину, уехал. А она еще долго стояла у окна, смотрела на золотую осеннюю листву, на чуть порозовевшее закатное небо и улыбалась. Встречи с Павлом возвращали ее в ту счастливую пору влюбленности, когда она еще не была Марией Львовной – борцом с безграмотностью, а была юной Марусей Оболенской, за которой ухаживал профессор кафедры естествознания Павел Степанович Передольский.
Имя Павел стало для нее с той поры любимым именем. Она называла своего ученика Павла Гринева Павлушей, вкладывая в это имя всю свою любовь и нежность. Чувствовал ли это Павел? Наверное, да, потому что лицо его преображалось. Из заносчивого мальчишки он вдруг превращался в милого юношу с горящими глазами и пытливым взглядом. Павел был пластилином, из которого Мария Львовна лепила человека, похожего на профессора Передольского.
Временами Марии Львовне чудилось, что Павлуша Гринев и есть Павел Степанович Передольский, возродившийся после смерти и явившийся к ней в образе юнца, чтобы она поняла, какие муки он испытывал, ожидая их встреч. Отгонять эту мысль Марии Львовне становилось все труднее и труднее. И тогда она решила предаться воспоминаниям, окунуться в прошлое с головой, стать юной Марусей Оболенской и пройти весь путь с самого начала.
– Ах, как ухаживал за мной Передольский! – прикрыв глаза, восклицала Мария Львовна. – Это было так галантно, красиво, аристократично. Он целовал мне ручку, а я смущалась, считая этот жест пережитком капитализма, атавизмом, чуждым современному советскому человеку – строителю коммунизма. Как хорошо, что тогда я свои мысли вслух не высказывала, робела перед профессором Передольским. Да и что греха таить, мне очень нравилось быть барышней Марусей, с которой убеленный сединой господин разговаривает на «вы»…