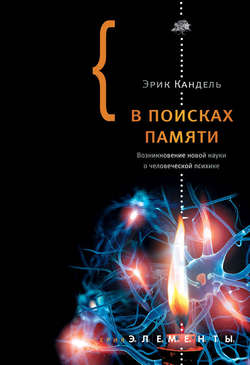Читать книгу В поисках памяти: Возникновение новой науки о человеческой психике - Эрик Кандель - Страница 10
Часть вторая
8. Разные воспоминания – разные участки мозга
ОглавлениеК тому времени, когда я оказался в лаборатории Уэйда Маршалла, я уже перешел от наивного стремления найти в мозге “я”, “оно” и “сверх-я” к несколько более внятной идее, что поиск биологических основ памяти может оказаться эффективным подходом к изучению высшей нервной деятельности. Мне было ясно, что обучение и память имеют принципиальное значение для психоанализа и психотерапии. В конце концов, многие стороны психологических проблем связаны с обучением, а психоанализ основан на принципе, что чему можно обучиться, тому можно и разучиться. Однако обучение и память имеют принципиальное значение и для нашей личности в целом. Они делают нас теми, кто мы есть.
Но биология обучения и памяти того времени зашла в тупик. Крупнейшим авторитетом в этой области был Карл Лешли – профессор психологии в Гарварде, убедивший многих ученых, что в коре головного мозга нет областей, специфически ответственных за память.
Вскоре после того, как меня взяли в Национальный институт психического здоровья, два исследователя в корне изменили эту ситуацию. Бренда Милнер, психолог из Монреальского неврологического института при Университете Макгилла, и Уильям Сковилл, нейрохирург из Хартфорда в штате Коннектикут, сообщили, что им удалось найти участки мозга, специфически связанные с памятью. Эта новость имела огромное значение для меня и многих других, потому что она означала, что теперь, возможно, будет окончательно разрешен давний спор об устройстве человеческой психики.
До середины хх века поиски вместилища памяти в мозге были связаны с двумя противоположными представлениями о работе головного мозга, в особенности его коры. Согласно первому, кора головного мозга составлена из отдельных участков, выполняющих специфические функции: один отвечает за речь, второй – за зрение и т. д. Другое представление состояло в том, что психические функции порождаются совместной деятельностью всей коры.
Первым активным сторонником идеи, что различные свойства психики помещаются в специфических участках коры, был Франц Йозеф Галль, немецкий врач и нейроанатом, преподававший в Венском университете с 1781 по 1802 год. Галль выдвинул две концепции, оказавшие сильное влияние на развитие науки о психике. Во-первых, он утверждал, что все психические явления имеют биологическую природу, значит, порождаются мозгом. Во-вторых, он предположил, что кора головного мозга разделена на много участков, управляющих определенными психическими функциями.
Идея Галля о том, что все психические явления имеют биологическую природу, противоречила дуализму – царившей в то время теории. Эта теория, сформулированная в 1632 году Рене Декартом, математиком и отцом современной философии, предполагает, что люди обладают двойственной природой: материальным телом и нематериальной и неразрушимой душой, живущей вне тела. Эта двойственная природа связана с двумя типами субстанций. Res externa – материальная субстанция, наполняющая тело, в том числе головной мозг, – бежит по нервам и придает животную силу мышцам. Res cogitans – нематериальная субстанция мысли, свойственная только людям. Она порождает рациональное мышление и сознание, а ее нематериальность отражает духовную природу души. Рефлекторные действия и многие другие физические формы поведения осуществляются мозгом, а психические процессы осуществляет душа. Декарт считал, что эти два начала взаимодействуют друг с другом посредством эпифиза – небольшой структуры, расположенной в глубине мозга.
Римско-католическая церковь, чувствуя, что новые открытия анатомии угрожают ее авторитету, приняла дуализм, потому что он разделял сферы науки и религии. Радикальная позиция Галля, ратовавшего за материалистический взгляд на психику, привлекала научное сообщество тем, что предполагала отказ от концепции небиологической души, но влиятельные консервативные силы общества видели в ней угрозу. Император Франц i даже запретил Галлю выступать с публичными лекциями и изгнал из Австрии.
Галль также рассуждал, за какие функции отвечают различные области коры. Академическая психология того времени признавала двадцать семь психических свойств. Галль приписал эти свойства двадцати семи различным участкам коры, которые он называл “психическими органами”. (Впоследствии как самим Галлем, так и его последователями к ним были добавлены новые.) Психические свойства, такие как фактическая память, осторожность, скрытность, надежда, вера в Бога, возвышенность, родительская и романтическая любовь, были одновременно абстрактны и сложны, но Галль настаивал на том, что каждым из них управляет единственный, конкретный участок мозга. Эта теория локализации функций вызвала в науке споры, продолжавшиеся вплоть до следующего века.
Теория Галля была верна по сути, но ущербна в деталях. Во-первых, большинство “психических свойств”, считавшихся во времена Галля отдельными функциями психики, слишком сложны, чтобы их мог порождать единственный участок коры головного мозга. Во-вторых, метод, которым пользовался Галль, приписывая функции определенным участкам мозга, был основан на ошибочных представлениях.
Галль с недоверием относился к исследованиям поведения людей с повреждениями тех или иных участков мозга, поэтому клиническими данными он пренебрегал. Вместо этого он разработал метод, построенный на исследованиях черепа. Он полагал, что использование каждой области коры головного мозга вызывает ее рост, который приводит к тому, что покрывающий эту область участок черепа начинает выступать (рис. 8–1).
8–1. Френология. Франц Йозеф Галль (1758–1828) приписывал различные психические функции определенным участкам мозга, основываясь на своих наблюдениях. Впоследствии Галль разработал принципы френологии – системы, которая связывала свойства личности с шишками на черепе. (Портрет Галля любезно предоставил Энтони Уолш.)
Галль разрабатывал теорию поэтапно, начиная с юных лет. Когда он учился в школе, у него создалось впечатление, что самые умные из его одноклассников отличались выступающим лбом и глазами. Встретившаяся ему очень романтичная и очаровательная вдова, напротив, имела выступающий затылок. Так Галль пришел к убеждению, что сильные умственные способности увеличивают лобную часть мозга, а романтические чувства приводят к увеличению затылочной части. Галль считал, что, исследуя шишки и впадины на черепах людей, богато наделенных теми или иными свойствами, он может определять, где эти свойства сконцентрированы.
Он продолжил приведение своих представлений в систему, когда его, в те годы молодого врача, назначили заведовать венским сумасшедшим домом. Там он исследовал черепа преступников и обнаружил шишку над ухом, которая явственно напоминала таковую на черепах хищных животных. Галль связал эту шишку с частью мозга, которую он считал ответственной за садистское и разрушительное поведение. Такой способ определения местоположения психических свойств привел к возникновению френологии – дисциплины, связывающей свойства личности и характера с формой черепа.
К концу двадцатых годов xix века идеи Галля и френология как дисциплина приобрели необычайную популярность даже в широких кругах общества. Пьер Флуранс, французский невролог-экспериментатор, решил подвергнуть их проверке. Используя в экспериментах разных животных, Флуранс один за другим удалял участки коры головного мозга, которые Галль связывал с определенными психическими функциями, но ему не удалось найти ни одно из нарушений поведения, предсказываемых Галлем. Более того, Флуранс не нашел никакой связи между нарушениями поведения и определенными участками коры. Имел значение только размер удаленной области, а не ее положение или сложность затрагиваемого поведения.
Поэтому Флуранс пришел к выводу, что все участки коры головного мозга одинаково важны. Он доказывал, что кора эквипотенциальна, то есть каждый ее участок может выполнять любые из функций мозга. Поэтому повреждение определенного участка коры не должно сказываться на одном свойстве сильнее, чем на другом. “Все ощущения и решения занимают одно и то же место в этих органах [т. е. структурах мозга]; такие свойства, как восприятие, понимание и воля, составляют, по сути, единое свойство”, – писал Флуранс.
Идеи Флуранса вскоре завладели умами ученого сообщества. Несомненно, их принимали так охотно отчасти благодаря убедительности экспериментальных данных, но отчасти и потому, что они соответствовали чаяниям религиозных и политических противников материалистических представлений Галля о мозге. Если эти материалистические представления верны, значит, нет нужды предполагать существование души как необходимого посредника когнитивных функций человека.
Спор между последователями Галля и Флуранса в течение нескольких последующих десятилетий задавал тон в изучении мозга. Этот спор был разрешен лишь во второй половине xix века, когда данным вопросом заинтересовались два невролога: Пьер-Поль Брока в Париже и Карл Вернике в городе Бреслау в Германии[13]. Исследуя пациентов с определенными нарушениями речи, или афазиями, Брока и Вернике сделали ряд важных открытий. Взятые вместе, эти открытия составляют одну из самых захватывающих глав истории изучения человеческого поведения, потому что впервые позволили прикоснуться к биологическим основам такой сложной когнитивной способности, как речь.
Вместо того чтобы проверять идеи Галля, изучая здоровый мозг, как делал Флуранс, Брока и Вернике исследовали болезненные состояния, которые врачи того времени называли экспериментами природы. Брока и Вернике удалось связать определенные нарушения речи с повреждениями специфических областей коры головного мозга, тем самым убедительно доказав, что по крайней мере некоторые формы высшей психической деятельности возникают именно там.
Кора головного мозга имеет две важные особенности. Во-первых, хотя оба ее полушария выглядят зеркальными отражениями друг друга, они отличаются и строением, и функциями. Во-вторых, каждое полушарие задействовано прежде всего в обеспечении чувствительности и подвижности противоположной стороны тела. Таким образом, сенсорная информация, поступающая в спинной мозг с левой стороны тела, например от левой руки, по пути в кору головного мозга переходит на правую сторону нервной системы. Аналогичным образом моторные области правого полушария управляют движениями левой стороны тела.
8–2. Два первопроходца в области изучения функций мозга, связанных с речью. (Портреты перепечатаны из книги: Kandel, Schwartz, Jessell, Essentials of Neural Science and Behavior, McGraw-Hill, 1995. Фотографии мозга любезно предоставила Ханна Дамазью.)
Брока (рис. 8–2), который был не только неврологом, но также хирургом и антропологом, основал дисциплину, теперь называемую нейропсихологией, то есть науку об изменениях психических функций, вызываемых повреждениями мозга. В 1861 году он описал случай парижского сапожника по фамилии Леборнь, которому был пятьдесят один год и у которого за двадцать один год до этого случился инсульт. В результате этого Леборнь потерял способность нормально говорить, хотя мимикой и жестами он показывал, что прекрасно понимает речь других людей. У Леборня не было ни одного из обычных двигательных нарушений, вызывающих проблемы с речью. Движения его языка, губ и голосовых связок не были затруднены. Более того, он без труда мог произносить отдельные слова, свистеть и напевать мелодии, но не мог говорить грамматически правильно и составлять полные предложения. При этом его недуг не ограничивался устной речью: на письме Леборнь тоже не мог выражать свои мысли.
Леборнь умер через неделю после того, как его обследовал Брока. В ходе вскрытия его трупа Брока обнаружил поврежденную область в участке лобной доли, который теперь называют зоной Брока (рис. 8–2). Впоследствии он исследовал мозг еще восьми неспособных говорить пациентов после их смерти. У каждого из них обнаружилось похожее повреждение лобной доли левого полушария. Открытие Брока было первым эмпирическим свидетельством того, что строго определенная психическая функция может быть связана со специфическим участком коры. Исходя из того, что повреждения мозга этих пациентов находились в левом полушарии, Брока установил, что два полушария, хотя и кажутся симметричными, играют разные роли. В связи с этим открытием в 1864 году он провозгласил один из самых знаменитых принципов работы мозга: Nous parlons avec l’h misphre gauche! (“Мы говорим левым полушарием!”).
Открытие Брока послужило стимулом для поиска местоположения центров других поведенческих функций в коре головного мозга. Через девять лет два немецких физиолога, Густав Теодор Фрич и Эдуард Хитциг, взбудоражили научное сообщество, продемонстрировав, что собаки предсказуемым образом двигают конечностями, если стимулировать электричеством определенную область их коры. Более того, Фрич и Хитциг определили положение маленьких участков коры, которые управляют отдельными группами мышц, вызывающими такие движения.
В 1879 году Карл Вернике (рис. 8–2) открыл другую форму афазии. При этом нарушении затрудняется не способность самого пациента говорить, а его восприятие устной и письменной речи. Кроме того, хотя люди, страдающие афазией Вернике, и способны говорить, любому другому человеку их речь представляется совершенно бессвязной. Эта афазия, как и афазия Брока, вызывается повреждением левого полушария, но в данном случае задней его части – в области, которую теперь называют зоной Вернике (рис. 8–2).
Основываясь на собственных открытиях и открытиях Брока, Вернике выдвинул теорию, описывающую систему управления речью в коре головного мозга. Хотя эта теория и проще, чем современные представления о механизмах, лежащих в основе речи, она тем не менее не противоречит нашим нынешним взглядам на устройство мозга. Первый сформулированный Вернике принцип состоит в том, что любые сложные формы поведения обеспечиваются работой не одного, а нескольких специализированных и взаимосвязанных участков мозга. В случае речевого поведения это зоны Вернике (восприятие речи) и Брока (построение речи). Эти зоны, как было известно Вернике, связаны особым нервным пучком (рис. 8–3). Вернике также понимал, что обширные, взаимосвязанные сети специализированных участков, таких как зоны управления речью, дают людям ощущение цельности своей психической деятельности.
8–3. В сложных формах поведения, таких как речь, задействовано несколько взаимосвязанных участков мозга.
Представление о том, что разные участки мозга специализируются на выполнении разных функций, играет ключевую роль в современной нейробиологии, а предложенная Вернике модель сети взаимосвязанных специализированных участков лежит в основе исследований работы мозга. Одна из причин того, что ученые так долго не могли прийти к этой идее, кроется еще в одном принципе организации нервной системы: нейронным сетям нашего мозга свойственна встроенная избыточность. Многие сенсорные, моторные и когнитивные функции обслуживаются отнюдь не единственным проводящим путем: одна и та же информация обрабатывается одновременно и параллельно в различных участках мозга. Когда один из таких участков или путей повреждается, другие могут оказаться способными компенсировать эту утрату хотя бы частично. Когда происходит такая компенсация и повреждение не приводит к очевидным поведенческим нарушениям, исследователям бывает трудно установить связь между поврежденным участком мозга и поведением.
После того как стало известно, что построение и понимание речи происходит в определенных участках мозга, были обнаружены и участки, управляющие каждой из форм чувствительности, что заложило фундамент будущего открытия Уэйдом Маршаллом сенсорных карт осязания, зрения и слуха. Обращение таких исследований к проблемам памяти стало исключительно вопросом времени. При этом оставался открытым принципиальный вопрос о том, обеспечивается ли память отдельным нервным механизмом или же она неразрывно связана с сенсорными и моторными механизмами.
Первые попытки установить местоположение участка мозга, ответственного за память, и даже наметить границы памяти как отдельного нервного механизма не увенчались успехом. В двадцатые годы xx века Карл Лешли провел известную серию экспериментов, в которых обученные крысы проходили простые лабиринты. Затем он удалял этим крысам различные участки коры головного мозга и через двадцать дней повторно проверял их способности, чтобы узнать, в какой степени сохранялись приобретенные ими навыки. На основании результатов этих экспериментов Лешли сформулировал “теорию действующих масс”, согласно которой степень нарушения памяти определяется размером удаленного участка коры, а не его местоположением. Лешли писал об этом, вторя работавшему столетием раньше Флурансу: “Несомненно, навык прохождения лабиринта, когда он уже выработался, не локализуется в какой‑либо одной области головного мозга, и качество работы этого навыка каким‑то образом определяется количеством ткани, которая осталась нетронутой”.
8–4. Во время хирургических операций, связанных с эпилепсией, Уайлдер Пенфилд (1891–1976) обнажал поверхность мозга пациентов, находившихся в сознании. Затем он стимулировал различные участки коры и по реакции пациентов установил, что на роль места хранения памяти может претендовать височная доля. (Фотография любезно предоставлена архивом Пенфилда и Монреальским неврологическим институтом.)
Много лет спустя полученные Лешли результаты по‑новому истолковали Уайлдер Пенфилд и Бренда Милнер из Монреальского неврологического института. Все больше ученых проводили эксперименты на крысах, и стало ясно, что лабиринты не годятся для изучения местоположения механизма памяти. Обучение навыку прохождения лабиринта – сложная форма, в которой задействовано много разных сенсорных и моторных функций. Если лишить животное сенсорных ориентиров одного типа (например, осязательных), оно по‑прежнему может неплохо узнавать то или иное место, пользуясь другими чувствами (например, зрением или обонянием). Кроме того, Лешли сосредоточил свои усилия на наружном слое головного мозга – его коре и не изучал структуры, лежащие глубже. Следующие исследования показали, что многие формы памяти требуют участия одной или нескольких этих более глубоких областей.
Предположение, что некоторые компоненты человеческой памяти могут храниться в специфических участках мозга, впервые возникло в ходе нейрохирургических опытов Пенфилда (рис. 8–4) в 1948 году. Будучи стипендиатом Родса[14], Пенфилд учился физиологии под руководством Чарльза Шеррингтона. Он начал использовать хирургические методы для лечения фокальной эпилепсии, при которой припадки развиваются в ограниченных участках коры. Он разработал применяемую по сей день методику, позволяющую удалять участок ткани, в котором возникает припадок, не причиняя вреда психическим функциям пациента или сводя этот вред к минимуму.
Поскольку в мозге нет болевых рецепторов, операции на мозге можно проводить при местной анестезии. Поэтому во время операции пациенты Пенфилда оставались в полном сознании и могли сообщать о своих ощущениях. (Когда Пенфилд описывал это Шеррингтону, который всю жизнь работал на кошках и обезьянах, он не мог удержаться от замечания: “Представьте, каково это, когда экспериментальная система может отвечать на ваши вопросы!”) В процессе операции Пенфилд стимулировал слабыми электрическими разрядами различные участки коры головного мозга своих пациентов и определял, как такая стимуляция влияет на способность разговаривать и понимать человеческую речь. Ответы пациентов позволяли ему узнавать точное положение зон Брока и Вернике и избегать их повреждения при удалении пораженной эпилепсией ткани.
13
Ныне – Вроцлав, Польша.
14
Стипендия Родса (Rhodes scholarship) позволяет студентам из ряда стран учиться в магистратуре и аспирантуре Оксфордского университета.